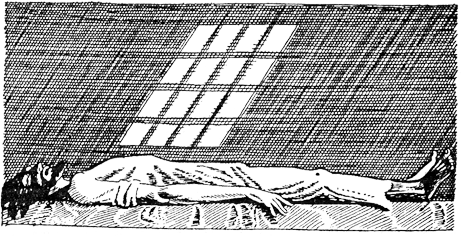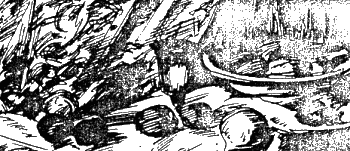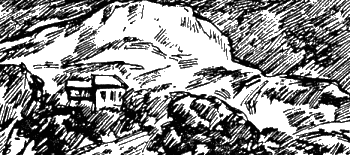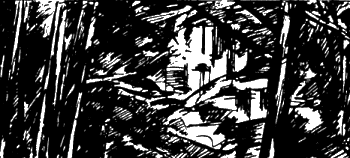Джек Линдсей
ИЗБРАННОЕ
Ганнибал
От автора
Характер этой истории так разительно напоминает слишком хорошо известный нам стиль современной политики, что читатель может заподозрить, будто я выдумал ее или, по меньшей мере, подтасовал исторические факты, чтобы создать аналогию. На это я могу лишь возразить, что взял факты такими, как они излагаются в истории Карфагена, и читатель должен винить не меня, а неизменную природу правящих классов, по милости которой события в Карфагене 196–195 годов до нашей эры наводят на мысль о Европе тридцатых годов с ее пятыми колоннами.
В самом деле, перед нами классический пример того, как легко правящие классы предают свою страну в момент, когда в ней берут верх демократические силы. В иные времена давление демократической ситуации нейтрализуется разразившимся военным конфликтом; но когда правящие классы попадают в отчаянное положение и не видят возможности разрешить внутренние противоречия путем внешней войны, они без колебаний отдают свою страну во власть врага, предпочитая погубить родину, лишь бы не идти на уступки народным массам.
Подобную картину мы все снова и снова наблюдаем в наши дни, то же самое с большой силой проявилось и тогда, когда Ганнибал предпринял попытку возродить родную землю.
Если даже читатель усомнится в моем утверждении, что я ни в коей мере не извратил этот эпизод, нет нужды пересказывать античных авторов, описавших мужественную борьбу Ганнибала. Пусть читатель обратится к кэмбриджской «Истории древнего мира», том 7, глава XV, — к труду, который никак нельзя заподозрить в демократической направленности.
Романист не может писать о древнем Карфагене, не почувствовав себя обязанным высказать свое отношение к единственному великому роману, посвященному этой теме, — к «Саламбо» Флобера. Я менее всего допускаю мысль о каком-либо сравнении моего сочинения с «Саламбо» в художественном плане. Не приходится подчеркивать и то, что поистине великолепно в этом произведении, — описание огромного варварского мира, разрываемого внутренними противоречиями и увлекаемого вперед в условиях неимоверно напряженной борьбы, и яркое изображение живописных деталей. Но вопрос о точности исторического видения Флобера — другое дело, и об этом я беру на себя смелость высказаться.
О Карфагене мы знаем еще сравнительно мало, хотя заступ археолога открыл нам много частностей, которые Флоберу не были известны. Однако не за описание частностей хотел бы я критиковать «Саламбо», а за общую историческую перспективу, данную в этой книге, за выраженную в ней историческую позицию. После тщательного изучения документов я не могу согласиться, что Карфаген, изображенный в «Саламбо», вообще имеет какое-либо отношение к подлинному Карфагену. Это произведение представляется мне просто фантазией с претензией на историчность, которая должна оправдать лирическое искусство Флобера, так и не достигшее полной свободы, ибо он никогда не мог найти «point d'appui» — точку опоры для своей веры. Мир, изображаемый в «Саламбо», — это мир, где единственные движущие силы — стяжательство и исступленность вожделений; поэтому конфликт в романе — конфликт кошмара. Эта концепция родилась из неистового отвращения Флобера к миру наполеоновской империи, и чтобы обмануть самого себя и получить стимул к написанию большого полотна, в котором он мог бы выразить это неистовое отвращение, Флобер обращается к античному миру.
Почему именно к Карфагену? Ответить на этот вопрос нетрудно. В годы, когда творил Флобер, французский империализм, вышедший наконец на большую дорогу, после того как в 1848 году он утопил в крови демократические идеалы парижского пролетариата, стал быстро распространяться на территории, бывшей когда-то карфагенской империей.
Карфаген для Флобера — только символ мира Наполеона III; живописные детали — это лишь частицы странного мира фантазии, дающие ему смелость развертывать широкую, хаотическую картину жестокой борьбы, которая была бессмысленной и ужасала его.
Что придает фантазии Флобера совершенно искаженный, нереальный характер? То обстоятельство, что он выбирает только одну половину своего собственного мира и потому воссоздает только одну половину античного мира. В своем собственном мире он мог осознать лишь силы, направленные на разрушение; он видел революционное движение масс только как обратную сторону разрушительного и хищнического империализма, господствовавшего в стране. Поэтому в «Саламбо» он изобразил борьбу, длящуюся бесконечно и прерываемую лишь временными передышками, которые сменялись новыми жестокостями.
Величие души Флобера проявилось в том, что он не видел никакой надежды для человечества, если оно по-прежнему будет вкладывать в понятие человечности лишь категории классового общества. Это тот элемент бескомпромиссности, который отличает Флобера от обыкновенного эстетствующего краснобая, возвышает над его собственными теориями и делает его учеников неспособными оценить глубины ума своего учителя.
В действительности же во Франции его времени существовали силы обновления, силы, которые столь же решительно противились видениям его кошмарного мира, как и он сам; но со своей позиции он не мог воспринять этот факт и поэтому не мог достигнуть той свободы творчества, которую беспрестанно и с тщетностью, свойственной только истинно великим, мучительно и страстно искал.
Силы обновления действовали также и в древнем Карфагене, и история событий 196–195 годов до нашей эры
[1]. — Это история о том, как величественно поднялись и утвердили себя эти силы и как потерпели крушение не по своей вине.
Почти все сведения о народе Карфагена исходят из враждебных ему источников. Поэтому историки, которые едва ли руководствовались критическим чувством, ограничивались тем, что воспроизводили клеветнические измышления. Верно, конечно, что при отсутствии карфагенских первоисточников очень трудно представить встречные доказательства. Но не так трудно, как об этом принято думать.
Народ, если он состоит из мрачных, одержимых жаждой наживы филистеров, — какими хотят изобразить карфагенян историки, — не способен создать человека, подобного Ганнибалу; не может проявить столь блестящих качеств в мореплавании и в смелых исследованиях, — качеств, в которых нельзя отказать карфагенянам; не может дать столь мужественных первооткрывателей обширных земель, каких дали карфагеняне; не может так любить землю и земледелие, как карфагеняне, несомненно, любили, о, чем свидетельствует трактат Магона
[2], из которого римляне извлекли для себя столь большую пользу. Такой народ не может завоевать расположения к себе местных племен, какое, несомненно, завоевали карфагеняне к концу их господства в Северной Африке. И ни один народ, если бы он состоял из филистеров, не смог бы сражаться с такой беззаветной храбростью, как сражались обреченные карфагеняне в течение трех лет, до того как плуг прошелся по их городу
[3] в 146 году до нашей эры.
В самом деле, сплошь и рядом измышления о Карфагене не выдерживают критического анализа. Например, римляне всячески старались изображать карфагенян вероломными и даже передали потомству выражение «пуническое вероломство»
[4]. Однако даже из свидетельств об отношениях между Римом и Карфагеном, дошедших до нас через Рим, явствует, что карфагеняне были очень добросовестны в выполнении своих договорных обязательств, а о римлянах повсюду говорилось, что бесстыдное предательство и вероломство были их самыми характерными чертами. Вот простой пример, как люди с нечистой совестью приписывают свои грехи тем, к кому сами были несправедливы.
Далее, Карфаген обвиняют в отсутствии у него самобытной культуры. Разумеется, это так. Ну а как же насчет Рима того периода, тем более что ему благоприятствовали его тесные связи с этрусской цивилизацией? И Карфаген и Рим — оба были молодые государства, они в то время только еще укоренялись в почву, и совершенно естественно было их обогащение культурными ценностями других народов.
Остается обвинение карфагенян в чрезвычайной жестокости по той причине, что в Карфагене совершались человеческие жертвоприношения. Но это обвинение рушится, как только мы посмотрим на Карфаген в сравнении с остальным античным миром. Даже в Афинах были принесены две человеческие жертвы искупления во время Таргелий
[5]. Несомненно, человеческие жертвоприношения существовали и в Риме вплоть до последнего века до нашей эры. Страшные рецидивы этого случались и во время гражданских войн при цезарях; затем огромное распространение получили бои гладиаторов, которые по зверствам и жестокостям оставили далеко позади Карфаген, как и любое другое государство древности. В кельтских странах Запада, у друидов, в течение столетий после описываемого периода все еще продолжались человеческие жертвоприношения, причем в таких крупных масштабах, которые не идут ни в какое сравнение с тем, что было у карфагенян.
Едва ли кто-нибудь скажет, что я идеализировал своих карфагенян; надеюсь, я обрисовал как хорошие, так и дурные их качества. Жизненность их культуры была доказана тем, как они перенесли два страшных бедствия, обрушившихся на них. Во время первого — которое здесь описано — они показали, что обладают большой потенциальной силой возрождения. Во время второго, закончившегося разрушением Карфагена в 146 году до нашей эры, они обнаружили неисчерпаемые источники мужества и стойкости.
Наконец, мы должны отдать должное культуре народа, который сумел сохранить элементы своей самобытности — язык и религию — и не поддался обезличивающему влиянию Римской империи, а в третьем и четвертом веках нашей эры сыграл большую роль в формировании западного христианства. Ибо учения североафриканских отцов церкви, от Тертуллиана до Августина, бесспорно, придали западному христианству его существенные черты.
Несколько слов о названиях, встречающихся в тексте. Карфаген — искаженное латинское Картаго, что является искаженным греческим Кархедок, что в свою очередь — искаженное семитическое Кар-Хадашт (Новый город). Я считал невозможным заставлять народ именовать свой город столь чужеродным названием, как Карфаген, и потому вложил в его уста подлинное название. Гадир
[6] (латинское Гадес) — это Кадис, очень старая финикийская колония.
Читателю, возможно, интересно будет узнать, что Ганнибал через два года после своего бегства подплыл на пяти судах к побережью Африки и высадился в Киренаике, «чтобы попытаться склонить карфагенян к войне
[7], вселяя в них надежду и веру в Антиоха, которого побудил отправиться со своей армией в Италию» (Непот). Но в Карфагене олигархи снова все прибрали к рукам. Ничего не вышло.
Шофет (римляне произносили «суфетес») — термин, обозначающий судью в Ветхом завете.
За использованные мною материалы я весьма обязан Стефену Гзеллу, автору четырехтомной «Древней истории Северной Африки» (1920–1924).
Джек Линдсей
Часть первая
«Призыв»
1
— Подай им лучшего вина и скажи, что я выйду через несколько минут.
Келбилим низко поклонился с повисшими руками и исчез между колоннами; Ганнибал остался один в саду. Осеннее солнце скупо золотило каменную стену, облетевшие кусты роз и статую атлета, затягивающего ремешок на запястье. Статуя больше не радовала Ганнибала. Его снова охватило смутное ощущение огромного пространства, которое надо преодолеть. Зато радовали голые кусты роз, унылые в этот предзакатный час, под потоком негреющего бледного золота. Что это — усталость? — спросил он себя, весь во власти тревожного сознания предстоящего ему великого и мрачного пути. Поглаживая чисто выбритый подбородок, он посмеивался над своей жаждой покоя. Ибо не покоя он так желает. И не в том мире, где обитают бессмертные. Это было лишь приятие наступающей зимы.
Воробей порхнул сверху, отважно пролетел мимо его головы, чуть не задев ее, сел на ветку росшего поблизости мирта, хвастливо чирикнул и сам же испугался произведенного им шума. Все еще поглаживая подбородок, Ганнибал смотрел, как он взлетел и скрылся за кустом. Неужели прошла моя пора? — подумал он и сразу же увидел всю бессмысленность этого вопроса. Вот моя пора — ветка умирающего года. Оба мы — и розовый куст и я — укоренились в здешней почве, но не этот красивый, глупый греческий юноша из пентеликского мрамора — имя Мирона начертано там слева, на подножии. Впрочем, зачем надпись, ведь у человека есть глаза, а? Он улыбнулся про себя, снова обретая уверенность и вместе с тем чувствуя странную неохоту двигаться. На кого это он вздумал произвести впечатление?
Он выплеснул на статую остаток хиосского вина и поставил кубок на мраморный стол. Вино стекало по красивому, наивному лицу, на котором как будто даже отразилось удивление тем, что столь оскорбительно пренебрегли его восхитительным и все-таки скучным бессмертием. Ганнибал чувствовал себя беззаботным и в то же время более одиноким, чем когда-либо. Ты лжешь, — сказал он себе. Но кого же он хотел обмануть? Что-то ускользало от него. — А я думал, не на что больше уповать и нечего опасаться: медленный огонь все выжег в моей душе. Как, однако, мягок воздух! А далеко на севере уже собираются тучи.
Из нижнего сада донесся приглушенный смех. Кто-то из рабов болтал с этим малым, Сфарагом, мать которого, несомненно, была гречанка. Этот смех вызвал у него вздох сожаления. Я могу вырвать у человека сердце и вдохнуть в него презрение к смерти, но не могу заставить его так смеяться со мной; в моем присутствии они заговорили бы о другом. Они, да и все прочие.
Раздвинув ветки миртового куста, он вышел на усыпанную гравием дорожку. Вода в каменном бассейне порыжела — пора было ее менять; на бедре мраморной нимфы блестел серебристый след, оставленный улиткой. Ганнибал резко остановился. В голове его не возникло ни одной мысли. Он медленно протянул руку, осторожно, как слепой. На миг закрыл глаза, потом пошел дальше. Он хотел услышать, о чем говорят те парни, хотя знал, что их болтовня покажется ему пустой и скучной.
Нет, он не был в нерешительности. Он уже сделал свой выбор; тогда откуда же это пронизывающее чувство отчужденности? Если бы я был в таком состоянии, когда пришел в Италию, то проиграл бы все сражения, — подумал он. — Это дурное предзнаменование. И все же пусть будет так. Я такой, какой я есть. Он снова почувствовал свою отчужденность от всего, как жрец, который очистился от мирской суеты и ждет священного мгновения. Выйдя из-за лаврового дерева, Ганнибал вспугнул двух о чем-то шептавшихся юношей. Занятый своими мыслями, он совсем забыл о них. Они стояли с красными, глупыми, юными и лукавыми лицами. Тот, которому не полагалось здесь находиться, первый увидел хозяина и, испустив сдавленный крик, согнулся почти до земли и побежал. Другой принялся с ожесточением рыхлить мотыгой землю.
— Ты подрубишь корни, Сфараг.
Сфараг еще больше раскраснелся.
— Прости меня, я не слышал, как ты подошел.
Пробормотав что-то, он стоял перед Ганнибалом с опущенными глазами и полуоткрытым упрямым ртом.
Он не знает, — подумал Ганнибал, — дерзко он вел себя или нет; он не может вспомнить; но в действительности это было скорее ребячество, дурашливый смех и отзвук его мыслей; ему хотелось их скрыть, поэтому он пришел в ужас, когда увидел, что выдал себя. И все же, — лениво и равнодушно думал Ганнибал, — если бы даже я велел его высечь, он смеялся бы, а кто-нибудь все равно целовал бы шрамы на его плечах. Но неужели я так горько завидую его молодости?
— Придешь ко мне после ужина, Сфараг, — сказал он, — и я распоряжусь об отпущении тебя на волю.
Он пристально смотрел на очаровательное лицо юноши, смуглое, с маленьким тонким носом, на свободно рассыпавшиеся кудри и красивый рот, который, пожалуй, слишком мал и с годами станет жестким и злым. Он наблюдал, как меняется выражение этого лица, словно хотел увидеть на нем отражение своих собственных мыслей. После первого потрясения, после смутного предчувствия, что эти невероятные слова наконец будут сказаны, Сфараг испытывал не столько чувство благодарности, сколько боязнь провиниться в чем-нибудь, — тогда обещание наверняка будет взято назад. Чтобы скрыть свои опасения, он бросился ниц перед Ганнибалом, обхватил его ноги и облобызал сандалии.
— Ты еще не свободен, — сказал Ганнибал сухо. — Продолжай работу.
Он повернулся, чтобы уйти, и Сфараг, испугавшись, что все испортил, нехотя поднялся и взялся за мотыгу, шепча что-то с мрачным видом.
— Придешь ко мне после ужина, — бросил ему Ганнибал.
Чем-то, по крайней мере, будет отмечен сегодняшний день; если это и не будет настоящим поводом для ознаменования, то, тем не менее, достаточным поводом. Сфараг не заслуживал того, чтобы его отпустили на волю; намерение освободить его как-то унижало самую идею свободы, и все же кто мог бы противостоять этой идее? Ганнибал вдруг снова преисполнился снисхождения и устыдился такой мысли, вспомнив переходы своей армии по римским дорогам. В его памяти возникли далекие годы. Как молод был я тогда, о Мелькарт
[8], как молод был я, когда с вершины горы глядел вниз сквозь клубящийся туман; а теперь я стар, пятидесятилетний старик и неудачник. Он ощутил пустоту меж руками, и ему страстно захотелось вновь упиваться надеждой и страхом. Шагая по дорожке к дому, он любовался узорчатой тенью, падавшей на стену от листьев и ветвей, и думал о том, что опять идет в западню, и был рад этому. Сейчас ему не терпелось поскорее оказаться на пороге дома, и он прибавил шагу. Расправив плечи, он глубоко вздохнул. Нет, он не неудачник, он в самой счастливой своей поре, и он готов. Тело его напряглось; он уже не презирал красивого греческого юношу, затягивающего ремешок и так явно дрожащего от нетерпения, что вся его атлетическая выучка сошла на нет. Пусть звучат трубы. О добрый глас опасной зари!
Его мышцы напружились, ноздри нетерпеливо раздулись в жестком изгибе, глаза сузились с затаенной страстью.
Минуту он стоял на пороге, не замечаемый гостями.
— Я здесь, господа!
Мгновенно воцарившаяся тишина казалась ему той бурей, которой он жаждал, сопротивление придавало ему силы для новой борьбы. Это было уже кое-что, но не все. Он принял решение, и все же не мог побороть чувства презрения к людям. Какие еще могут быть у меня дела с ними? Он хотел было крикнуть: Мелькарт! Освободи меня от безнадежного бдения! Однако его голос звучал холодно, вызывающе, уверенно.
Гости вскочили — не из вежливости или раболепия, а словно его приход подействовал на них, как удар бича. Секунду он стоял, слегка откинув голову, и высокомерно молчал; затем скрестил руки на груди и спокойно устремил на собравшихся холодный, пронзительный взгляд. Его ноздри вздрагивали. Он видел, что они растерялись и не знают, как ответить на его слова; но в эту минуту он хотел оставить их в состоянии замешательства и неуверенности. Надо испытать, проверить их, составить о них суждение. Надо чтобы его слова нашли у них отклик. Гостей было семеро; он знал шестерых, седьмой стоял в тени, немного поодаль и как будто был ему незнаком. Своим испытующим оком Ганнибал не намеревался проникнуть в мысли этих людей — они и так были ему известны. Его занимал сам их приход, их выбор, кризис — все, что было воплощено в этих встревоженных лицах; и, может быть, ответ на вопрос: какие у меня еще дела с людьми?
Ближе всех к нему стоял Эсмуншилен, коротышка с помятым лицом, смуглой кожей в пятнах и холодными глазами, небогатый корабельщик, у которого год назад умерла жена, оставив ему кучу дочерей. Возле него стоял Герои, стеклодел, худощавый человек с горбатым носом, ввалившимися глазами и опаленными бровями. Поодаль — Азрубал, земледелец с красным лицом, выпуклыми глазами и короткими руками, а рядом с ним — Герсаккон, молодой патриций с тонкими чертами лица и длинными ресницами; затем — Балшамер, с круглым энергичным лицом, тщательно одетый, живущий на ренту с нескольких земельных участков и побывавший в Афинах, где читал книги афинских ораторов, и особняком от всех — Хармид, сицилийский грек, чья небрежная элегантность затмевала наряд Балшамера. Седьмой гость, стоявший в тени, скромно одетый и с простым лицом, был неизвестен Ганнибалу.
— Прошу вас сесть, — произнес Ганнибал, вступив в зал, и добавил более любезным тоном: — Нравится ли вам вино? — Он положил руку на плечо Азрубала. — И ты здесь? Хочу обсудить с тобой способы консервирования гранатов, Ты ведь знаешь, я теперь всего только сельский хозяин.
Гости продолжали стоять, и лишь когда Ганнибал сел и принял от мальчика-слуги бокал вина, они заняли свои места. Ганнибал продолжал:
— Что ж, господа, я не буду толковать о погоде с Азрубалом. Вы пришли по другому делу. Давайте начнем.
Он бросил быстрый взгляд на неизвестного ему седьмого посетителя, который слушал его с бесстрастным лицом. Остальные откашливались, скрипели стульями, щурили глаза и в конце концов обратили взоры на Эсмуншилена, самого богатого из делегации. Эсмуншилен прочистил горло, уставился в свой бокал и резко заговорил:
— Нам всем известна цель этой встречи. Мы ждем твоего ответа, господин. Согласен ли ты выставить свою кандидатуру на выборах шофета?
— Ты сразу берешь быка за рога, Эсмуншилен, — сказал Ганнибал мягко, — благодарю тебя. Благодарю всех присутствующих здесь. Но я просил вас собраться не только затем, чтобы дать вам ответ на этот вопрос. Я хочу услышать, что вы скажете о положении в Кар-Хадаште. Все вы знаете, что большую часть жизни я провел вдали от родного города; немногие годы, прожитые мною здесь, тоже не дали мне полной возможности получить ясное представление о том, что тут происходит. Я хотел бы, чтобы вы высказались об этом.
Наступила мертвая тишина. Эсмуншилен сидел, упираясь руками в колени; вид у него был внушительный, мрачный и грозный.
— Ну что же, тогда я еще скажу, — вымолвил он, не глядя на других. — Страна плохо управляется, господин, надо навести в ней порядок. И никто не сможет навести здесь порядок, кроме тебя. Это легко сказать. И к этому нечего прибавить. Но делать придется тебе. — Он поднял руку, словно взвешивая дела Кар-Хадашта, затем сжал кулак. — Будет нелегко. Но мы не допускаем мысли, что ты можешь отвернуться от нас. — Он вдруг вскочил и с жаром воскликнул: — Мы обременены непосильными тяготами, наши спины стерты в кровь! — Овладев собой, плотно сжал губы и сел с таким видом, словно снимает с себя всякую ответственность. — Я кончил.
— Наша империя погибла, — сказал Ганнибал мягко. — Нам едва ли удастся сохранить потерянные рынки.
— Не в этом дело. Вернее, не только в этом, — возразил Эсмуншилен хрипло, словно с усилием. — Мой сын погиб при Заме
[9], и не в этом дело. Но мы не можем больше терпеть унижения.
— Сдается мне, — проговорил Ганнибал, — никто не жаловался на унижения и высокомерие в те времена, когда рынки расширялись, а золото и серебро текло к нам рекой. И все же ты говорил как мужчина.
Эсмуншилен что-то пробормотал и закрыл глаза. Ответил Азрубал:
— Человек много может снести такого, чего он вовсе не должен сносить. Но есть грязь в глине, из которой мы сотворены, и трудно человеку, находящемуся в неведении, понять, несет ли он несправедливую кару или она ниспослана ему небом в наказание. Однако наступит час, когда он не сможет более гнуться, не сломавшись; полагаю, что именно это хотел сказать мой друг.
— Все ясно. Что тут еще говорить, — устало произнес Эсмуншилен.
Азрубал медленно продолжал:
— Мне не на что особенно жаловаться. Мои богатства множатся. Боги улыбнулись мне. Земля ежегодно приносит мне сто зерен на одно. У меня три сына, и я редко теряю теленка. Но чувствую, что не могу больше мириться с положением, которое сложилось у нас. Я все еще помню свои юные годы, когда свирепствовал голод и тягот было не меньше, чем теперь. Тогда мы говорили лишь, что должны удвоить жертвоприношения Танит пнэ Баал
[10] и Ваал-Хаммону
[11]. Теперь мы говорим, что жизнь стала совершенно невыносимой. И каждый объясняет это по-своему.
Ганнибал улыбнулся ему:
— Ты хорошо говорил, Азрубал. Благодарю тебя. Сколько тебе лет?
После минутного замешательства Азрубал ответил, понизив голос:
— Скоро пятьдесят, господин.
— Как и мне, — улыбнулся Ганнибал. Но он снова чувствовал себя молодым. Взглянув на Герона, он знаком предложил ему говорить.
Герои встал, прислонился спиной к стене, потерся плечом о камень и заговорил очень громко:
— Разумеется, наша торговля упала. В западных морях нет места для двоих — Рима и Кар-Хадашта. Нас вытесняют особенно после того, как мы потеряли серебряные рудники в Испании. Либо мы будем и дальше катиться вниз, либо найдем средства ответить ударом на удар. Но мы не можем бороться, пока знатные пьют нашу кровь. Они выжмут из нас все соки, а потом нагрянут римляне или нумидийцы. Если вместе с нами погибнут и кровопийцы из знати, это будет плохим утешением. Мы должны уничтожить знать, чтобы выжил Кар-Хадашт, чтобы мы могли набраться сил и возобновить войну против Рима.
— Вам нужно хорошо организованное государственное управление, — сказал Ганнибал.
— Да. И это означает уничтожение Сотни, — резко выкрикнул Герои и вдруг умолк, прислушиваясь; глаза его забегали по залу. — Ты видишь, господин, — воззвал он к Ганнибалу, — я доверился тебе.
— Ты хочешь сказать, что, если я не скажу «да», ты подвергнешь свою жизнь опасности? У тебя вовсе не такой уж расчетливый ум, как ты хочешь показать, верно, Герои? Ты смелый человек.
— Я не хвастун! — гневно крикнул Герон, ударив себя кулаком в грудь. — И не намерен пускаться в споры о том, что такое судьба человека. Я в хороших отношениях с богами — по крайней мере, так считаю. Но, просыпаясь на заре, я начинаю думать, и все кажется мне ясным, пока меня не терзает пустота всего и это наше упорство в заблуждениях. Не думай, пожалуйста, будто я виню других за собственные ошибки. Мой зять рассчитывает заключить договоры с Косом и Родосом… Короче говоря, я отдал себя в твои руки. Да, да, — закончил он нерешительно, — я согласен: значение для нас имеет то, что человек может вынести.
Он со страхом и вместе с тем вызывающе окинул взглядом зал. Балшамер, нетерпеливо ожидавший, когда ему можно будет начать говорить, воскликнул полупрезрительно-полусочувственно:
— Ты не единственный, Герон. Не нужно быть таким гордым и… таким пугливым. Я присоединяюсь к твоим словам, хочу лишь добавить, что им недостает политической теории. Что толку служить хорошему делу, если не умеешь убедительно обосновать его? Все мы здесь демократы, и все единодушны, по крайней мере в том, против чего боремся, — заключил он, искоса взглянув на Азрубала.
— Так выслушаем же обоснование твоих доводов, — сказал Ганнибал.
— Нет, нет! — воскликнул Балшамер, взмахнув рукой. — Пусть этим занимаются другие. Я не настолько самоуверен, чтобы пытаться убедить такого человека, как ты, господин. Мы пришли сюда лишь затем, чтобы услышать твой ответ. Что мы можем сказать? Ты сам уже все взвесил и рассудил.
Однако его тщательно подготовленную длинную речь неожиданно прервал Герсаккон, который не встал с места, а лишь умоляюще поднял руку.
— Да простит нам Танит пнэ Баал, — произнес он быстро и отрывисто. — Мне горестно было слушать… Да, мы грешили. Пока мы в этом не признаемся, не может быть надежды. Мы грешили, говорю я, и если не раскаемся и не исправимся, мы обречены. Следы крови на руках у всех нас, и их не смыть никакими приношениями, никакими очистительными жертвами, если их будет приносить каждый в отдельности. Мы грешили все как один и все как один должны спастись или погибнуть. Мы встречаемся в братствах, словно мы братья, вместе сидящие у очага согласия, в то время как вокруг себя видим алчность и слышим раскаты лживого хохота.
Он остановился, и его красивое лицо выразило смущение.
— Пусть будет так. Я столь же грешен, сколь и другие, ибо мой ум помрачен. Ганнибал, к тебе мы взываем: просвети нас, укажи нам путь!
Все беспокойно заерзали, кроме улыбающегося Хармида и приземистого человека в глубине зала, так же бесстрастно слушавшего Герсаккона, как и других. Земледелец протестующе забормотал, что урожаи, которые он собирает, не дают ему оснований для жалоб, корабельщик искоса бросил на Герсаккона долгий взгляд, а стеклодел язвительно усмехнулся. Балшамер упомянул было о том, что он поборник греческого просвещения и хотел даже изложить обществу учение Эвгемера
[12], но снова вернулся к политике:
— Мы должны признать, что постигшее нас бедствие становится все более страшным, — сказал он. — Выступавшие здесь, стремясь доказать свое материальное благополучие, отклонились от существа дела. Наш город с высокого положения империи пал сразу до положения вассала. Нам отказано в праве вооружаться и защищать себя. Римляне с присушим им вероломством, которое мы всегда считали их характерной чертой, оставили нас без помощи и отдали на растерзание нумидийцам. А если мы поднимем руку для защиты, они воспользуются этим, чтобы уничтожить нас. Наши правители думают лишь о том, как бы захватить побольше и удержать в своих руках те немногие источники богатств, которые еще остались у города. Нужда увеличивается. Налоги растут чуть ли не день ото дня и неизменно ложатся на плечи неимущего люда: на небогатых землевладельцев, ремесленников, мелких торговцев.
Балшамер говорил с большим достоинством и вдруг горячо воскликнул:
— Мы пришли сюда не просить, Ганнибал! Мы пришли требовать то, на что имеем право. Мы, народ Кар-Хадашта, в течение многих поколений беззаветно поддерживали Баркидов. Мы призываем величайшего из Баркидов продолжать свое дело!
Ганнибал склонил голову. Его сердце было исполнено счастья, но время говорить еще не наступило. Мелькарт подаст ему знак тогда, когда он окончательно вступит в общение с миром. И снова возродятся великая схватка и великое единение. Не напрасно он вернулся на родину.
Балшамер сел с невольным вздохом. Хармид, поняв, что очередь теперь за ним, сказал небрежным тоном:
— Находясь здесь лишь в качестве наблюдателя, ограничусь несколькими словами, чтобы не испортить впечатления от блестящей речи моего друга. В той мере, в какой я могу позволить себе говорить от имени живущих здесь эллинов, одобряю всей душой цели этой делегации. Полагаю, что один я из здесь присутствующих бывал в Риме. Это базарный город выскочек, мужланов и ростовщиков. Я грек и друг вашего города и не могу не приветствовать любые усилия подорвать могущество Рима. Смею еще добавить, что меня, ученика стоиков, как сказал бы мой друг Балшамер, глубоко интересуют возможности сочетания демократия с имперской экспансией. И посему — мои наилучшие вам пожелания!
Ганнибал дружелюбно кивнул ему и пристально взглянул на приземистого человека:
— А ты, мой добрый друг, чьего имени я не знаю?
— Что? — ошеломленно отозвался тот.
— За тобой слово, Намилим, — сказал Балшамер.
Намилим подумал немного и встал.
— Мы пойдем за нашим господином Ганнибалом на смерть! — сказал он резко и внезапно умолк. — Это все, — добавил он, понизив голос. — Говорит Намилим, хранитель святыни и зеленщик, секретарь Братства Котона
[13], в некотором смысле представитель всех торговых людей Кар-Хадашта. — Он тяжело сел.
Час настал. Ганнибал поднялся и, повелительным жестом руки дав понять, чтобы его подождали, быстро вышел из зала. Он был так взволнован, что не мог там больше оставаться; ему хотелось расправить члены и побыть одному. Он провел по лицу ладонью и, пройдя короткую галерею, вернулся в сад. Люблю ли я этот город? — спросил он себя. Ведь он прожил в Кар-Хадаште лишь годы своей ранней юности. Нет, только людей он любил, узы верности, связывающие его с ними. Но люди, среди которых прошла вся его жизнь и которых он вел за собой, не были его соотечественниками — то были кельты из Испании, ливийцы, лигуры, нумидийцы и греки. Куда бы ни увлекали его эти узы, он пойдет. Центр тяжести переместился. Теперь он снова в своем родном городе, и здесь он снова сможет созидать; он разрушил и сокрушил бы все до основания и на развалинах зла воздвиг бы новое здание. Закрыв глаза, Ганнибал протянул руку к колонне и прислонился к ней. Он представил себе спускающийся уступами склон горы, рыбачьи хижины на сверкающем побережье, пятна пшеничных полей на отлогих скалах, и совсем близко оливы — низкорослые, крепкие деревца с искривленными стволами и скрюченными ветвями, и тропу, ведущую на плоский гребень горы, и темные массивы сосен. Он вдыхал их аромат, а глубоко внизу волны набегали на янтарные скалы. И вдруг, на прибрежной дороге появляются воины его авангардных частей, усталые и запыленные, со слипшимися от пота волосами; они не подозревают, что он стоит на склоне холма, устремив на них взор. Но вот один воин заметил его и указал рукой вверх. Весть облетела все ряды, ускорила их шаг, выпрямила спины… Мне не было тогда еще и тридцати лет, — подумал он, — теперь мне пятьдесят, а мир не изменился. Скольких из моих воинов теперь уже нет в живых, сколько искалечено, пропало без вести, а мир все продолжает свой торг. Ему слышались отголоски трубного зова, доносившегося из окутанного туманом прошлого; отогнав от себя видения, он вернулся в зал.
— Не хочу оставлять вас в неизвестности, друзья мои, — сказал он. — Я принимаю ваше предложение выставить свою кандидатуру на пост шофета.
Члены делегации, которые тихо и взволнованно разговаривали друг с другом, встали, шумно выражая свою радость. Балшамер хотел даже упасть в ноги Ганнибалу и поцеловать край его одежды, но вовремя вспомнил, что полководец не одобряет подобных знаков поклонения. Вместо этого Балшамер откашлялся и попытался восстановить в памяти, какая из греческих муз была покровительницей истории; он хотел сочинить эпиграмму по поводу знаменательного события. Между тем Ганнибал продолжал:
— Я позволяю предать мое решение гласности. Отныне чем скорее будут развиваться события, тем лучше. Смысл моих действий, несомненно, поймут в тех кругах, которые незачем называть. — И он по-мальчишески расхохотался. — Благодарю вас всех. Азрубал! Сдается мне, ветер дует с северо-запада. Надеюсь, ты уже собрал свой виноград и маслины?
— Завтра я должен закончить пересадку миндальных деревьев из питомника, — ответил Азрубал. — Я сегодня распорядился вырыть для них ямы. — Он самодовольно улыбнулся. — Они любят солнце и легкий грунт и не хотят расти во влажной и жирной почве.
2
Гости расходились порознь. Хотя борьба против знати теперь должна была пойти в открытую, они старались не привлекать к себе излишнее внимание. Сначала из дома выскользнул зеленщик; за ним отправились земледелец и корабельщик; после безуспешных попыток завладеть вниманием Герсаккона откланялся и стеклодел. Балшамеру не терпелось рассказать какую-то историю из своей студенческой жизни в Афинах, но, боясь слишком засидеться, он заторопился и опрокинул столик, а потом многословно объяснял домоправителю, что это случилось не по его вине. Хармид задержался, чтобы сопутствовать Герсаккону, который после недавнего возбуждения впал в уныние.
— Дорогой мой, — начал Хармид, взяв Герсаккона под руку и выходя с ним на улицу, ведущую к городским воротам. — Что на тебя нашло? Когда мы в последний раз так сердечно беседовали с тобой, ты интересовался главным образом старинной керамикой моей страны. Правда, это было три месяца тому назад. Но сегодня ты поразил меня. В самом деле, ты говорил то же, что мне доводилось слышать в грязных закоулках портовых кварталов в канун празднеств.
— Да, я изменился, — произнес Герсаккон. — Но зачем нам говорить об этом? Кто я такой, чтобы тратить на меня слова?
— А, значит, ты несчастлив в любви? — улыбнулся Хармид, стараясь вспомнить все, что он слышал о друге. Красивое лицо Герсаккона, похожее на чуть треснувшую от времени, но прекрасно вылепленную живую маску юности, на мгновение омрачилось, а затем вновь обрело свое обычное очарование.
— Хорошо еще, — продолжал Хармид, — что Ганнибал живет не в такой дали, как Магара
[14]. Ненавижу носилки, двуколки с осликом или эти колесницы из расписной кожи, которые так грохочут, чуть только заставь их двигаться быстрее черепахи. Не могу ли я чем-нибудь быть тебе полезен? Я имею в виду твою несчастную любовь. — Он сжал руку Герсаккона. — Ты вышел из дому без слуги? — продолжал он, ища глазами своего мальчишку-слугу.
Не поднимая опущенных глаз, Герсаккон ответил с усмешкой:
— Быть может, ты и прав, мой сицилийский друг, но часто бывает так, что когда мы правы, мы дальше от истины, чем когда ошибаемся. Нет, я не страдаю из-за бессердечия возлюбленной или от неверности в любви.
— И все же ты несчастлив.
Когда они подошли к воротам, Герсаккон спросил:
— Каковы будут последствия решения Ганнибала? Я хотел бы узнать твое мнение.
— Никаких последствий не будет, — отозвался Хармид с живостью. — Мир не меняется. Даже такой великий человек, как Ганнибал, не в силах его изменить. Лишь в искусстве видим мы обновление. Время от времени возникают новые, великие произведения искусства, и только изредка совершаются человеческие подвиги, которым присуща незыблемость и завершенность произведений искусства. Вот к чему, надеюсь, приведет решение, о котором мы только что узнали.
Герсаккон остановился и глухо проговорил:
— Какая же тогда польза от него? Мне теперь все безразлично, единственно, чего я хочу, — это перемены. Почему ты так уверен, что ее не будет? Есть много любопытных взаимосвязей между символом и действительностью, у них много общих признаков. Я представляю себе, как они сходятся, сливаются, да, даже соединяются.
Он дико огляделся, и глаза его загорелись при виде священного знака Танит, начертанного красной краской над возвышавшимися перед ними воротами. Минуту он стоял неподвижно, полуоткрыв рот, потом вздохнул с тоской.
— Не могу тебе этого объяснить, — сказал он. Лицо его вдруг просияло, и он впервые взглянул Хармиду прямо в глаза. — Но что-то обязательно случится.
— Этот негодный мальчишка опять куда-то пропал, — заворчал Хармид и свистнул. Мальчик тотчас же прибежал.
— Мне хотели дать белого щенка с двумя черными пятнышками, — затараторил он.
— Ты знаешь, что я говорил тебе про людей, у которых есть щенки с двумя черными пятнышками! — крикнул Хармид и ущипнул его за ухо. — А теперь марш вперед, чтобы я видел тебя!
Мальчишка заревел от боли и быстро засеменил впереди них.
Они прошли мимо стражника в шлеме с облезлым плюмажем, бранившегося со старой глухой крестьянкой из-за корзины с луковицами. Один из негров, несших пурпурные с золотом носилки, споткнулся, женщина, сидевшая внутри носилок, взвизгнула, и ее локоть показался между парчовыми занавесками.
— Позволь! — воскликнул Хармид и, подняв с земли гребень из слоновой кости в виде птицы, протянул его за занавески. — Как хороша! — сказал он Герсаккону. — Но я слишком стар для любовных приключений, пусть продолжает путь с моим благословением на своих пышных плечах. — Он глядел, как носилки двинулись дальше. — Вот оно там внутри, неизведанное наслаждение! Ее улыбка как награда. Я чувствую себя словно свидетель преступления; моя жизнь уносится вперед, опережая меня, утерянная навсегда, и я ничего не могу поделать. Но куда же опять девался этот проклятый мальчишка? — Он свистнул, и мальчик, ухмыляясь, выскочил из-под его локтя.
Вокруг них бурлил пыльный водоворот городской жизни. Грузчики с тележками наезжали на опасливо озирающихся по сторонам кочевников с юга, которые, трепеща, отважились ринуться в эту ревущую западню. Негры в красных набедренных повязках расталкивали низкорослых финикийцев; мавры с хищным видом крались между палатками; пахло кожей, горячим маслом, чесноком, мочой и смолой. Несколько родосских матросов искали публичный дом, но не знали этого слова, и какой-то лоточник пытался всучить им ларец с инкрустацией из кусочков дерева или культовую фигурку, двигавшую руками и ногами. Один из матросов купил где-то страусовое яйцо, раскрашенное в зеленый и желтый цвет, а кто-то нечаянно разбил его, пятясь, чтобы пропустить осла, нагруженного мешками с сильфием
[15]. Матрос свалил обидчика наземь, и началась потасовка.
Хармид стиснул руку Герсаккона, увлекая его вперед.
— Я вырос вблизи Гимеры
[16], моя юность благоухала медом. Мне до сих пор не по себе в городах! — кричал он, стараясь, чтобы его было слышно среди стоявшего кругом шума. — Мне все еще кажется, что я рискую жизнью, когда вхожу в городские ворота. Виновата в этом моя кормилица; она только и делала, что шептала надо мной заклинания. Лишь необычайная сила духа спасла меня от ипохондрии. Ты заметил взгляд того синеглазого кочевника? Он раздумывал, бежать ли ему отсюда или всадить кому-нибудь нож меж ребер. Так же и я себя чувствую всегда. Геракл! Что опять случилось с этим малым? Теперь я совсем потерял его. Надо было мне догадаться, что он не сможет не поглазеть на драку.
— А я здесь! — вскричал мальчишка с гордостью. — Я видел драку, Моряк напал на него, а он укусил его за лодыжку.
— Ты, видно, что-то скрываешь от меня, у тебя, надо думать, страшное преступление на совести, — сказал Хармид, ущипнув его за ухо. — Уж больно хорошо ты себя сегодня ведешь. — Он повернулся к Герсаккону: — Ты, разумеется, пообедаешь со мной у Дельфион?
Герсаккон мгновение колебался, потом сказал:
— Как тебе угодно.
Хармид сразу почувствовал разницу в ритме, в гуле голосов, в пульсе города — может быть, потому, что он тосковал по прозрачному горному воздуху, аромату сосен и горных роз, по пастушеской свирели, с которой может соперничать разве только жаворонок. Он всегда воспринимал звуки городской жизни как нечто единое — громыхание и жалобный вой огромного голодного чудовища; так слепой моряк узнает состояние моря по изменению его шума.
Казалось, будто валы на мгновение отступили в океанские глубины, а затем, вздуваясь, вновь понеслись вперед, еще более могучие и неукротимые. Все настойчивее становился стук молотка ювелира где-то поблизости — словно раздавались частые удары смертельно больного сердца города; треск и грохот упавшего с задка повозки бочонка прозвучал как сигнал бедствия. Из окна высунулась женщина с обнаженной грудью и что-то крикнула через дорогу; ребенок пухлыми слабыми кулачками колотил в запертую дверь; собака лаяла под повозкой. Хармид видел обыденные, не имеющие глубокого смысла подробности жизни города, освещенные необычайно резким светом, слышал случайные шумы, распадавшиеся и снова сливавшиеся в общий гомон. И он был уверен, что имя было произнесено.
— Мы сейчас придем, — сказал он.
Из разбитой амфоры на повозке, остановившейся у ворот, в щель между досками медленно сыпалось зерно; нищий с кольцом в носу небрежно подставил под струю руку, точно ему было невдомек, что зерна падают ему на ладонь. Бронзовые кувшины задребезжали на подносе, когда бородатый торговец перегнулся через край повозки.
— Ты что, хочешь разорить меня? — взревел он.
Мимо прошла девушка, позвякивая браслетами на лодыжках. Сверху, из окна кто-то бросил кожуру от граната. Шестиэтажные многоквартирные дома высились по обе стороны улицы, штукатурка с них местами обвалилась, а кое-где была засижена голубями; из одного окна свешивалась вниз плетеная клетка с перепелкой, из другого — желтое платье. У двери дома, на которой свисала миртовая ветвь, человек с волосатой грудью выкрикивал: «Горячее вино и жареные осьминоги!» — и почесывал под мышками. В переулке кувыркалась девочка с голубой лентой по талии и стеклянным браслетом на ножке. С задворков доносились запахи красильни.
— Благородный господин, — шепнул какой-то человек, искоса взглянув на Хармида, — моя жена лежит дома на полу в родовых муках. Молю тебя, дай мне хоть самый маленький шекель
[17].
Изменился ли все-таки мир? Ошибается ли он? Его вдруг охватила уверенность, что он услышал имя Ганнибала. Человек перегнулся через бочку, нащупывая бирку; у него была болячка на верхней губе.
Ганнибал. Это он сказал. Женщина подошла к двери, зевнула, вернулась назад по галерее и снова появилась, тяжело дыша. Она перебежала улицу и заговорила с человеком, грузившим на тележку грубо вылепленные фигурки Танит. Головы женщины и мужчины сблизились, они что-то зашептали друг другу. Девушка с ровно подрезанной челкой и зелеными глазами выставляла поднос с медовыми пряниками; она выпрямилась, посасывая большой палец. Кошка на подоконнике вытянула задние лапы; в доме взвизгнула девочка, которой прокалывали ушки. Из дома вышел человек, вытирая губы; он украдкой посмотрел вверх и вниз по улице и скользнул в узкий проход между домами. Кто-то сзади произнес имя.
Ганнибал. Хармид быстро обернулся, но не увидел, кто это сказал. И снова ясно услышал имя. Возле стола снаружи лавки, где продавались лопаты и серпы, стоял курносый человек; он тыкал вниз растопыренными пальцами и судорожно вскидывал голову, словно стараясь что-то проглотить. Он разговаривал с толстым лысым человеком на втором этаже.
— Это правда — насчет Ганнибала! — крикнул он.
Хармид и Герсаккон свернули в боковую улицу и вышли на тихую площадь.
— Она будет рада тебе, — сказал Хармид.
— Да, — отозвался Герсаккон.
Внутри дом походил на греческую виллу, насколько этого удалось достичь без слишком дорого стоящих переделок. Возможно, то была тоска по родине; возможно — просто профессиональный инстинкт. Посетителю-греку приятно было оказаться в привычной обстановке, посетителю-пунийцу хозяйка такого дома представлялась изысканной афинянкой. В сенях Хармида и Герсаккона встретила стройная девушка в высоко подпоясанном хитоне из тонкой ткани; она ввела их в покой, где на подушках возлежали хозяйка дома и двое гостей.
— Я как будто знала, что вы придете.
Дельфион, высокая и тонкая, с волосами светлого, теплого оттенка, поднялась навстречу вновь прибывшим. Хармид даже подозревал, что среди ее близких предков была какая-нибудь пленница-галатка
[18] — у нее было типично праксителевское лицо, круглое и безмятежно чувственное, хотя и одухотворенное светившимся в глазах умом и легкой насмешкой. — Как мило, что ты привел с собой Герсаккона. Он последнее время пренебрегал мною. Когда мы в последний раз с тобою виделись, чудовище ты этакое? — Обычные фразы она произносила с легким оттенком надменности.
— Три месяца назад, — ответил Герсаккон с холодной учтивостью.
— Представьте себе, — продолжала Дельфион, — одна из моих девушек только что прибежала с вестью, будто Ганнибал выставляет свою кандидатуру на выборах шофета! Это правда?
— Я бы не удивился, — заметил Хармид, обернувшись и взглянув на других гостей. — А, Лизитель! — воскликнул он приветливо. — Ты уже успел скупить все оливковое масло нового урожая?
Лизитель, грек средних лет с резкими чертами лица, отпил вина из своего кубка.
— А ты, Хармид, — незлобиво отпарировал он, — ты все еще не бросил привычку соваться в чужие дела? Я кое-что слышал о тебе.
— Ты расскажешь мне обо всем этом, когда будешь чуточку пьянее, мой добрый беотиец, — сказал Хармид. — Это чрезвычайно интересно. Но куда девался мой мальчишка? Герсаккон, ведь он пришел сюда вместе с нами?
— Боюсь, что мы потеряли его, когда свернули с главной улицы, — ответил Герсаккон хмуро.
— Я пошлю кого-нибудь за ним, — предложила Дельфион.
— Нет, нет, я сам разыщу этого маленького негодяя, — сказал Хармид быстро и вышел, помахав у дверей рукой. — Вы меня не ждите.
Герсаккон обернулся и тогда только увидел второго гостя.
— Да ведь это Барак! — воскликнул он, выйдя из оцепенения; радостно бросился к несколько робкому на вид, загорелому юноше и схватил его за руки. — Я не знал, что ты уже вернулся из имения.
— Я всего несколько дней как приехал, — сказал Барак. Это был сильный человек с широким открытым лицом, которое очень красила улыбка. — Я в самом деле сегодня впервые вышел из дому. Столько всяких счетов и отчетов, с которыми надо было разделаться!
— И он любезно согласился сопровождать меня к нашей восхитительной хозяйке, — сказал Лизитель, бросив косой, но почтительный взгляд на Дельфион. — Все это вздор, что Хармид болтал тут о масле. Я охотно покупал бы масло, но его не так много, чтобы вывозить. Однако через несколько лет оливкового масла будет, наверно, достаточно, если дело наладят как следует. Ведь вы знаете, года два назад Ганнибал заставлял свою армию сажать масличные деревья. Решил получить от воинов хоть какую-то пользу. — Лизитель говорил это со снисходительным видом, словно считал, что карфагеняне ничего не узнали бы о своей собственной стране, не расскажи он им о ней. — Во всяком случае, сейчас я занимаюсь продажей глиняных горшков и покупаю губки.
— Но эта новость о Ганнибале, — снова заговорила Дельфион, сделав знак одной из прислуживающих девушек. — Ты слышал об этом?
— Да, — ответил Герсаккон, садясь и вытягивая ноги, чтобы девушка могла снять с него сандалии. Она подставила под его обнаженные ноги серебряный таз, из высокого кувшина обмыла их ароматным вином с водой и вытерла полотняной салфеткой.
— Вижу, тебе в самом деле что-то известно, — заметила Дельфион, бросив на него испытующий взгляд. — Так что я должна избавить тебя от необходимости отвечать на мой вопрос. Интересно, что же все-таки стряслось с этим забавным Хармидом!
Барак, оправившись от смущения, охватившего его при встрече с Герсакконом, сел теперь подле него.
— Какое счастье встретить тебя здесь! — Он понизил голос. — Сказать по правде, я согласился прийти сюда только потому, что видел, как этот торговец горшками действует отцу на нервы, и решил спровадить его из дома. И еще я хотел напиться без помехи. Это была первая представившаяся мне возможность. Ты считаешь это варварством, да? — Он пристально взглянул на Герсаккона, который сидел отвернувшись. — Я докучаю тебе? Я всегда надоедлив.
— Мне нездоровится. — Герсаккон заставил себя улыбнуться. — Но у тебя просто цветущий вид. — Он взял полотенце, протянутое ему девушкой, погрузил пальцы в воду, затем вытер их.
— Очень мила! — сказал Барак о девушке и снова понизил свой звонкий голос. — И хозяйка тоже; кстати, что ты думаешь о ней? Я немножко боюсь ее, но она необыкновенно хороша. Откровенно говоря, я не могу отвести от нее глаз. Дружище Герсаккон, если бы ты знал, как часто я думал о тебе! А кто этот смешной старикан, с которым ты пришел? Похоже, он завивает волосы. И какой у него благородный нос — словно он спал, держа его в литейной форме.
Видя, что оба молодых пунийца хотят побеседовать друг с другом, Дельфион опустилась на подушки возле Лизителя, и тот принялся рассказывать ей смешные истории. Внесли столы, и гостей начали обносить салатом и вареными яйцами.
— Да, — продолжал Лизитель с грубым смехом, — он так прожорлив, что в бане полощет горло чуть ли не кипятком, хочет закалить его, чтобы глотать яства, не дожидаясь, пока они остынут.
Притворяясь, что он хочет достать рукой лист салата, Лизитель придвинул свою подушку вплотную к Дельфион, и она сразу же встала, заметив, что ей надо распорядиться на кухне. Герсаккон смотрел, как она плавной походкой, полной мягкой величавости и неги, выходила из зала. Барак, проследив за взглядом друга, подтолкнул его локтем:
— Она, кажется, интересует тебя.
— Нисколько, — яростно отрезал Герсаккон. — То есть не в том смысле, как ты думаешь.
— Ты очень раздражителен сегодня, — произнес Барак, немного обиженный. — Я хотел лишь дать тебе понять, что если ты считаешь ее своей, я не буду мешать. Только не бесись, пожалуйста. Я рад, что ты не притязаешь на нее. В ней что-то есть, может быть, это просто цвет ее волос… Знаешь, коли уж наши женщины высоки, то они слишком высоки. Я люблю крупных женщин, но мне хочется, чтобы они были и грациозны. Это вино превосходно. Если бы ты только мог себе представить, какую дрянь мне приходилось нить…
Вошел Хармид с мальчишкой на плече. Он опустил его на подушку шафранного цвета и хорошенько шлепнул пониже спины.
— А теперь сиди тут, у меня на глазах, и чтоб тебя не слышно было…
Хармид обратился к Герсаккону:
— Он смотрел непристойное кукольное представление и сосал вредные для желудка леденцы, которые дал ему какой-то глупец! Куда ушла Дельфион? Ну-ка, Пардалиска, сними с меня сандалии…
3
Весть о том, что Ганнибал выставил свою кандидатуру на пост шофета, разнеслась по всему городу. Люди толковали об этом в узких улочках с высокими домами, в лабиринте палаток, где продавалось все — от драгоценностей до плохо прокопченной рыбы, — на трех главных улицах, поднимающихся с Площади к Бирсе
[19], в больших внутренних доках, где когда-то жизнь била ключом, в садах и виллах, тянущихся на северо-запад за городскими стенами, в бесчисленных маленьких мастерских ремесленников. Этой новостью поспешили обменяться воины на крепостных валах Бирсы, в тени зубчатой башни. Жрецы в великолепном храме Эшмуна на холме, передавали ее друг другу по секрету, шествуя в прохладной тени колоннады. Плакальщицы на обширном кладбище к северу от города, забыв о причитаниях, собирались у ворот и спрашивали друг друга, что случилось.
Проталкиваясь через уличную толпу, Герсаккон смутно чувствовал растущую напряженность в бурлящей жизни города; но он был слишком занят собственными заботами, чтобы обращать на это внимание. В нем поднималось раздражение: он чувствовал, что плохо вел себя с Бараком. Они были закадычными друзьями до отъезда Барака на юг, в животноводческое хозяйство его отца.
Пуническое воспитание сыновей состояло в том, чтобы рано приучить их к труду, сделать уверенными а себе и толковыми в делах, и даже самые богатые юноши должны были вкусить трудовой жизни. Герсаккон размышлял о том, не был бы ли он счастливее, если бы отец не умер и не оставил его хозяином своей судьбы — только с дядей, легкомысленным сластолюбцем, жившим в Тунете
[20], и матерью, на которую легла обязанность следить за его воспитанием.
Дело не только в том, что он грубо обошелся с Бараком, дав понять, что ему скучно с ним, да ему вовсе и не было скучно. Просто он был расстроен и не хотел ни с чем соглашаться. Меня убивает моя нерешительность, — сказал он себе. Но в чем проявлялась его нерешительность? Если бы он мог ответить на этот вопрос, решение было бы найдено. Встреча с Ганнибалом его глубоко взволновала, он всегда испытывал воздействие демонической силы, исходившей от этого человека. Но это ему не помогало.
Герсаккон остановился на минуту, прижатый к стене толпой прохожих. Перед ним на лотке в беспорядке лежала куча ярких безделушек, с другой стороны к лотку прижался молодой парень со своей возлюбленной. Он обхватил девушку рукой, ласково гладя ее по спине. Стоя неподвижно у стены, Герсаккон вдруг почувствовал какую-то опасность; спешащая куда-то толпа представилась ему хищным зверем, готовым вцепиться в его горло; ощущение слепящего света увлажнило его ресницы, затуманивая сцену, на мгновение запечатлевшуюся в его сознании в причудливо преображенном виде: двое влюбленных, склонившихся над грошовыми безделушками, движение пальцев юноши и упругое тело девушки, небольшая бахромчатая прореха в ее платье и пятно над левой грудью, чем-то напоминающее скорпиона, сосок под тонкой тканью, такой тугой и острый от ласки любимого, что кажется, вот-вот прорвет покров и принесет то богоявление, которого он жаждет, — Танит, перевоплотившуюся в потаскушку, с луной на месте груди; а позади склонившейся пары зигзагообразный гнойник — повседневная суетность мира, принявшая очертания геометрического узора, смердящего бесчестьем.
Я должен, должен узнать грех, — подумал Герсаккон. И это было единственное заключение, которое он вынес из мига познания. Ему стало легче, но как-то не по себе, будто у него начиналась тошнота. Он снова окунулся в людской поток и продолжал свой путь, чувствуя теперь, что все это его близко не касается, по крайней мере пока, что ему дана еще одна передышка. Он, как всегда, испытывал страстное желание молиться, и не было никого, к кому он мог обратить свою молитву; даже Танит отвернула от него свое лицо с серповидными глазами. Я должен найти ее в другой обстановке, — подумал он, пытаясь вспомнить то, что говорил Динарх.
Динарх занимал несколько комнат в задней части тихого дома на одной из боковых улиц. Герсаккон добрался до перекрестка и быстро пошел вперед, стараясь отделаться от мучительной мысли, что Барак, быть может, находится сейчас наедине с Дельфион. Я не хочу ее для себя, — подумал он, — и все же не могу вынести мысль, что она принадлежит другому, тем более Бараку, пребывающему в столь добрых и счастливых отношениях с миром. Однако как раз потому-то он и оставил Барака у Дельфион, полупьяного и явно очарованного этой прелестной златовласой женщиной; Барак теперь уже, конечно, совсем захмелел и найдет в себе достаточно храбрости, чтобы обнять ее, властно ласкать… Эта мысль была для Герсаккона пыткой. Он спрашивал себя, не лучше ли купить одну ночь с Дельфион; может быть, это уничтожит власть, которую она имеет над ним, превратит ее в ту, кем она в сущности и была, — в эллинскую куртизанку довольно высокого разряда.
Герсаккон достиг входа с ветхими колоннами (капители их были украшены головой Гатор
[21] с ушами телицы и высокой прической — признак того, что этот квартал столетие назад был фешенебельным) и прошел в сени мимо слабоумного раба, с высунутым языком подметавшего пол; вниз сходила женщина, занимавшая передние комнаты второго этажа, с тростниковой корзинкой в руке и пузырем на голове — чтобы не растрепались волосы.
Герсаккон отдернул занавесь, спустился по сырому проходу и постучал. Он чувствовал, что весь мир отступает от него куда-то на задний план, как море отступает в час отлива. Послышалось шарканье мягких туфель и легкое покашливание — Динарх открыл дверь и, посторонившись, пропустил его. Комната была с низким потолком, полутемная, свет падал только у окна, где стоял стол, заваленный свитками, папирусами и камнями с выдолбленными письменами. Несмотря на скудную обстановку, здесь царила атмосфера вдохновенности. Динарх указал Герсаккону на скамью. Герсаккон сел, обхватив руками колени, а Динарх вернулся на свое место у стола.
— Ты все еще полон сомнений в правильности пути, — уверенно произнес Динарх низким голосом. Солнечный луч поблескивал на белых волосах и бороде старика; в сравнении с его сединами патриарха гладкая, теплого оттенка кожа казалась кожей юноши. — Ты сделал еще один шаг по стезе заблуждений.
Он говорил мягко, без тени осуждения, словно хвалил Герсаккона.
— Ты сам сказал мне, что заблуждения неизбежны, — воскликнул Герсаккон в отчаянии, — и что тот, кто всегда прав, даже и не начинает быть правым.
— Я так сказал, — согласился Динарх. — Но заблуждения человека должны исходить из глубины его существа, иначе он никогда не обретет истину.
— Мои заблуждения — я называю их заблуждениями только для ясности — исходят из глубины моего существа, но они не приносят мне ни истины, ни чего-либо другого, кроме страданий.
— Может быть, ты боишься стать искренне заблуждающимся, боишься ошибиться в той любви к иллюзиям, о которой я тебе говорил. Ты боишься открыть свои объятия, и потому нет конца твоим сомнениям.
Герсаккон вскочил.
— Ты правду сказал, отец мой!
Он повернулся, чтобы уйти, но Динарх поднял руку.
— Нет, нет, мой духовный сын, ты не должен превратно истолковывать мои советы, или я вынужден буду запретить тебе посещать меня. То, что ты намерен сделать, возможно, правильно, а возможно — неправильно для тебя в нынешних твоих поисках Пути; но торопиться на этот Путь под тем предлогом, что якобы я приказал тебе это делать, было бы ошибкой, и тебе долго пришлось бы ее искупать. Ты хотел использовать мои слова для ослепления глаз своей души, а не для того, чтобы сорвать покровы и допустить в свою душу великий свет.
Герсаккон со стоном снова опустился на скамью и уронил голову на грудь. Динарх продолжал спокойно читать, потом взял со стола скарабея
[22] и начал рассматривать на свету начертанную на нем надпись. Его тусклые глаза стали острыми, как у сокола, и сосредоточенными, с лица исчез юношеский румянец, оно стало как бледное изваяние. Казалось, он забыл о своем госте.
Герсаккон почувствовал, как тихий покой нисходит на его встревоженный ум, его дыхание становилось ровнее и глубже. Ему казалось, будто он вдыхает мир, как смешанный аромат теплого молока и тертого миндаля. Однако теперь его мысли приняли другое направление — он испытывал чувство острой непримиримости к Динарху и его учению. По дороге сюда у него было одно лишь желание — покориться Динарху, излить ему все свои душевные муки, признать, что нет надежды в мире. Но теперь, охваченный новой мыслью, которая, как он чувствовал, возвращает ему столь желанное умиротворение, он ощутил необходимость получить подтверждение ценности и смысла деяний, от которых он бежал. Те юные возлюбленные были правы, желая друг друга, Ганнибал был тысячу раз прав, сделав свой выбор. Смиренно я принимаю их мир.
Он встал, и Динарх опустил скарабея.
— Ты придешь, когда у тебя явится потребность в этом, — сказал он. — Да благословит тебя Тот, которого ты ищешь!
Герсаккон не мог говорить. Он склонил голову, его снова разрывали противоречивые чувства. Он подошел к двери и открыл задвижку. Кто-то приближался по проходу. Герсаккон вышел, и таинственная фигура, скрытая под плащом с капюшоном, посторонилась, чтобы уступить ему дорогу. Была ли то женщина? Или мужчина хрупкого сложения? Герсаккон испытывал непреодолимое желание узнать это, его душу раздирали ревность и ненависть. Но он медленно продолжал идти по проходу, надеясь, что незнакомец постучит. Он хотел услышать его голос, услышать голос Динарха, приветствующего нового посетителя. Найти хоть крошечный ключик к разгадке взаимоотношений влюбленных. Но стук не раздался. Ему пришлось уйти. Он откинул лоскутную занавесь и вышел в сени. Его взгляд упал на знак Танит на косяке двери, но это не вызвало отклика в его душе; он возликовал, вспомнив о Ганнибале.
4
Имя, которое шептали и выкрикивали на улицах, окольными путями достигло и домов великих мужей Кар-Хадашта. Фракийский раб, ходивший на базар за провизией, принес эту новость на кухню, и от младшего поваренка она дошла до ушей главного повара, а от него ее узнал домоправитель. И домоправитель после надлежащих поверганий ниц и предосторожностей против дурного глаза поведал эту чудовищную гнусность могучему господину с тяжелыми веками. Трое великих встретились в лавке менялы Ятонсида, и известие сообщил им рыжеусый человек, у которого судорожно подергивались руки; несмотря на это он занимался государственными поставками клея и булыжника и умудрялся с респектабельной степенностью избивать свою жену до полусмерти.
Озмилк, отец Барака, получил эту весть от жреца храма Ваал-Хаммона. Жрец терпеливо ждал, пока Озмилк закончит свои денежные дела и подойдет к ступеням храма. Широкие ноздри Озмилка уловили тяжелый запах крови зарезанных баранов, когда он, поглаживая на груди свою искусно расшитую одежду, слушал жреца. После первой вспышки гнева он улыбнулся присущей ему кислой, высокомерной улыбкой, подумав: и это тоже можно обратить в свою пользу. Его ум быстро взвесил все возможные последствия: впечатление, какое новость произведет в Риме и Нумидии, шансы вновь завладеть промыслами пурпуровых улиток и добиться сбыта запасов эспарто
[23] (он не мог надеяться на прибыльные государственные договоры теперь, когда уничтожен весь военно-морской флот Кар-Хадашта) и главное — непредвиденный случай использовать ситуацию, чтобы подставить ножку Гербалу, которого он ненавидел жгучей ненавистью.
— И все это из-за падения благочестия, — возвестил жрец, шевеля руками под своей подпоясанной широким поясом мантией. — Люди жалуются на дороговизну, жертвоприношений, они становятся все более жестокосердными… Если бы не ревностные сыны Ваала, как ты, господин, услаждающие ноздри бога, мир распался бы на части…
Озмилк мысленно уже наметил свой первый шаг: он предложит Гербалу забыть прошлое. Два самых богатых человека Кар-Хадашта должны объединиться перед лицом общей опасности, невзирая на те незначительные разногласия, которые были между ними прежде, и так далее. Озмилк усмехнулся. Жрец удивленно наблюдал за ним, восхищаясь им и что-то обдумывая.
— Я принесу в жертву быка! — объявил Озмилк с внезапной решительностью.
Выпростав руки из-под мантии, жрец воздел их к небу.
— О господин! — воскликнул он, ослабев от избытка почтительности; затем он очнулся и засуетился.
— Сюда, пожалуйста. Окажи мне честь, позволь проводить тебя!
Он побежал вниз по лестнице, взмахивай подолом мантии, точно подметая землю на пути великого человека. Они подошли к загону для скота в ограде храма, где содержались предназначенные для продажи жертвенные животные. На большой известняковой плите были начертаны составленные чиновниками тарифы с указанием цены за каждый вид жертвоприношения. Богомольцы, приносившие в жертву собственное животное или птицу, должны были платить налог; но те, кто покупал животных у жрецов, были освобождены от налогового обложения — его компенсировала прибыль от продажи.
— Быка! — рявкнул жрец с важным видом, махнув рукой надсмотрщику загона (расположенные по соседству храмы Танит и Ваала имели общий загон и одного надсмотрщика). Жрец был взбудоражен и крикнул это, когда надсмотрщик находился слишком далеко и не слышал его. Тогда жрец сам направился к дальнему концу загона, где содержалась домашняя птица.
— Быка! — завопил он в страхе, что Озмилк сочтет себя оскорбленным. Надсмотрщик повернул голову и ждал, чтобы они подошли. Он, видно, не узнал Озмилка, так как недовольно заворчал:
— К чему столько шуму? Я вовсе не оглох, а лишь отошел покормить петухов. Им уже время получать ячмень. И я обязан соблюдать правила, а не быть на побегушках. Быка? Да, у нас имеется несколько превосходных быков. Вчера только получили, уже совсем было истощился запас. — Он облизнул губы. — Уверяю вас, бог получит удовольствие. Кровь в них так и играет!
Он кликнул своих помощников, и они начали загонять за ограду большого сонного быка.
— Десять серебряных шекелей, — подобострастно пролепетал жрец.
Озмилк внимательно посмотрел на быка.
— Позаботься о жертвенном камне, — проговорил он почти мечтательно. — Ты знаешь, что начертать на нем: обычные благодарения Танит пнэ Баал и Ваал-Хаммону за блага, в должное время ниспосланные ими. Не забудь поставить
раб[24] перед моим именем и упомянуть, что я был шофетом.
— Господин, — укоризненно бормотал жрец, — неужели я могу забыть об этом? Неужели я могу забыть бесчисленные благодеяния, за которые Кар-Хадашт благословляет тебя денно и нощно? Там, под навесом, сидят резчики по камню на случай срочных работ. Какой рисунок ты предпочитаешь, господин? Колонну с гранатовым деревом? Или священный знак и пальму? Или просто лунный серп с бордюром из розочек? У нас заготовлены все рисунки, оставлено лишь место для имени.
— Проследи, чтобы имя было высечено разборчиво, — сквозь зубы процедил Озмилк, лениво разглядывая величавую тушу быка, которому так скоро перережут горло. Вот она стоит, живая плоть, могучие кости, сухожилия и мясо, соединенные воедино, и не пройдет и нескольких минут, как ударом ножа будет уничтожено все ее жизненное назначение. Мгновенный блеск лезвия и фонтан крови — и вместо живого существа с собственной волей и собственными побуждениями останется лишь слуга Озмилка и бога. Смертельный удар передаст Озмилку и богу всю эту страшную силу, направит ее в темное пламя хлещущей крови; и после того, как мясо будет поделено между жрецом и клиентом, согласно второму пункту установления о жертвоприношениях, остатки, неотъемлемую собственность бога, похоронят в ограде храма и над ними положат плиту, вечный памятник выгодной сделке, заключенной между божеством и смертным.
Озмилк на мгновение отвел от быка тяжелый взгляд и посмотрел на таблицу расценок.
«Третий разряд жертвоприношения: вся жертва целиком сдается…» Нет, то процедура искупительного жертвоприношения, а Озмилку нечего-искупать. Вдруг рассердившись, он сделал шаг к известняковой плите. Тут раздался рев быка, на которого прислужники накинули веревки, и Озмилк невольно бросил разгоряченный взор на метнувшийся вперед величавый корпус, на эту стремительную, полную сил жизнь: послушный его воле нож превратит ее в поток крови, чистый поток мощи, в котором его собственная жизнь будет обновлена, наполнена силой, слита с богом…
5
— Герсаккон не сказал, куда он пошел? — спросил Барак.
Молодая рабыня метелкой из пальмовых листьев сметала со стола крошки и рыбные кости; он смотрел на ее худые смуглые ноги и забыл о Герсакконе. Подняв глаза, он встретился со спокойными голубыми глазами Дельфион и зарделся. Подошла девушка с венком из мирта и роз, перевязанных синей лентой, и возложила венок ему на голову.
— Что это? — невежливо спросил он и тут же рассмеялся.
— Один из недостатков этого города, — говорил в это время Хармид, — в том, что здесь не бывает драматических представлений. У римлян и то есть грубое подобие эллинского театра.
— Зато здесь немало красивых, выразительных танцев, — заметила Дельфион, из чувства долга защищая город, в котором она более или менее обосновалась и добывала средства к жизни, но в ее тоне слышался легкий оттенок эллинского превосходства, раздражавший Барака. — И довольно забавные марионетки. Очень недурны и певцы в храме Тацит — они учились в Эфесе. А празднества просто великолепны.
— Нельзя иметь все сразу, — проговорил Барак, сдвинув набок свой венок. — Нет в мире богаче города, чем наш, и даже Александрия не сравнится с ним. В мореплавании у нас нет соперников. Наши люди плавали на юг по океану, в страны, где у мужчин и женщин все тело покрыто волосами, а также на север, в края бесконечных туманов. И за сотни лет было всего два истинно великих полководца — Александр и Ганнибал.
Лизитель хотел сделать какое-то язвительное замечание, но в разговор вмешался Хармид.
— Существует прямая аналогия между Александром и Ганнибалом, — сказал он серьезно. — Я не говорю о стратегическом таланте, который каждый из них проявил во время походов. Нет, я имею в виду их человеческую сущность, как бы различны ни были характеры этих двух людей. Александр с его мечтой об уничтожении расовых преград и объединении Востока и Запада, мечтой о человеческом единении — она так подходила к его великолепно очерченной голове в винных парах дионисии
[25]. Ганнибал не предается подобным мечтам, но его ум одержим теми же идеями. Вот почему он смог завоевать столь пылкую преданность к себе. Он не один раз, как вам известно, говорил своим воинам в Италии, что, если они победят, он отменит все привилегии в Пуническом государстве и примет ливийцев, кельтов, нумидийцев, назамонов, лотофагов и всех прочих как соотечественников… В конце концов вполне возможно, что предприятие, на которое он теперь решился, — величайший шаг на его жизненном пути, независимо от того, что ждет его, удача или поражение. Теоретически, как космополит, я его одобряю, но практически, как эстет, приделаю еще один запор к двери своего дома.
— Что ты хочешь сказать? Не понимаю, — пробормотал Барак, мотая головой, чтобы стряхнуть с себя хмель. — Что он намерен сделать?
— Если он достигнет цели, — произнес Хармид, глядя на мягкий янтарный свет, отраженный на желтом стекле его бокала с хиосским вином, — он найдет твердую опору, чтобы сокрушить Рим, то есть опору для преобразования мира. Таково мое мнение, сложившееся после долгих размышлений. Но будь я проклят, если начну метать бисер моих идей перед компанией пьяных олухов…
— Мне кажется, я поняла твою мысль, — произнесла Дельфион, положив руку ему на плечо. Она подняла золотой кубок с цветочным орнаментом и отлила немного своего неразведенного вина, как бы принося жертву. — За счастье Ганнибала!
— Это прекрасно! — воскликнул Барак, вскочив с места. — Но что вы говорили тут о Ганнибале? Послушайте, мечтой моей юности было бежать в его армию, в Италию. А когда я вырос и моя мечта могла осуществиться, война окончилась позорно, полным разгромом для нас… — Он с унылым видом упал на подушки. — Не люблю об этом думать.
— Давайте послушаем игру на флейте, — предложил Лизитель, зевая. — И что это за вздор насчет единения человечества? Хармид, ты похож на киника, ораторствующего на перекрестке. Я ожидал, что ты кончишь восхвалением бедности и обойдешь нас с протянутой рукой.
— Разумеется, вздор! — сказал Хармид. — Ты меня неправильно понял, и вдобавок ты сильно отстал от жизни. Ведь ты не на Марафонском поле, и я не сомневаюсь, что ты очень этому рад. После Александра — философия стоиков. Благородный жест теперь должен быть сделан именно в их духе. Для меня лично благородный жест, историческое решение, так же как и благородные линии и пропорции тела нашей прелестной хозяйки, представляют чисто эстетический интерес — не так ли, Дельфион? Хоть ты меня понимаешь!
— Твой юнец хлещет вино, в то время как ты разбираешь свинство с эстетической точки зрения, — сказал Лизитель.
Мальчишка Главков, спрятавшись за подушкой и оказавшись вне поля зрения своего хозяина, принялся за вино. Услыхав, что о нем говорят, он попытался разом допить вино, оставшееся в его кубке, и пролил половину на свой полотняный хитон. Хармид вскочил и схватил его за ухо.
— Как всегда, никакого уважения к моим счетам за стирку белья, юное ты чудовище! — кричал он.
— Давай зададим ему порку, — предложил Лизитель. — Я сделал бы это, будь он мой.
Главков захихикал.
— Ты пьян! — прошипел Хармид, тряся его.
— Ведь ты умер бы от скуки, если бы не с кем было возиться, — усмехнулась Дельфион. — Но я бы не сказала, что ты хорошо следишь за ним.
— Я буду водить его на цепи, — огрызнулся Хармид.
Флейтистка начала играть на двуствольной флейте. Дельфион вышла, и Барак, воспользовавшись тем, что два других гостя были поглощены беседой о Главконе, выскользнул вслед за нею. Дельфион услышала его шаги и остановилась.
— Там! — указала она на другой боковой проход и вопросительно подняла брови; стоя рядом с ним, она казалась еще более стройной и непонятной со своей теплой бледностью и ироническим спокойствием. Он опять растерялся.
— Ты красивее… — начал он дерзко, чтобы превозмочь свою робость, но громкий звук его голоса снова сделал его нерешительным. Он умолк и не мог вспомнить, что хотел сказать. Тогда он подзадорил себя: ведь она всего лишь коринфская куртизанка, пусть даже и дорогостоящая, — и отбросил сомнения. Он-то знает толк во всем, что касается купли-продажи. Он протянул к ней руку, но спьяну не рассчитал расстояния, которое их разделяло, и вместо того чтобы обнять ее и крепко прижать к себе, лишь неловко поймал ее руки. Она легко вырвалась.
— Нет, вернись туда, — сказала она. — Мы, может быть, побеседуем в другой раз.
Но оскорбленное тщеславие подхлестнуло его желание, а также укрепило уверенность в том, что он может заплатить любую цену.
— Они дураки. Я шутя мог бы купить их всех вместе взятых. В два счета. — Он щелкнул пальцами. — Я сын Озмилка. Я уезжал в имение отца, прожил там почти год. Ты не представляешь себе, что значит после жизни там увидеть такую женщину, как ты. Там не было никого, кроме нескольких неумытых туземных девок с сальными волосами. Я никогда еще не видел такой женщины, как ты. Это просто поразительно…
— Лучше вернись к другим, — спокойно сказала Дельфион и хотела уйти.
Он грубо схватил ее руку, не замечая, что причиняет ей боль. Дельфион поморщилась и попыталась сбросить его руку; но он продолжал ее держать, сжимая все крепче, чувствуя, что должен отстоять свое мужское достоинство. Он был уверен, что Дельфион не может не восхищаться его силой.
— Я заплачу тебе, сколько спросишь, — проговорил он хрипло. — Я сын Озмилка!
— Пусти меня, — сказала она сердито. — Я не позволю, чтобы со мной так обращались в моем собственном доме. Ты делаешь мне больно. Пусти!
— Я куплю тебе кучу вещей, — упорствовал он. — Я не из тех скупцов, что вначале обещают золотые горы, а потом жалеют гранатовое зернышко. Я не какой-нибудь жалкий эллин. Я плачу за то, что беру.
Дельфион не слушала его, чувствуя боль в руке. Она ударила его по запястью. Он рассмеялся и еще сильнее сдавил ее руку; в отчаянии она взяла его за подбородок и оттолкнула его лицо. Барак был так изумлен, что отпустил ее.
— Что такое? Начинаем злиться, а? Ты слишком много себе позволяешь. Я сын Озмилка, а ты только гулящая девка…
Дельфион ударила его по губам.
— Помни, что это мой дом!
Она быстро повернулась и, прежде чем Барак опомнился, исчезла за дверью в конце прохода. В бешенстве он сделал несколько шагов за нею. Показать сейчас же, что ей не пройдет даром такое обращение с сыном Озмилка? Или пойти собрать своих рабов и разгромить этот дом? Сколько бы она потом ни жаловалась, ее жалобы будут отклонены Сотней. Но взрыв чувств привел его в изнеможение. Он потерял власть над своим затуманенным вином разумом. Очнулся он лишь в столовой, расстроенный поражением и пылая яростью. Подойдя к столу, где девушка размешивала вино в чаше, он молча взял кувшин с неразбавленным вином и начал пить. Затем бросился на ближайшее ложе и уснул.
6
Ганнибал обедал один. Он вытер пальцы кусочком хлеба и омыл их в чаше, которую держал перед ним молодой раб.
— Келбилим, — проговорил он, не поднимая глаз, — я сказал Сфарагу, что дам ему вольную. Пришли его ко мне.
Келбилим поклонился и исчез; через несколько минут с важным видом вошел Сфараг; его развязность мгновенно превратилась в раболепие. Он пал ниц на пергамский ковер.
— Я сдержу свое слово, Сфараг, — сказал Ганнибал мягко, — хотя нет причины именно тебе оказывать предпочтение перед другими. Как ты воспользуешься своей свободой?
Сфараг поднял голову — к нему вернулась его уверенность в себе.
— С помощью моего господина я стану кондитером.
— А ты не хотел бы получить маленький участок земли? Ведь ты занимался садоводством…
— Нет, господин, я ненавижу земледелие и если смею высказать моему милостивому господину свою сокровенную мечту, — сказал Сфараг, нахально осклабившись, — то я почел бы себя счастливейшим человеком на свете, коли бы мне был дарован маленький капиталец, чтоб открыть кондитерскую. Совсем маленький капиталец, господин. Самый что ни на есть крохотный для такого богатого и благословенного небом господина! — Он сплюнул. — Прости, что я плюнул в твоем присутствии, господин, — сделал это для отвращения дурного глаза. Моя речь была дерзкой, но мог ли я сказать меньше?
— Да, из тебя вышел бы отличный лавочник, — проговорил Ганнибал с улыбкой. — Ты делал бы первоклассные пирожные, целый день грыз бы сладости и стал бы толстый, как беременная слониха.
— О нет, господин! — вскрикнул Сфараг, горделиво подняв голову. — Но я каждый день посылал бы лучшие пирожные, чтобы украсить стол моего господина. Меня вдохновляла бы мысль…
— Ты получишь деньги, — прервал его Ганнибал, делая ему знак уйти. — Мы уладим это дело завтра утром. Передай, Келбилиму, что я сказал.
Сфараг, снова полный смирения, выполз из зала.
Что это за свобода, если она употребляется на столь никчемные цели? — размышлял Ганнибал. Раб может стать образцом духовной дисциплины и посрамить жизнь свободных, и тем не менее рабство есть зло. Только в товариществе нашел я добродетель, а товарищество — только в моей армии. В этой мысли была парадоксальность, которую он сначала не заметил. Для того ли обещал он Сфарагу свободу, чтобы проверить самого себя в тот миг, когда принял новое решение, чтобы увидеть, как далеко простирается его презрение и его доверие? Каковы же ценности, которые я стремлюсь обрести? — думал он. — Мир в войне; и товарищество в узах, которые несут разрушение. В том-то и заключается парадоксальность. Он видел солдат, достигающих единения и верности путем насилия и смерти, и это имело смысл и значение только как сила, снова превращающаяся в жизнь, преобразующая жизнь и добивающаяся мира. Но это еще не конец. Он слышал споры философов разных школ, воздвигающих триумфальную арку мудрости; однако из всех этих споров он вынес лишь ощущение того, что необходимость приходит в столкновение со свободной волей. Арка сломлена и завершена в вечном круговороте жизни. Мы свободны теперь или никогда не будем свободными. И, будто поборов искушение и отделавшись от чего-то дурного, Ганнибал почувствовал, как поднимаются в нем силы, словно торжествующий взлет песни, почувствовал устремленные на него десятки тысяч глаз, в которых он отражался. И этот миг, этот взрыв песни, этот мерный шаг боевых колонн был рождением нового мира, был преображением.
Он встал и легкими, быстрыми шагами вышел в небольшой боковой зал. Неугасимая лампада горела перед нишей, где стояла бронзовая статуя Мелькарта. Величественный бог стоял там во всем своем могуществе. Ганнибал почувствовал, что его мысль получила нужную ему определенность. В товариществе, — произнес он тихо, молитвенно подняв руку. Он ощутил елей помазания на жизнь. Мир отступил, оставив лишь апофеоз могущества силы, и его жизнь была отдана этой силе. В душе его был покой.
Часть вторая
«Выборы»
1
Хармид чувствовал, что нужно объяснить кому-нибудь, почему он остается в городе, который упорно называет Кархедоном, даже в разговоре с местными жителями; не было никого, кому бы он мог излить душу, кроме Дельфион, — ее ватрушки и вино всегда были превосходны.
— Ведь ты не занята по утрам, дорогая? — спросил он. — Ты не возражаешь, чтобы товарищ по изгнанию коротал с тобой время? Для праздношатающегося странника, чье сердце ноет, всего хуже сознавать, что проклятая тоска еще больше усилится, если ему вдруг взбредет в голову шальная мысль вернуться домой. Почему я здесь? Ты должна помнить, что еще полгода назад со мной был Симий. Какой он замечательный парень! Смеется, как кентавр! И все же я считаю, что мне правильно посоветовали остаться здесь. Этот ход Ганнибала чрезвычайно интересен, если ты имеешь вкус к подобного рода вещам.
— К каким вещам? — спросила Дельфион, опустив на стол свиток со стихами Филета
[26]. Она убрала локон, выбившийся из-под золотой сетки на ее волосах.
— К этим драматическим инсценировкам, разыгрываемым Судьбой; к охватывающему тебя волнению, когда ты видишь праведного мужа, которого собираются распять, как говорит Платон
[27]; к испытываемому тобой потрясению, когда обнаруживаешь, что миф вдруг воплотился в человеке, с которым ты обедал…
— Я думаю пробыть здесь только до конца будущего года, а потом уеду в Сиракузы.
— Да, это правильно. Я хотел бы так много показать тебе там. Люблю этот город больше всех городов на свете. Но я уже говорил, что потерял веру в способность нашего народа к духовному возрождению. Ближайшее будущее принадлежит варварам. Существуют всего два серьезных соперника: Рим и этот город, Сципион и Ганнибал. Подумай, какое измельчание и показной блеск мы видим у римлян и какую глубину и деловитость у здешних людей. Это меня утешает и убеждает в том, что под руководством Баркидов тут мог бы развиться новый принцип государственности. Народ глубоко любит свой город и беззаветно предан ему. Отрицательные черты его — грубость вкусов и недостаточная развитость художественных ремесел. Но все изменится, когда изменятся устои жизни. Разумеется, это звучит малоубедительно, если подумать о Пергаме и Египте. Однако же я наполовину уверен…
Вбежала Пардалиска, стройная девушка лет
пятнадцати.
— Хармид, твой мальчишка вытащил стремянку из сарая и залез на крышу.
Дельфион, глядя вслед убегающему Хармиду, спрашивала себя, почему он так заботится о своей прическе и о чем, собственно, он толковал. Хармид ей нравился. Она попробовала читать, но почувствовала отвращение к этим стихам. Гораздо приятнее самый обыкновенный простонародный мим
[28] или стихи любого из старых лирических поэтов. Да, она поняла, что сказал Хармид; ее вдруг стала раздражать жара, пустота и пыль этого города, который не унаследовал никакой поэзии, кроме храмовых литургий и заклинаний против укусов скорпиона. Она вздохнула и отбросила свиток. Почему не признаться, что душа ее полна горечи? Она начала тихо плакать. Страх мучил ее. Так было и так будет. Уверенность она обретала лишь в те минуты, когда погружалась в обдумывание своих денежных дел. Если и это не помогало, оставалось искать утешения в вине. Ее кожа грубела с каждым днем, а дремлющий ум был способен трудиться над чем угодно, только не над подведением домашнего баланса. И дальше — скатывание в бездну неряшества и запоздалого раскаяния.
Она смахнула слезы, мягкими движениями пальцев помассировала кожу в уголках глаз и подошла к нише, где на столике лежало серебряное зеркало этрусской работы с выгравированным на тыльной стороне рисунком, изображавшим дико мечущихся Ареса и Афродиту
[29]. Она повернула зеркало к свету и принялась рассматривать свое лицо. Хармид, возвратясь с вымазанным грязью, но ликующим Главконом на спине, подумал о том, какой безмятежный у нее вид.
2
Бараку было стыдно. Хармид и другие греки разбудили его в тот вечер и отвели домой; наутро вспомнив сцену с Дельфион, он покраснел и почувствовал, что никогда больше не сможет показаться ей на глаза. Он гнал от себя мысли о ней, но они упорно возвращались. Он то решал сходить к ней и извиниться, дать ей понять, что молодые пунийцы вовсе не так невоспитанны, как она, наверно, думает; то, поддаваясь приступам ярости, клялся выказать ей полное пренебрежение и хорошенько проучить ее. В конце концов, она всего-навсего товар, предназначенный для продажи, снабженный вместо этикетки интеллектом.
Однако у Барака были и другие заботы. Его смущали политические события, которые приняли такой неожиданный оборот, пока он отсутствовал. Отец язвил насчет того, что произойдет с Ганнибалом до конца года, если он и дальше будет вести себя столь же безрассудно, но в чем заключалось его безрассудство — об этом Барак имел лишь смутное представление. Почему-то боготворимый им герой стал грозой аристократии Кар-Хадашта. Барак и не думал спорить с отцом и все же не мог отказаться от того образа, который хранил в своем сердце. Он мучился такой половинчатостью, и хотя эти мучения на долгие часы отвлекали его мысли от Дельфион, все же когда на него находили приступы стыда и жгучего желания, они были тем более сильными и непреодолимыми. Прежде всего надо было заставить эту гордую гречанку признать, что она глупо поступила, отвергнув сына Озмилка, что на самом деле она восхищается его высоким положением, его деловыми способностями, его физической силой. Когда отец поручал ему какие-нибудь финансовые расчеты, Барак думал о ней с бешенством: видела б она меня сейчас — она пожалела бы о нанесенном мне оскорблении. Или, вспоминая, как он работал на ферме, он загорался жаждой мщения и говорил себе: ей невдомек, что я могу без труда справиться с целым стадом быков.
— Тебе придется на некоторое время отложить поездку в Гадир, — сказал ему отец. — Сначала надо покончить с создавшейся неопределенностью политического положения. — Он зловеще усмехнулся, опустив одно веко ниже другого. — С этим будет покончено… и не к нашей невыгоде.
Барак понял, что отец имел в виду не только Ганнибала, но и Гербала, человека, который вот уже тридцать лет был его соперником. Озмилк и Гербал были конкурентами в производстве пурпура и вели длительную судебную тяжбу из-за земли, лежащей между их поместьями вблизи Нараггары
[30]; они добивались одних и тех же государственных постов и возглавляли две главные купеческие группы в Сенате. То, что началось как случайное недоразумение, обострилось судебными процессами и вылилось в беспощадную борьбу одного против другого. Теперь между противниками было заключено перемирие «перед лицом общей опасности для Кар-Хадашта», как выразился Озмилк, когда они оба обнялись в портике Сената перед статуей Победы, вывезенной много лет назад из какого-то сицилийского города. Барак прекрасно знал, что это объятие скорее походило на последнюю схватку в смертельном бою, чем на примирение; но оно отвечало их цели — укреплению оппозиции против Ганнибала. В этом смысле оно было достаточно искренним с обеих сторон.
И Барак снова впал в уныние. Он с превеликой радостью согласился бы на любой план уничтожения Гербала; по первому слову отца он собрал бы отряд рабов и сжег бы дом его врага. Но злодейские планы против Ганнибала повергли его в безмолвную печаль. Зачем понадобилось Ганнибалу вступать на арену государственной политики и смущать всеобщее спокойствие, когда все так хорошо складывалось? Разумеется, победа Рима над Кар-Хадаштом, особенно после долгих лет головокружительных триумфов Ганнибала в Италии, явилась страшной катастрофой. Самым худшим была потеря военно-морского флота и договор, запрещающий строить новые суда. Но со временем, несомненно, можно будет найти способ преодолеть это препятствие. Почему же тогда Ганнибал ввергает город в такое смятение и раздоры?
Однако, несмотря на свою ненависть к раздорам, Барак не мог не радоваться все усиливающемуся возбуждению в городе с приближением выборов. После года отсутствия он особенно остро ощущал на себе воздействие деловой жизни города, которая виделась ему теперь совсем в ином, свете и приводилась в движение импульсом и вихрем. Он хотел глубже окунуться в водоворот событий, откликнуться на случайный смех, услышанный за стеной, оказаться втянутым в свалку на улицах, не угождая никому и не требуя угождения, и выйти из этого круговорота с новыми идеями, над которыми можно было подумать в постели, прежде чем уснуть.
Он любил ходить по базарам и улицам с рядами лавок, наблюдать торговца приправами, безмолвно и презрительно заводящего глаза перед покупателем, который сначала хулил его товар, а затем расхваливал, как пищу богов; девочку в трепетной тени — неся на ладонях два кувшина кислого молока с плавающими в нем кусочками масла, она проворно проталкивалась сквозь толпу; — молодых крестьянок с рожками заплетенных в косы волос и коралловыми ожерельями, унизанными монетами, камешками и раковинами; менялу, медленно и бесстрастно взвешивающего шекели; моряка, насыпающего бобы в свой пропахший потом войлочный колпак; надменного ливийца с поясом из красной кожи, выискивающего что-то, как собака, потерявшая след; сидящего на корточках кочевника в остроконечном тюрбане с болтающимися спереди и сзади концами — он вертит в руках монету, словно в ней заключена разгадка тайны городской жизни. Барак чувствовал, как из его размышлений вырастает какая-то бескорыстная любовь к Кар-Хадашту, и это еще более усиливало его замешательство. Ибо как связать любовь к родному городу с его бьющей ключом жизнью и борьбу Сотни против Ганнибала, в которую он был вовлечен?
Разразилась зимняя гроза. Дождь налетал порывами, словно его бросали пригоршнями, потом начался стремительный ливень, образуя маленькие водовороты, и внезапно стих. Барак побежал ко входу в военную гавань. Он ожидал увидеть по обе стороны ворот стражников, которые занимали его воображение, когда он был мальчиком; но их не было. Смотритель удрал, ища укрытия от дождя. Впервые Барак осознал, что значило для города поражение при Заме. Это было для него как удар хлыстом средь отдававшегося эхом стука дождевых капель. В обширном, окруженном стеной порту, куда даже он, сын Озмилка, раньше мог попасть лишь с особого разрешения, причем его сопровождал рослый ливиец в начищенных до блеска бронзовых доспехах, ныне царило запустение. Он увидел лишь широкое кольцо заброшенных причалов и доков, где глухо барабанил дождь, — мавзолей утраченного величия, существующий лишь на утеху пауков, крыс и ящериц.
Не обращая внимания на дождь, Барак прошел через главный вход в порт. Кто-то окликнул его слева из окна, но он не повернул головы. Да и что тут теперь можно было украсть? Заплесневевшие канаты и паруса, смолу, капающую из растрескавшихся бочек и баков, покоробившиеся доски и гвозди, красные от ржавчины, словно из них сочилась кровь Кар-Хадашта?
В торговой гавани, где стояли купеческие корабли, все еще царили деловая сутолока и шум; но долго ли так может продолжаться, если мощный военный порт, корабли которого изгоняли ниратов из западной части Средиземного моря, был предан полному забвению?
Барак подошел к мосту, ведущему на круглый остров, где находилось здание адмиралтейства; оно тянулось ввысь рядами колонн и завершалось стройной башней, с которой можно было обозревать торговую гавань и далекие морские просторы. Когда-то здесь на высоком шесте развевался яркий вымпел и оружие сверкало на стенах верхних валов; с вышки доносился звук трубы глашатая, возвещавшего о приказах адмирала. Теперь там не видно было никаких признаков жизни, только тюфяк свешивался из окна нижнего этажа. Барак повернулся и стал оглядывать вымытый дождем бассейн, казавшийся большой круглой колоннадой; вокруг него образовали фасад здания два яруса ионических колонн. В нижнем ярусе между каждыми двумя колоннами располагались причалы. В былое время почти все двести двадцать причалов заполнялись кораблями, там их ремонтировали, нагружали продовольствием, чистили, оснащали. Там прилежно трудились тысячи маляров, такелажников, носильщиков, на суда доставлялись связки блестящих копий, огромные амфоры с вином и ящики с зерном; часть его просыпалась на каменные плиты и, когда переставали сновать люди, его клевали голуби.
Теперь здесь слышно было только завывание ветра да плеск воды между сваями и слипами. Вход в гавань был прегражден только одной цепью, другие, заржавленные и спутанные, болтались на сваях. О, тут все же еще стоят пять кораблей. Барак сначала не заметил их, запрятанных в дальнем конце огромной гавани. Но что это были за корабли! Вид их удручал, наводя на мысль о прошлом. Было бы лучше, если бы великолепные доки совсем опустели, сохранив по крайней мере величие отрешенности. Договор с Римом разрешал сохранение десяти трирем
[31]. Возможно, еще пять трирем были скрыты от взора островом и зданием адмиралтейства или находились в одной из гаваней на побережье. А может быть, они просто потонули никем не замеченные, изъеденные крысами, лопнув по швам, и никому до этого не было дела.
Да, кому было дело до этого? Этот вопрос преследовал Барака. Разве его отец и другие старейшины Сотни о чем-либо тревожились? Они беспокоятся лишь о своих доходах, они боятся исходящей от Ганнибала угрозы их привилегиям; но беспокоятся ли они о самом Кар-Хадаште? Да и он сам до сих пор ни о чем не печалился. Но сейчас его новое восприятие города как чего-то независимого от его собственных стремлений, нужд и требований заставило Барака взглянуть в лицо фактам; и он был испуган и несчастлив.
Вдруг он услышал свист за спиной и обернулся; какой-то человек кивал ему из дверей дома. Барак медленно пошел к дому, все еще не замечая дождя, хлеставшего его по лицу и стекавшего по широкому плащу.
— Что с тобой? — спросил человек. — Почему ты стоишь под дождем? Я подумал — ты решил утопиться; ты так странно смотрел на воду. Удивительное дело: если теперь кто идет топиться, то всегда бросается вон с того моста. — Человек закрыл левый глаз и в упор взглянул на Барака. — На, хлебни глоток, — сказал он, вынув из заднего кармана маленькую флягу.
Барак с радостью стал пить, а человек продолжал свою болтовню. Вино согрело Барака, он теперь лишь почувствовал, как сильно озяб.
— Так-то лучше, — сказал его новый знакомый, почесывая нос и все еще с любопытством разглядывая Барака. Он закрыл оба глаза, открыл левый, закрыл его и открыл правый, словно каждый глаз помогал ему определять различные черты характера Барака. — Я вот что скажу, — продолжал он. — Тебе нужно одно — хорошенько согреться. Есть у меня малютка — я впускаю к ней только самых близких своих друзей. Плата идет только ей. — Он ткнул пальцем в лестницу, ведущую на верхнюю галерею, где прежде находились склады боеприпасов для военного флота.
Барак покачал головой и пошел прочь. Ничего более отвратительного нельзя было придумать, чтобы завершить осквернение военного порта: смотритель сдавал его помещения проституткам. Барака охватило яростное возмущение против этого человека, он хотел его ударить. С мрачным видом он шагал под дождем. Однако холодные капли не доставляли ему удовольствия. Ему захотелось еще разок приложиться к фляге. В конце концов, никому не станет хуже, если он махнет рукой на то, чего не в силах изменить. Он поддался слабости — плотнее завернулся в плащ и пошел назад, хлюпая башмаками.
— Ладно, — сказал он, — дай хлебнуть еще глоток, а там пойдем взглянем на твоих девушек.
— Сам я ни гроша не имею от этого, — заюлил смотритель. — Я только сделал как-то одолжение нескольким приятелям и по доброте душевной не мог отказать им во второй раз. Трудно жить на свете человеку с добрым сердцем. Главное — не надо жениться. Я женился и по сей день в этом раскаиваюсь. Ступай, я покажу тебе дорогу, тут темновато на лестнице.
3
На этот раз ни одна из партий, выставивших своих кандидатов, не собиралась давать бесплатные обеды. Предвыборная борьба в Кар-Хадаште, как правило, не была ожесточенной, исключая случаи, когда возникало соперничество между ведущими семьями. Обычно подготовка к распределению постов проходила спокойно, за кулисами; посты должностных лиц открыто, но с соблюдением предосторожностей продавались тому, кто больше даст; затем Сенат рекомендовал кандидатов Собранию, и Собрание, как полагается, путем голосования, утверждало их в должности. Для избирателей устраивалось несколько обедов в братствах, и таким образом все формальности бывали соблюдены.
— Собрание, должно быть, когда-то обладало подлинной властью, — сказал Карталон, один из немногих знатных, преданных делу Баркидов. — Иначе трудно объяснить то обстоятельство, что народ все еще имеет так много формальных прав.
Герсаккон, хотя его этот вопрос не особенно интересовал, кивнул в знак согласия. Непосредственные результаты выборов — вот что его волновало. Все же нельзя было отрицать справедливость доводов Карталона. Ясно, что Кар-Хадашт был основан как сообщество равноправных людей, и Народное собрание фактически сосредоточило в своих руках всю власть — законодательную и исполнительную. С ростом влияния земельной аристократии, финансировавшей кораблестроение и торговые экспедиции, у Народного собрания была отнята власть, хотя формально оно все еще обладало правами управления государством.
— Все хроники, которые я раскопал, так скучны и сухи, — жаловался Карталон, — а традициям, охраняемым жрецами, нельзя доверять. Я просмотрел решительно все в библиотеке храма Эшмуна.
Не кто иной, как Карталон, вовлек Герсаккона в демократическую партию, и Герсаккон замещал его на совещании в доме Ганнибала: Карталон тогда болел лихорадкой после поездки в свое имение вблизи Аббы. Он был серьезный, трудолюбивый человек, но никуда не годный земледелец, ибо он всегда носился с какой-нибудь несбыточной идеей и упорно пытался провести ее в жизнь.
Пока Кар-Хадашт успешно осуществлял торговую экспансию, на народ не оказывалось давления, не делалось попыток отнять у него те полномочия, которыми он формально продолжал обладать. Это давление началось, когда отец Ганнибала предпринял первую попытку укрепиться в Испании. Патрициям не нравилась деятельность Абдмелькарта (Гамилькара); они понимали, что она приведет в движение силы, которые будут угрожать их замкнутой олигархии; однако постоянная поддержка, оказываемая Баркидам народом, играла решающую роль, и этот союз Баркидов с народом, пусть даже и не вполне осознанный, не допускал вмешательства олигархии в дела Абдмелькарта в Испании. Начались великие войны Ганнибала в Италии; медленно, но неуклонно простой народ Кар-Хадашта стал проявлять интерес к политическим событиям. Знатные еще не пытались помериться силами с Баркидами, ибо патриции, хотя успехи Баркидов им не нравились, не могли сколотить оппозицию, пока Ганнибал оставался во главе своей победоносной армии за границей. Таким образом, прочные узы, правда не закрепленные прямыми политическими связями или соглашениями, связывали Ганнибала с простыми людьми города, большинство которых никогда не видало его в лицо. А теперь эти узы были всенародно скреплены.
Окруженный группой соратников, Ганнибал провозгласил в Народном собрании свою политическую программу. Он объявил громовым голосом:
— Друзья мои, если я буду избран, сделаю все, что необходимо для обеспечения общественной безопасности и процветания.
Эти слова передавались из уст в уста. Через несколько минут они проникли в здание Сената, находившегося напротив Народного собрания. И несколько сенаторов, которые в тот момент собрались там — не для выполнения своих общественных обязанностей, а как группа акционеров, участвующих в каких-то экспортных спекуляциях, — гневно поджали губы и сощурили глаза, склонив друг к другу головы.
«Общественная безопасность и процветание». Это звучало революционно, как один из политических лозунгов неустойчивых эллинских городов-государств, где обычным явлением были конфискации и погромы, устраиваемые то одной стороной, то другой. Кар-Хадашт — образец политической устойчивости для всего мира, Кар-Хадашт, который, по признанию даже самих эллинских теоретиков, превзошел Спарту своим умением уравновешивать классовые силы и распределять прибыли среди узкого круга правящей клики, разумеется, Кар-Хадашт не собирается стать жертвой царящего в мире хаоса!
Ганнибал ушел. Карталон и Герсаккон вместе с несколькими другими патрициями, приверженцами Баркидов, стояли, беседуя, в портике, тянувшемся внутри ограды храма Ваал-Хаммона. Герсаккон все еще был одержим идеей всецело отдаться делу Ганнибала; он жаловался лишь на то, что на него не возлагают достаточно трудных задач. И все же он не мог совсем забыть Динарха, этого загадочного философа из Тарса
[32]; он произвел на Герсаккона сильнейшее впечатление, когда на празднестве в честь Танит между ними случайно завязалась беседа. У Динарха был такой вид, словно он во всем чувствует уверенность, словно ему доступны сверхъестественные источники познания, и Герсаккон тщетно пытался рассеять эту уверенность доводами разума, насмешкой, пренебрежением, безразличием. Что-то соблазнительное было в подсказанной ему Динархом мысли об открытом им пути жизни, хотя Герсаккон не мог сказать, что именно, ибо он никогда не мог вспомнить ни одного высказывания мистика, проливающего свет на это. Однако личность философа завладела его умом, будила в нем новые вопросы. Динарх как будто всегда был готов дать ключ к раскрытию какой-то тайны. Герсаккон называл его в душе шарлатаном, обманывающим самого себя глупцом, а то и просто болтуном; но он возвращался к нему, чтобы в этом удостовериться.
Герсаккон стряхнул с себя оцепенение, в которое поверг его разговор с Карталоном. Неподалеку, между колоннами, стоял Барак и мрачно на него смотрел. Герсаккон помахал рукой и подошел к нему.
— Я надеялся встретить тебя где-нибудь.
— Чего добивается Ганнибал? — спросил Барак, хмуря брови и забыв поздороваться. — Наверно, ты знаешь.
Герсаккон задумался.
— Он хочет начать все по-новому. Мне кажется, это именно так.
— Но есть разные пути начать все по-новому, — сказал Барак с раздражением. — Если, например, судовладелец узнает, что во время шторма потонули его корабли, он начинает все по-новому на один манер. А если корабли возвращаются, принеся ему большие барыши, то он начинает все по-новому на другой манер. Быть может, Ганнибал лишь вызовет бурю, которая потопит наши корабли, вернее, то, что от них осталось?
— Боюсь, твое сравнение ничего мне не говорит, — произнес Герсаккон, всматриваясь в лицо Барака и чувствуя какую-то унылую отчужденность. — Это, скорее, как… — Он подыскивал метафору. — Скорее, как… произвести на свет ребенка: новая жизнь со всеми ее возможностями, новое устремление в будущее.
Барак поморщился.
— Тысячи детей рождаются здесь ежегодно, ежемесячно… Не вижу в этом никакого нового начала. Между тем доходы, о которых я говорил, могут дать возможность совершать великие дела, плыть в неизвестные моря, построить чудесный храм, сокрушить Рим.
Они стояли молча, не в силах установить душевный контакт друг с другом. Брешь, образовавшаяся между ними, ощущалась как ненависть. Барак сдался первый. Он отвернулся и, глядя на переполненную народом площадь, с жалобной ноткой в голосе воскликнул:
— Да, я люблю этот город! Я стал бы на сторону Ганнибала, будь я уверен, что он даст нам единение и могущество. Я знаю, что дела наши плохи… — Он сдержался, жалея о вырвавшихся у него словах, готовый взять их назад. Он вовсе не хотел открыть так много и не был уверен, что правильно выразил то, что думал.
— Послушай, Барак, — проговорил Герсаккон дружески, — я как-нибудь возьму тебя с собой и познакомлю с Ганнибалом. Тогда ты проверишь свои чувства.
— Да! — пылко согласился Барак, но тут же забеспокоился: — Только чтоб не было других. Не хочется, чтобы отец узнал… — Ему было стыдно, но он не удержался и огляделся вокруг — нет ли поблизости его отца. — Уж если я решу, то буду стоять на своем. А я хочу этого, клянусь Ваал-Хаммоном. Но я еще не уверен.
— Понимаю, — сказал Герсаккон. Он чувствовал себя примиренным с Бараком, таким несчастным тот выглядел в эту минуту.
4
Братства в далеком прошлом возникали на основе родовых союзов, заняв место прежних общин, связанных главным образом родственными узами. Возвышение патрициев низвело братства до объединений граждан, находящихся в зависимости и под покровительством различных богатых и знатных родов Кар-Хадашта. Собрания членов братства, встречавшихся для участия в пиршествах и в религиозных обрядах, уже не служили скреплению уз родового братства, а превратились в своеобразные органы власти, при помощи которых богатые семьи держали бедных в подчинении, время от времени бросая им подачки в качестве платы за покорность. Кроме того, братства обеспечивали знатным большинство, голосуя за них во время выборов. После беспорядков, происходивших на протяжении целого столетия, когда род Магонидов
[33] стал главенствовать в государстве и неоднократно приходил в столкновение с богатыми, положение стабилизировалось. Волнения, вызванные Магонидами, дали городу необходимую встряску. Торговая экспансия Кар-Хадашта стала неуклонно увеличиваться, и каждый, кто хотел трудиться, мог быть уверен, что найдет применение своим силам. После длительной экономической депрессии последовало возвышение Баркидов и новый подъем предпринимательства. Затем произошел раскол; власть богатых над гражданскими общинами начала ослабевать. Положение было неясное; если бы Ганнибал победил, братства возродились бы и в большой степени восстановили бы былую силу.
Намилим, старшина избирательного округа, прилегающего к военным докам, понимал, какие перемены произошли в политической жизни города. Вот уже двадцать лет он устраивал ежегодные жертвоприношения Ваал-Хаммону и Танит пнэ Баал, Мелькарту и Эншуну и получая распоряжения от группы сенаторов, считавшихся попечителями округа. Его отец и дед делали то же самое. Эти занятия ни у кого не вызывали восторга. Только пиршества во время выборов имели еще значение для граждан. Намилим наблюдал за чистотой и порядком в местном маленьком святилище и, кроме того, проводил время, сплетничая у прилавка овощной лавки, которую он содержал на паях со своим шурином, огородником.
Теперь люди думали и поступали не так, как раньше. Они, правда, приносили пожертвования на святилище, но хотели поговорить и о себе как о членах районного братства. В день выборов придется, наверно, кое-кого из них осадить.
Приятель Намилима, человек с рыжеватой каймой бороды под подбородком, зашел в лавку купить овощей.
— Что-то уже происходит, — доверительно прошептал он, дыша в ухо Намилима запахом перца, кунжутного семени и дешевого вина. — Еще вчера сборщик налогов так стучал мне в стену, что штукатурка сыпалась, а сегодня он приходит и говорит: «Ничего, мы немного подождем». Можешь себе представить, что я ответил. «Подождем?» — сказал я и подумал: отчего бы и не подождать? Разве я виноват, что меня сглазили? Думаешь, я сам убил своего племянника? Через три года он стал бы лучшим стеклодувом в Кар-Хадаште. Разве я виноват, что у моего тестя скот околдовали? Колдуна-то он поймал, да было уже слишком поздно. И ты еще удивляешься, что я обозлен?
Он ушел, унося купленные овощи в сумке, сплетенной из травы эспарто; жена Намилима вернулась домой от своей подруги, роженицы.
— Я так устала, — сказала она и пошла наверх.
Намилим прислушивался к звукам, доносившимся сверху, когда она двигалась по комнате. Потолок был низкий, неоштукатуренный. Намилим любил прислушиваться к скрипу половиц, угадывать, что она делает, где стоит, что передвигает. Она была его второй женой, ей всего семнадцать лет, и он еще не совсем привык к ней. Временами, ловя звуки сверху, он забывал, что его первая жена умерла, и вздрагивал, когда появлялась Хотмилк. Он чувствовал себя виноватым, когда видел ее круглое личико с маленьким шрамом под левым ухом. Ее большие глаза как будто чуть-чуть косили; во всяком случае, ему всегда так казалось, и когда она на него смотрела, ему хотелось податься то влево, то вправо, чтобы попасть в поле ее зрения. К чему бы это привело, он не знал; возможно, она спросила бы: «Кто этот человек?» Он не считал свою семейную жизнь вполне устроенной; может быть, ему не следовало жениться второй раз.
Вот она делает что-то там наверху, как раз над его головой. Он поднял глаза, словно хотел увидеть сквозь доски ее стройное, крепкое тело под шуршащей туникой. Проскользнув к лестнице, он украдкой посмотрел вверх, хотя прекрасно знал, что не увидит внутренность спальни. Но что же она там делает? Может быть, ему надо было жениться на той вдове с маленькой шапочной мастерской? Оглянувшись, он заметил, как мимо лавки прокрался местный осведомитель, толстяк с отвислой губой.
Обратив свои думы от домашних забот к жизни города, Намилим медленно побрел к двери и выглянул на улицу, щурясь от яркого солнца. Не забыть бы починить навес до наступления весны. К тому же он еще не составил счетов за последний месяц для своего придирчивого шурина. Наплевать, — подумал он, — скоро выборы. Он мысленно рвался в бой, ему хотелось разругаться с кем-нибудь в пух и прах, обругать весь свет, каждого, кто топтал и презирал его. Ах, вы удивляетесь? Вы думали, я всего-навсего червь? Так вот, теперь вам придется выслушать меня, впервые за всю мою жизнь… И странное дело: образ первой жены, сливаясь с дрожащим солнечным светом, заставившим его прикрыть глаза, казалось, одобрял его и подбадривал, говоря: я всегда знала — у тебя достанет на это смелости.
5
У Хармида был приступ невралгии, и это в корне изменило его взгляды на вселенную и, в частности, на Кар-Хадашт. Главкон тоже хворал; он спал неспокойно, как в лихорадке, с открытым ртом, и единственный эллинский врач в городе, родом из Коса, объявил, что у него глисты. Главкон был в ужасе, он вообразил, что весь наполнен червями, которые быстро поедают его внутренности, и что в любую минуту он может оказаться пустой оболочкой. Хармиду, занятому собственными болями, было не до сочувствия. Напротив, он, казалось, находил удовольствие в том, чтобы доводить Главкона до слез страшными рассказами о страдальцах, которые проглотили змеиное яйцо и вывели змей в своих желудках.
— Твои взгляды, видимо, полностью зависят от состояния плоти, — сказала Дельфион, к которой он пришел со своими горестями.
— Ну еще бы, — проворчал Хармид. — Не знаю, можно ли мне выпить немного твоего золотистого хиосского. К дьяволу всех докторов! Попробую найти знахарку где-нибудь на задворках. Что ты сказала? Разумеется, мои воззрения меняются в зависимости от того, как чувствует себя моя печень. Да и у всех так, только я ненавижу притворство. В мире царит полный хаос. Все в этом проклятом городе пожирателей собак помышляют только о том, как бы заграбастать побольше денег. Здесь нет никого, с кем уважающий себя человек мог бы поговорить, кроме тебя, моя дорогая.
— Но я тоже зарабатываю себе на жизнь, — возразила Дельфион, — и это очень часто заставляет меня задумываться.
— Ну и что же, — сказал Хармид внушительно, вперив в Главкона нездорово блестевшие глаза. — Ты дитя Афродиты, воплощенный упрек торгашескому духу мира. Деньги — тьфу! Само это слово оскверняет ум. Я всецело за республику по образцу платоновской
[34], только я добавил бы четвертый класс, в котором, смею сказать, сам занял бы не последнее место, — класс поклонников красоты. И сказал бы всем: я великодушно отказываюсь в вашу пользу от всякой тяжелой работы, от борьбы, от науки, от общественных дел, а взамен только прошу оставить меня в покое и обеспечить мне условия для наслаждения красотой. Право же, дорогая, мы с тобой слишком утонченны для этого нелепого и недостойного мира.
— Ой, — заорал Главков, — я слышу, как они рычат на меня!
Урчание в желудке испугало его. Он подбежал к хозяину и схватил его руку. Хармид поморщился и высвободил пальцы.
— Нечего впадать в панику, пострел ты этакий! — сказал он с каким-то злорадством. — Они не так уж быстро тебя съедят!
— Не пугай бедняжку, — проговорила Дельфион с отсутствующим видом.
У нее были свои заботы, однако она не собиралась о них говорить. В ее заведении было шесть молодых девушек, кроме прислужниц (единственным мужчиной был вифинский раб
[35], он выполнял всю тяжелую работу по дому и ежедневно ходил на базар). Редкий день девушки не заводили ссор или интриг, но Дельфион уже привыкла к этому. Она умела поддерживать порядок, оставаясь от всего в стороне и сохраняя душевный покой. Она почему-то вспомнила грека с Кипра, посещавшего ее, когда она еще жила в Коринфе, худощавого человека, погружавшегося в неприятное молчание, когда он лежал возле нее после горячих, торопливых объятий. Но начав говорить, он, как в трансе, произносил какой-то бессвязный монолог, и его слова захватывали ее сильнее, чем ласки. Он говорил о сбрасывании всех покровов с души, стремящейся к предельной простоте; его идеалом была та ясная сущность чистоты, которую не может нарушить шум и мирская суета. Его доводов она не понимала, но эмоциональный смысл его тихо горевших слов глубоко ее волновал, смешиваясь с первыми проблесками сознания ее смелости, ее независимости. Она теперь понимала, что он ей дал то, в чем она больше всего нуждалась в тогдашнее трудное время; но он был для нее всего лишь чудаковатым парнем, хотя и желанным, а когда исчез — оставил после себя пустоту, пугающее чувство неуверенности. Она предполагала тогда, что он уехал в Боспор Киммерийский
[36].
Он привил мне чувство собственного достоинства, — сказала она себе, и ее сердце переполнилось жгучим чувством одиночества. — Чего я стою? Чего вообще стоит каждый? Она мысленно представляла свой образ: нежная, царственная, целомудренная, невозмутимо величественная, несущая дары любви благодарным беднякам. Сексуальная сторона дела не тревожила ее грез. Она была лишь средством, при помощи которого Дельфион стремилась осуществить свою мечту, лишь символом более глубоких переживаний, сил, бушующих и ломающих, разрушающих и воссоединяющих во всей вселенной; это было не более унизительно, чем оргии на празднествах в храмах Великой Матери
[37], чем многие формы священной проституции в Сирии, Анатолии, даже в ее родном Коринфе, чем обрядовые процессии во время дионисии и священные бракосочетания во время мистерий
[38].
До пятнадцати лет Дельфион воспитывалась у богатой вдовы, которой она полюбилась, и та учила Дельфион грамоте, чтобы девушка могла читать ей вслух по вечерам. Дельфион оказалась способной к наукам, и ее стали учить другим предметам — математике и поэтике. Вдова умерла от болезни сердца, и ее племянник унаследовал Дельфион вместе с другим добром. Халин был распущенный, но добродушный малый. Дельфион нравилась ему давно, когда еще вдова была жива, и он не замедлил с неким подобием чувства сделать девушку своей любовницей. Он не то в шутку, не то всерьез — Дельфион никогда не могла этого понять — поощрял ее литературные занятия. Три года спустя он обанкротился и покончил с собой, надышавшись угарным газом. Дельфион была куплена спекулянтом, который промышлял рабынями высшего класса, и стала гетерой. С тех пор как она начала вращаться в более высоких кругах общества, где остроумные и образованные гетеры окружались восхвалением и лестью, она не почувствовала особых перемен в своей жизни. Ее последний владелец явился мостом между спокойной утонченностью дома вдовы и фешенебельностью публичного дома, куда она попала потом; ее жизнь изменялась постепенно, и она ни разу не ощутила толчка или потрясения. Халин придавал их отношениям полушутливый, полустрастный характер, соединяя несомненный любовный пыл с интеллектуальным любопытством. Даже минуты самых жарких объятий они ощущали как шутку; они были зрителями своего собственного мима. В довершение всего, уже под конец их совместной жизни Халин ввел в дом юношу, своего лучшего друга, и они, не таясь, делили Дельфион между собой. Втроем они разыгрывали — в танце и в импровизированных стихах — эпизоды из мифологии, которым можно было придать неприличный характер. В Дельфион, только что посвященной в Элевсинские мистерии
[39] и — эта поездка была одной из прихотей Халина, — мимы возбуждали длительный чувственный экстаз, смешивая эмоции, на первый взгляд совершенно противоположные: явно непристойное веселье и ревностную религиозность. Ей стоило только перечитать какое-либо из произведений, которые она в свое время выучила почти наизусть, например «Вакханки» Еврипида, «Эдоны»
[40] Эсхила или некоторые оды Вакхилида
[41], к которым Халин придумал сопровождающие мимы, наполовину пародии, наполовину откровения, — и ритмы и образы становились чрезвычайно яркими и вызывающими.
Созданный ею идеальный образ самой себя ни в коей мере не был искажен тем, что Хармид назвал бы прозаической стороной ее профессии. Наоборот, он прочно сросся с нею. Но чего она совершенно не могла выносить, так это всяческую грубость, все, что носило характер оскорбления и унижения. В прошлом она по большей части была избавлена от всего этого. Вот почему поведение Барака так глубоко ее задело, тяжелым воспоминанием осев в ее памяти. Я стала слишком привередлива, — говорила она себе. С тех пор как Дельфион приехала в Кар-Хадашт, она все время посвящала устройству небольших представлений, которые ее девушки показывали после обеда избранному кругу богатых пунийцев, начавших посещать ее дом. Она была достаточно искусна, чтобы направить эмоции своих гостей не на себя, а на девушек. И вот теперь она вдруг обнаружила, что ее охватывает чувство какой-то потерянности, страха перед опасностью, которая таилась в грубости Барака.
— Что ты сказал? — спросила она Хармида.
По ее тону Хармид понял, что она его не слушала. В его глазах мелькнул злобный огонек, и он насилу заставил себя сложить губы в любезную улыбку. Дельфион с трудом подавила желание закрыть лицо руками, боясь выдать себя. Вначале она никак не могла сообразить, что говорит ей Пардалиска; девушка вошла на цыпочках — дерзкая маленькая вострушка.
— Разумеется, пусть войдет! — ответила она, лениво откинувшись на подушки.
Хармид заторопился: у него назначена встреча с врачом, который должен осмотреть Главкона. Мальчишка тянул его за руку, умоляя не мешкать. Выходя, они столкнулись с Герсакконом, и Хармид попытался насмешливо улыбнуться Дельфион через плечо, но почувствовал боль под лопатками и только состроил гримасу возвышавшейся перед ним колонне.
— Он вылечит меня? — спросил Главков с оттенком самодовольства; вот, мол, сколько хлопот с его болезнью.
— Конечно, нет. Ему лишь бы получить денежки, — твердо сказал Хармид и сразу повеселел.
— Очень рада видеть тебя, — сказала Дельфион. Она не встала с ложа, а лишь подняла руку, приветствуя Герсаккона, затем указала на подушку возле себя. — Я ждала тебя.
Герсаккон молча сел. Пардалиска налила ему вина и удалилась, стройная, босоногая, в мальчишеском хитоне. Герсаккон следил взглядом за девушкой и с минуту глядел на дверь, за которой она исчезла.
— Она тебе нравится? — спросила Дельфион сонным голосом.
— Да.
— Ее цена не так уж высока. — Она откинулась на подушку. — В этом доме все имеет свою цену.
— Но цена одних вещей выше, чем других.
Она мгновение обдумывала его ответ, потом сказала:
— Конечно.
Он тоже помедлил с ответом:
— Я не хочу этой девушки. Мне нравится ее гибкость и жестокие глаза. Вот и все.
— А мои глаза?
— Они не жестоки.
Снова пауза, затем Дельфион сказала:
— Боюсь, что и в твоих глазах есть жестокость, но не такая, как у Пардалиски.
Герсаккон закрыл глаза рукой и сказал:
— Ты мне желанна.
— Да, — проговорила она мягко. — Как жаль, что ты не делаешь попыток сблизиться со мной. — С легкой грацией она растянулась на ложе. — Плохо для нас обоих.
Герсаккон не пошевелился, и она продолжала:
— Дай мне высказаться. Я никогда раньше не говорила такого. У меня не было в этом потребности. Мое тело хочет тебя. Не пойми меня ложно. Если я овладею твоим телом, я овладею и всем тобой. И снова буду Ледой
[42] в своих снах. Герсаккон, ты обеднил мои сны.
— Я не пришел бы сегодня, если бы не хотел поговорить с тобой откровенно. Ты это знаешь. Как я люблю тебя! — прибавил он горячо.
— Это славно с твоей стороны. Какой ты милый! Ты знаешь, какой ты милый? — Она приподнялась и стала развязывать свою тунику. — Ты единственный мужчина в этом городе, у которого бог в чреслах. — Она сбросила с себя одежду. — Так лучше. Мое нагое тело под взглядом твоих ужасных глаз, Герсаккон.
Он на мгновение смутился и снова закрыл глаза рукой. Потом взглянул на нее:
— Как ты прекрасна!
— Взгляни, — сказала она нежно, — ты увидишь дождь Данаи
[43]. Правда, я вся золотая? Ты удивился бы, узнав, как давно ни один мужчина не обнимал меня. Я вся твоя. Делай со мной все, что хочешь.
— Нет, — крикнул он в отчаянии. — Это моя мука!
Она сделала вид, что не поняла его.
— Уверяю тебя, ты можешь. Все. Гляди, как золотисты мои волосы. Гляди, я вся цвета Леды, и солнечный свет льется сквозь распростертые крылья лебедя. Гляди. Обнимая меня, ты узнаешь тайные имена богов!
— Боюсь, — тихо сказал он.
— Конечно, — ответила она. — И я тоже.
— Боюсь, что, овладев тобой сейчас, я потеряю тебя потом. Боюсь, что, овладев тобой, я не потеряю тебя.
— Нет… ты боишься другого.
Он склонил голову.
— Не знаю, что это.
— Видишь, ты снова пришел ко мне. И все равно придешь опять. Зачем сопротивляться тому, что нам обоим необходимо? Говорю тебе: мне нужны не объятия твои, а то, что ты можешь мне сказать только после объятий.
Он поднял к ней руки и снова опустил их.
— Я очень ревнив. Боюсь, что буду слишком много требовать от тебя. Ты сказала — я жесток. Мое чувство к тебе слишком сильно, я слишком люблю тебя, чтобы не быть к тебе жестоким, коли найдется к этому повод. Ты позволила бы мне запереть тебя в уединенной комнате?
— Возможно.
— И в то же время невозможно.
Она закинула руки под голову и глубоко вздохнула; ее великолепный, тонкий стан слегка затрепетал.
— Почему же ты пришел?
— Я не имел права приходить! — воскликнул он горестно. — Я пришел только потому, что был слишком слаб, слишком несчастен, чтобы оставаться вдали от тебя.
— Видишь, ты не обидел меня. Меня обидело бы только, если бы я почувствовала, что не желанна тебе.
— Да, да, ты права. Я хотел обидеть тебя. Хотел быть в силах презирать тебя. И теперь знаю, что никогда не смогу.
Он вскочил, крепко обнял ее и бросился вон из комнаты. Она продолжала спокойно лежать, подвернув одну ногу под другую. Слезы медленно потекли из-под ее ресниц, но на душе у нее стало светлее; ей представилось, будто в лиственном сумраке своего воображения она видит смутные очертания светящихся фигур, движущихся в ритме танца. Я не ошиблась в нем, — сказала она себе.
6
Ганнибал жил очень скромно; он ненавидел всякую пышность и не хотел давать повод своим врагам обвинять его в намерении завести личную свиту и собственную армию. Но когда он появился на арене политической жизни, молодежь собралась вокруг него, предлагая свои услуги, и были приняты меры на случай, если правящие семьи попытаются устроить ночью нападение на его дом.
Хотя патриции, потрясенные решением Ганнибала выставить свою кандидатуру на выборах, не скупились на угрозы, не было похоже, что за угрозами последуют действия. Они разослали своих агентов с целью любыми средствами оказать нажим на избирателей, запугивая их или подкупая дарами; но так или иначе, они в сущности были деморализованы. Их беспокоило сознание того, что народные массы выказывали теперь глубокую враждебность существующему порядку. Знать была бессильна уничтожить необычайную популярность, какой пользовался Ганнибал даже после крушения всех его планов против Рима. Более всего их удручало и сковывало отсутствие достаточно мощного гарнизона из наемников, который в критическую минуту можно было бы
бросить на подавление недовольства среди граждан. Предчувствие гибели нависло над Сенатом и Советом Ста четырех; Советы Пяти почти бездействовали. Только внутренний комитет, или Малый сенат, еще сохранял хладнокровие. В него входило ядро правящего класса: владельцы крупных поместий, судов и капиталов, прямо или косвенно контролировавших торгово-промышленную жизнь города. Эти люди каждую ночь встречались в храме Эшмуна, пытаясь выработать линию поведения, способную отвести угрожающую их классовым интересам опасность.
— Они парализованы, — заявил Карталон, который был выставлен кандидатом на выборах второго шофета, коллеги Ганнибала. Карталон был горбоносый серьезный человек; он много лет изучал греческую теорию политики и вечно носился с идеей перевести «Историю» Фукидида
[44] на пунический язык.
— Возможно, — ответил Ганнибал. Он не был намерен недооценивать противника. — Возможно также, они выжидают подходящий момент для фланговой атаки или засады. — Он улыбнулся. — Скорее всего именно засады.
— Мы возродим Афины в Кар-Хадаште! — с энтузиазмом воскликнул Карталон. Он был главой эллинистов в городе. Уже несколько столетий греческое влияние преобладало в культурной жизни Кар-Хадашта, основательно видоизменив первоначальные финикийские основы и египетские тенденции пунической культуры первых веков. Греческие обычаи оказали влияние на торговую и промышленную жизнь Кар-Хадашта, греческие предметы роскоши служили образцом великолепия и пышности для богачей. Но подражание грекам было по большей части поверхностным, чисто внешним; творческие импульсы греческого мира проникали сюда лишь в очень незначительной мере. Однако за последние пятьдесят лет Кар-Хадашт как бы постепенно пробуждался, и видимыми результатами этого пробуждения явилась деятельность Баркидов в Испании и италийская кампания Ганнибала; неудовлетворенность достигнутым возрастала; унаследованные от предков грубые традиции стали быстро исчезать, невзирая на консерватизм жрецов, охранявших их. Столетия торговой активности финикийцев, этрусков и греков в Западном Средиземноморье стали давать свои плоды. Объединительные тенденции быстро растущих городов создали такое положение, когда неизбежно должна была возникнуть проблема римской или пунической гегемонии. Карталон представлял группу просвещенных пунийцев, которые сознавали, что Кар-Хадашт в долгу перед Элладой, и желали обогатить гражданскую жизнь Кар-Хадашта достижениями эллинской цивилизации.
— Я знаю, что наши промышленные изделия грубо обработаны в сравнении с эллинскими, — продолжал Карталон. — Но в известном смысле мы находимся лишь на начальной ступени развития. И теперь достигли точки, когда можем сделать большой скачок вперед. Самое главное — восстановить демократические основы нашей конституции и уничтожить торговую монополию, представляющую собой внешнюю сторону правления олигархии в государстве.
Ганнибал улыбнулся.
— Эта монополия уже уничтожена. Этому помогло наше поражение!
Карталон заговорил с таким жаром, что брызгал слюной.
— Да, но наша политика должна показать, что мы не стремимся возродить эту монополию. Наш возрожденный город Кар-Хадашт должен занимать свободную позицию в торговле, как и во всем другом. Тогда силы, вызванные нами к жизни за последние несколько столетий, расцветут пышным цветом. Я в этом убежден. Когда Афины были на вершине своего величия, их искусство почти целиком создавалось трудами иностранцев, живших в этом городе. Мы должны превратить Кар-Хадашт в Афины Запада.
Ганнибал задумался на мгновение, затем наклонил голову в знак согласия.
— Ты прав, по крайней мере в главном. Монополистические методы были частью системы олигархии. Возможно, в свое время они и были полезны, они помогали воздвигнуть и укрепить этот город. Однако я согласен с тобой: это продолжалось слишком долго, как слишком долго немногие семьи правили государством. Несомненно одно: судьба Кар-Хадашта зависит от того, своевременно ли мы выступаем против этих порядков или опоздали. Это мы узнаем еще до конца года, Карталон.
— Ты не сомневаешься, что мы будем шофетами?
— Нет, не сомневаюсь.
Ганнибал стоял, устремив взгляд на горную цепь вдали, следя за игрой света в облаках. Орлом он казался сейчас Карталону, орлом, стоящим прямо, сурово и недвижно, почти не связанным с человеческой жизнью. Карталон испытывал благоговейный трепет и легкое головокружение, находясь под впечатлением только что сказанного; он опустил глаза, будто желая удостовериться, что знает почву, на которой стоит. У него было ощущение, словно он находится на колеблющемся утесе и сквозь рокот студеной воды к нему доносится эхо резкого крика какой-то птицы. Мысль об умерших возникла в его голове; о струе фимиама, успокаивающей, как большая, спокойная рука на теле дрожащего ребенка. Из страха рождается мир, — размышлял он. — Да хранит меня бог от осквернения крови!
Карталон помнил, как он стоял с Ганнибалом под пальмами в Народном собрании, ожидая, когда объявят результаты выборов. Враг был в полной растерянности; патриции сделали лишь слабые попытки фальсифицировать подсчет голосов. Квартал за кварталом подавал большинство голосов за Ганнибала и его коллегу. Не оставалось никакого сомнения, что Ганнибал пользуется твердой поддержкой ремесленников, мелких торговцев и промышленников, земледельцев, даже части аристократии — той части, которая состояла из нескольких истинно просвещенных людей, вроде Карталона, а также тех недовольных, которые почему-либо были вытеснены из прибыльных сфер деятельности, потеряли свои владения или делали ставку на Ганнибала, под чьим руководством надеялись победить Рим.
Из провинции верхом на маленьких, но сильных лошадках прибывали группы мелкопоместных землевладельцев и молча голосовали за Ганнибала. Энергичные меры, принятые аристократией с целью обеспечить себе перевес в избирательных округах, оказались тщетными перед лицом столь сильной оппозиции. Ганнибалу было особенно приятно видеть, как мелкие землевладельцы прибывали пешком или верхом на ослах за десятки миль, чтобы отдать ему свои голоса; ведь обычно они вообще не затрудняли себя участием в выборах. Несколько человек, имевших право голосовать в Кар-Хадаште, приехали сюда даже из дальних городов, расположенных на побережье.
— Итак, победа! Я знал, что мы победим! — в волнении вскричал Карталон.
Ганнибал сдержанно кивнул.
Ликующий клич толпы нарастал, восторженный гул приветственных возгласов разносился по улицам города. В ушах знатных, скрывшихся в своих дворцах, он звучал как рев черни, жаждущей крови; ворота и двери запирались на засовы и задвижки, загораживались мебелью. Но насильственных действий не было, хотя шум все продолжался. В народе жило глубочайшее убеждение, что Ганнибал примет все необходимые меры. Настали новые времена. Оратор, выступивший перед толпой на площади у храма Мискара, заявил, что эти события были предвещены чудесными знамениями — необыкновенными родами в Тезаге. У доков одноглазый человек разглагольствовал перед слушателями о странных вещах, совершающихся в звездных мирах, о том, что Дева-Мать, явившись народу при удивительных обстоятельствах, предсказала приход Ганнибала, царя-воина, который возвестит царство мира. Меньший успех имела доктрина о том, что мир, как доказывают неоспоримые признаки, стоит на пороге второй гибели — очищения огнем. Однако все соглашались, что настали новые времена.
Часть третья
«Схватка»
1
Победа Ганнибала доставила Бараку радость — он и сам не знал почему. Это чувство не было обусловлено политическими причинами, ибо он еще не определил своего отношения к программе Ганнибала как шофета; восторгаясь человеком, который неуклонно шел к своей цели, упорно отстаивал свои взгляды, смело вторгался в хаос противоречий мира, Барак как-то связывал с Ганнибалом свои терзания и разочарования. Он хотел лишь одного: найти способ отделаться от мучивших его сомнений и неудовлетворенных желаний. После деятельной жизни в имении его раздражало праздное времяпрепровождение в городе. Отец намеревался послать его на год в качестве агента в Гадир, на Атлантическом побережье Испании; но решив отложить на время эту экспедицию, он не мог придумать для сына другой работы, кроме мелких поручений по делам, которыми занимался он сам. Бараку надоели эти мелкие дела, суть которых была от него скрыта.
В довершение всего Бараку не удавалось забыть Дельфион. Он несколько раз ходил в гавань к девушкам, просто потому, что это было легче, чем искать какое-либо другое место. Хотя чисто физическое обладание женщиной и давало ему некоторое облегчение, оно не могло погасить огонь, который Дельфион зажгла в его крови, — сложное сочетание враждебности и страстных желаний. Она не выходила из его головы все равно как, скажем, выгодная рыболовная концессия, которую конкурент перехватил бы у него в тот момент, когда он, Барак, уже прикидывал будущие барыши. Он считал себя материально пострадавшим, его чувство собственного достоинства было унижено. То, что Дельфион — человек более высокой культуры, он воспринимал как оскорбление, хотя и не сознавал этого.
Барак стал разыскивать Герсаккона, желая предложить ему вместе навестить Дельфион. Один он не решался предстать перед нею, и это еще больше бесило его. Чтобы Барак, сын Озмилка, краснел, терялся и чувствовал себя беспомощным перед обыкновенной бабой! Нет, это ей так просто не пройдет!
Видя, что сына надо чем-то занять, Озмилк давал ему задания, которые обычно поручал своим мелким служащим. Таким образом Барак приобретал ценный опыт, столь важный для будущего наследника и распорядителя имуществом семьи. Озмилк, разумеется, желал иметь наследника расчетливого и ловкого, который преумножил бы перешедшее к нему состояние, но в то же время весьма неохотно посвящал Барака в тайны своих дел. Всякий случай, когда Бараку представлялась возможность заменить его, Озмилк воспринимал как угрозу своей власти. Поэтому он находился в двойственном положении: с одной стороны, он побуждал Барака к деятельности, а с другой — сдерживал его. Барак видел во всем этом сварливость, мелочность, раздражающую несправедливость и недоумевал, почему ему не удается угодить отцу, как он того хотел. Временами он винил в этом себя и тогда бушевал и возмущался.
Так в мелких делах проходило время; он взыскивал долги, занимался торговлей, проверял накладные, угрожал должникам лишением права выкупать векселя. Он выполнял все эти обязанности с должной добросовестностью, но настоящего доверия между ним и отцом не было. Его попытки проникнуть в существо финансовых дел отца и выяснить, как ведутся сложные интриги, которые, как он смутно догадывался, лежат в основе торговых операций, неизменно встречали отпор. Особенно его занимал вопрос, каким образом отец собирается победить Ганнибала и сокрушить своего соперника Гербала.
Наиболее интересными из его деловых посещений были те, которые давали ему возможность изучать различные способы производства в мастерских. Стоя в дверях мастерской стеклодела и разговаривая с хозяином, Барак внимательно следил за действиями подмастерьев, работавших в помещении с закопченными, растрескавшимися стенами и маленькими земляными горнами, из которых то и дело вырывалось ослепительное, переливающееся всеми цветами радуги пламя.
— Мы не можем больше ждать… — говорил Барак, и хриплый голос хозяина, срывающийся на визг, когда он молил и жаловался, отвечал ему:
— Подумай, какие настали тяжелые времена. Я прошу дать мне всего месяц отсрочки. Я уверен, что до тех пор получу деньги.
Подмастерья всовывали прутья в огненную массу, вытаскивали их и, ловко орудуя длинной лопаткой, быстро придавали шарообразную форму прилипшему к концу прута кусочку расплавленного стекла.
— Ты должен понять, что мой достопочтенный отец не имеет желания быть жестокосердным, но он тут ни при чем. Во всем виноваты политические демагоги, которые подорвали основы общественного кредита; он должен вернуть свои деньги…
Прут снова полетел в горн, затем вынырнул оттуда, и с помощью другого прута был вытянут круглый кусок стекла нужного размера.
— Как ты окрашиваешь стекло? — спросил Барак, обнаруживая свою заинтересованность, и стеклодел воспользовался случаем переменить тему разговора.
— Нет, нет, красители не добавляются после, они сразу смешиваются в горне. Взгляни сюда, господин. Эй, ты, быстро покажи господину, как ты прибавляешь краску! Загляни, господин, в этот тигель. Эй, ты, я переломаю тебе ноги, ничего другого ты не заслуживаешь!..
Хозяин показал Бараку кольца и браслеты, разложенные на подносах для охлаждения. Барак перестал докучать ему уплатой долга, он старался узнать все, что мог, о его ремесле.
— Почему вы, стеклоделы, не умеете создавать такие же изделия, как александрийцы? Или в этом повинно более низкое качество песка и щелочи? Если дело только за этим, то материалы можно будет ввозить. Ты говоришь, нет мастеров? Но их тоже можно привезти. Беда в том, что вы укрываетесь за нашими торговыми монополиями. Я думаю, вы разленились за последние несколько столетий.
Стеклодел постарался увести его из мастерской, где рабы могли подслушать их разговор.
— Тебе надо подкрепиться, господин! Окажи мне милость. Да, мы грешили. Мы плохие производители. Мы противны господу. Но все же позволь моей недостойной жене поднести тебе наименее отвратительное из моих вин.
У Барака зарождались собственные честолюбивые планы. Ему хотелось создать в Кар-Хадаште художественные мастерские и вытеснить с рынка Александрию, Пергам и другие крупные центры Востока. Зачем злобствовать, устраивать заговоры и вести себя так, словно наступил конец света, только потому, что все должно развиваться и изменяться? Он иронически подумал об отце. Кто сейчас нужен, так это такой человек, как он, Барак, — с широким кругозором, с ясным представлением о том, что необходимо Кар-Хадашту, если он хочет восстановить свою гегемонию на Западе.
Шагая по улицам, Барак чувствовал в себе более чем достаточно сил для осуществления этих идей. Ему нужна лишь свобода действий, денежные средства и чтобы сварливый отец не держал его в узде. Барак репетировал проникновенные речи, в которых доказывал Озмилку, как тот отстал от времени, финансируя множество мелких, ни на что не годных мастерских и путем интриг пытаясь восстановить монополию, канувшую в вечность. Мы не можем больше контролировать крупный транзитный рынок, действуя отжившими свой век методами торговых монополий, мысленно объяснял он отцу; нужно добиваться этого, поставляя на рынок продукцию высшего качества. Это путь, по которому шли Афины, путь, по которому идет сейчас Александрия. Пока мы не улучшим промышленное производство, у нашего судоходства тоже не будет перспектив развития.
Но когда Барак очутился в доме отца, в этом столь превосходно организованном доме, где даже сени, казалось, дышат благоговением и требуют приглушать голос, он сник. Стоя перед отцом, он чувствовал все могущество его власти и незыблемость укоренившейся уверенности в своих силах. У Озмилка были деньги, авторитет, земля, корабли, у Барака — одни лишь идеи. И нерешительно сделанные им предложения были встречены холодным молчанием, которое хуже, чем любые возражения. Отец был явно против того, чтобы принять сына компаньоном в свое дело. Да, разумеется, он желал, чтобы Барак продолжал развивать свои деловые способности, но без малейшего проявления собственной инициативы. Озмилк глядел на сына из-под полуопущенных век, выпятив губы; большим и указательным пальцами левой руки он медленно крутил подвижную печатку в форме скарабея, вставленную в перстень, который он носил на правой руке. Удовлетворенный растерянностью Барака, он бросил взгляд на печатку и с треском повернул драгоценный камень в оправе.
Несмотря на свое замешательство, Барак был убежден, что он один знает, как взяться за разрешение экономических проблем Кар-Хадашта. Его бунтарские планы не давали ему покоя. У него не было никого, кому он мог довериться, и он уповал на то, что Ганнибал начнет наступление против олигархии и сломит могущество Сотни. Если будет произведена необходимая чистка, то, несомненно, наступит время людей с идеями. Когда ему приходилось присутствовать при политических спорах, его так и подмывало вмешаться и защищать Ганнибала; но осторожность и сомнения вынуждали его молчать. Внезапно овладевший им скептицизм заставлял его критически относиться к любым идеям, кроме его собственных. Ганнибал, наверно, один из тех стариков, которые хотят все захватить в свои руки, — больше ничего. Никому нельзя доверять.
Однажды вечером он проезжал верхом через Магару, возвращаясь после осмотра имения, которым интересовался Озмилк. Поровнявшись с домам, принадлежавшим Ганнону, политическому главарю антибаркидов, Барак услышал стук молотков, взрывы грубого смеха и пронзительные вопли. Барак остановил лошадь и увидел, что за оградой сада Ганнона медленно поднимаются вверх два деревянных столба с распятыми на них рабами. Один столб был плохо укреплен и завалился набок. Распятый на нем человек издал ужасающий крик, а когда столб снова подняли, Барак увидел, что он мертв. Этот несчастный оказался счастливее своего собрата, в котором все еще теплилась жизнь. Бараку были видны крупные капли пота на щетине над верхней губой и зеленовато-серая бледность напряженного лица, искаженного предсмертной судорогой.
Он поехал дальше, оставив позади два столба, торчащие посреди гранатовых деревьев фруктового сада Ганнона. Рабы становились непокорными в такие беспокойные времена. А хозяева были напуганы и становились более подозрительными. Неделю назад три раба умертвили своего господина на одной вилле в Тении, держа его голову в наполненной водой ванне. Неудивительно, что после этого события каждый замечал странное выражение в глазах своих рабов.
Продолжая свой путь через город, Барак повернул на север и вскоре оказался на улице, где находился дом Дельфион. И прежде он не однажды проезжал мимо ее дверей, но никогда ее не встречал. Он никогда не задумывался над тем, что стал бы делать, столкнувшись с нею. Так и на сей раз — почти не думая о ней, он по привычке сделал крюк и направился этой дорогой домой. Барак был расстроен, но все еще надеялся, что ему в конце концов удастся убедить отца благосклонно принять его планы. Он заметил Дельфион лишь когда оказался рядом с нею. Она была в плаще из тонкой шерстяной ткани, голову ее покрывал капюшон; позади шла одна из ее девушек, молодое существо с оливковой кожей, большим ртом и кошачьими глазами. Барак увидел девушку раньше, чем Дельфион, и злорадно улыбающееся кошачье личико вызвало у него смутное воспоминание; потом он узнал Дельфион и неловко соскочил с лошади.
Дельфион вздрогнула и быстро подняла правую руку, как бы защищаясь от удара, затем откинула капюшон. Барак остановился, и мгновение она глядела на него. Ей было досадно, что у нее вырвался этот испуганный жест. Тем, что он заставил ее так глупо вести себя, Барак вызвал в ней еще большую неприязнь, чем даже своим поведением в ее доме. Поэтому она бросила на него ледяной взгляд и прошла мимо. Девушка-кошечка слегка склонила головку и показала Бараку язык, с вызывающим видом проследовав за своей хозяйкой. Когда Барак поглядел вслед удаляющейся паре, девушка сложила руки за спиной и одной рукой сделала ему пригласительный знак.
Барак остолбенел. Он был так изумлен неожиданной встречей, что даже не успел напустить на себя достойно-безразличный вид. Он хотел поздороваться с Дельфион, взять примирительный тон, улыбнуться и попросить вновь допустить его в круг ее друзей. В нем в эту минуту не было влечения к ней; ему только хотелось возместить свою неудачу и получить возможность показать, что он ровня просвещенному эллинскому обществу Дельфион. Но то, что она так холодно отвергла его намерения и, как ему казалось, не обратила внимания на его исключительную любезность, вызвало в нем бешеную ненависть. Дельфион олицетворяла собою в ту минуту всю его оскорбленную самоуверенность, задушенные жизненные силы; и он чувствовал, что задохнется от злобы, если не сможет отплатить ей соответствующим образом.
— Милостыню во имя самой Танит… — затянул нищий со скрюченной рукой, преградивший ему путь; Барак вскочил в свое красиво расшитое седло и молча вонзил шпоры в бока коня. Нищий с воплем откатился к стене, сжимая ногу здоровой рукой.
2
От богатых и до рабов все в Кар-Хадаште ожидали драматических перемен, которые — все были в этом уверены — не преминут произойти в момент, когда Ганнибал вступит в должность. Людей волновали разные чувства — от восторга до ненависти, — однако никто не сомневался в том, что будет свидетелем необыкновенных событий. Но ничего такого не произошло.
— Сначала надо осмотреться, — сказал Ганнибал Карталону, предложившему внести на утверждение Народного собрания новые законы, тщательно разработанные им с использованием всех перлов красноречия греческого права. Ганнибал занимался текущими делами — спокойно и основательно проверял деятельность различных государственных учреждений и их методы работы, а также рассматривал те жалобы граждан, которые почему-либо привлекли его внимание. Советы Пяти, оправившись от полученного на выборах первого удара, всячески ставили ему палки в колеса. Стоило Ганнибалу затребовать какой-нибудь документ, как ему отвечали, что он либо затерян, либо уничтожен, либо никогда не существовал; какое бы дело ни захотел он расследовать, ему отвечали, что этим делом занимался чиновник, который недавно скончался. Если шофет не верит, он может пойти на кладбище и посмотреть воздвигнутый на могиле чиновника надгробный камень. Как отвечать на вопросы, если единственного человека, который что-либо знал об этом деле, теперь уже нет в живых? В довершение всего оказалось, что за последний год было несколько пожаров и ограблений, в результате чего исчезли почти все важные документы и счета; только этим должностные лица объясняли полную невозможность представить желательные шофету сведения. Каждое должностное лицо, от великих мужей из Советов Пяти до мелкого таможенного инспектора, делало все от него зависящее, чтобы препятствовать и мешать начатым Ганнибалом расследованиям.
У них были для этого основания. Но несмотря на саботаж, Ганнибал стал проникать во все части системы управления. Он подозревал, что обнаружит коррупцию и, как следствие этого, полную непригодность всей системы управления, но он никак не думал, что государственный аппарат до такой степени превращен в орудие власти и обогащения правящих семей. Он, так же как и его отец, был очень мало связан с внутренними делами Кар-Хадашта, его общение с правителями города ограничивалось почти исключительно вопросами, касающимися внешней политики. А теперь ему стало ясно, что коррупция разъела весь государственный аппарат снизу доверху. Главкон целью Сотни было сохранение господства правящих семей и обеспечение такого порядка, при котором все налоги и подати ложились бы на плечи мелких торговцев, промышленников, земледельцев и ремесленников. Для того чтобы создать столь выгодное положение правящим семьям, требовалась обширная сеть государственных агентов и должностных лиц; и все они были крепко спаяны, ибо каждому предоставлялись широкие возможности для хищений и взяток. Эта система, очевидно, была постепенно усовершенствована в течение последних столетий, со времени создания Совета Ста четырех.
Вот почему этот Совет должен быть уничтожен. Ганнибал сразу принял это решение. Труднее было найти правильную исходную позицию для атаки, подходящий момент для ее начала. Он не обсуждал этого вопроса с Карталоном, который разом потерял бы голову и начал бы с того, чем, по убеждению Ганнибала, следовало кончать. Начать с призыва к народу, принять закон о лишении Совета Ста четырех полномочий означало бы сыграть на руку богатым; они подняли бы обычный крик: «Остерегайтесь злоумышленного тирана!» Нужно было поступить иначе: осторожно маневрировать, довести общественное мнение до крайней степени накала, вызвать взрыв негодования против Совета. Тогда тактика богатых провалится и закон о лишении Совета полномочий представится необходимым ввиду создавшегося положения.
Чиновник казначейства Балишпот, патриций, использовавший свой пост для того, чтобы на следующий год пройти в Сотню, был одним из самых отъявленных саботажников. «Проведи специальную проверку его счетов, — приказал Ганнибал вольноотпущеннику Келбилиму, исполнявшему теперь обязанности его домоправителя и секретаря. — Не сомневаюсь, что откроются упущения и разные злоупотребления». Через несколько дней Келбилим, в ведении которого находились писцы шофета, доложил, что Балишпот не только был преступно небрежен в контролировании работы сборщиков податей, подчиненных его ведомству, но и, несомненно, присваивал себе немалую часть налоговых поступлений, предназначенных для уплаты контрибуции Риму.
Ганнибал улыбнулся, кивнул и распорядился послать Балишпоту официальное извещение с приказом предстать перед судом шофета.
3
Весна приближалась. Герсаккон поднял глаза на далекие фиолетовые горы, и его сердце переполнилось отчаянием. Ему казалось, что он сел на мель в океане жизни и бессмысленно на ней толчется. Он прошел к молу и стал глядеть на море, на первые корабли, входившие в отливающие зеленым блеском прибрежные воды; но стоило ему вернуться домой, как им снова овладела какая-то скованность. Как быть с Дельфион? Он будет терзаться ревностью, если сойдется с нею, зная, что она доступна ухаживаниям других, что он пришел к ней после стольких других. Ревность, которая мучит его и теперь, станет еще более невыносимой, если он сделается любовником Дельфион. Однажды ночью, перед тем как уснуть, он вдруг принял решение жениться на ней; но утром эта мысль показалась ему безумной. Он никогда не сможет забыть, отогнать подозрения и сомнения, если не будет держать ее взаперти и сам караулить у двери. Да и фамильная гордость все еще была достаточно сильна в нем, чтобы яростно воспротивиться такому соблазну. Даже если бы они уехали куда-нибудь далеко, в Гадир например, то не прошло бы и нескольких месяцев, как все вокруг начали бы перешептываться о ее прошлом. Но хотя Герсаккон приводил самому себе все эти доводы, чтобы удержаться от любовной связи с Дельфион или от женитьбы на ней, он подсознательно понимал, что существовали более глубокие и сложные причины, которые удерживали его от этого.
В действительности он использовал все доводы за и против связи с Дельфион лишь для того, чтобы заглушить в себе какой-то непонятный страх. Он испытал этот страх в ту ужасную минуту, когда Дельфион сказала ему, что у него жестокие глаза, а потом снова, когда она сказала, будто он пришел к ней, чтобы обидеть ее, но ему это не удалось. Едва ли Дельфион сама ясно представляла себе смысл этих слов. Она говорила полушутя, отзываясь на что-то в нем, чего она боялась и, быть может, желала, но едва ли понимала.
Герсаккон снова отправился к Динарху. Остановившись перед дверью, он услышал доносящийся из-за нее звук голосов и отворил ее, не постучав. Ему стало стыдно, что он так сделал, но все же он вошел. Динарх стоял, прислонившись спиной к узкому подоконнику, и беседовал с двумя женщинами, сидевшими перед ним на табуретах. Его глаза были закрыты, он говорил не спеша и выспренне. Герсаккон тихо затворил за собой дверь, отказавшись от намерения извиниться. Он отошел к стене и стал слушать.
— …Так я начал проповедовать людям красоту благочестия и познания Бога. Я сказал им: слушайте, люди, порожденные землей, предавшиеся пьянству и спящие в своем неведении Бога. Пробудитесь к трезвости. Вы отупели от крепкого напитка своих страстей, вы убаюканы дремотой, которая является смертью Разума. Так я говорил. И те, кто услышал, пришли и окружили меня с сияющими глазами. И я сказал им: увы, люди, почему вы отдали себя смерти, когда вам была дарована власть стать бессмертными! Раскайтесь, вы, что блуждали в грехе и прелюбодействовали с невежеством. Совлеките с себя ветошь мрака и примите свет. Вкусите вечности. Это — познание того, кто громко молился на рыночной площади; дай мне силу, чтобы я мог обрести благо, о котором прошу, и просветить тех из моего рода, кто пойман в сети обмана, моих братьев и ваших сыновей.
Его голос мягко замер; не открывая глаз, он сделал женщинам знак удалиться. Они встали. Старшая, с немолодым смуглым лицом, склонила голову, пробормотала что-то и направилась к двери. Лишь после того как она вышла, вторая, худощавая, бледная и очень молодая девушка, тоже склонила голову и повернулась к выходу. Проходя мимо Герсаккона, она бросила на него испытующий взгляд из-под длинных ресниц; ее большие глаза на изможденном лице горели желанием.
Динарх подождал, пока затворилась дверь, затем открыл глаза и обратился к Герсаккону.
— Ты дурно поступил, войдя сюда так, как ты это сделал. Если бы тебя влекла жажда высшего познания, это не было бы дурно. — Свет слабо мерцал на его щеках. — Однако ты несчастлив. Я ожидал тебя.
— Я не знаю, зачем пришел, — сказал Герсаккон злобно.
— Ты пришел, гонимый желанием, чтобы я вывел тебя из греха, окружающего тебя. — Динарх сделал знак рукой, и Герсаккон присел на табурет, где до него сидела худенькая девушка. — С той минуты, как я узрел твое лицо в последнее твое посещение, — продолжал Динарх, — я стал сомневаться, смогу ли тебе помочь. Мне кажется, ты скоро должен либо совсем погибнуть, терзаемый плотью, либо тебе станут доступны такие ступени откровения, которые недоступны мне. Могу лишь сказать тебе: сорви прилипшую к тебе паутину, бессмысленную пелену смерти, смерти при жизни. Беги от содрогающегося трупа, от посещаемой призраками могилы, от грабителя в доме, от врага, подмешивающего яд в твою повседневную пищу. Могу ли я предложить тебе сострадание?
— Все равно, говори! — промолвил Герсаккон упавшим голосом.
Динарх обернулся и задернул занавеси. В комнате стало темно. Герсаккон слышал, как Динарх нащупывал табурет у стола. У него началось головокружение, и он покачнулся. Динарх заговорил; под влиянием его спокойного голоса тревога Герсаккона улеглась.
— Слова приобретают другое значение во мраке. Чем могу я помочь тебе, сын мой? Слушай, формы необходимы для того, чтобы мы могли выходить за пределы форм; и в конце концов мы выходим даже за пределы разума. Поколение привязано к вертящемуся вслепую кругу, но тот, кто никогда не вкладывал свое семя в трепетное чрево, никогда не примет Матерь Божию и не узнает потустороннего мира. Ты — душа, которая была вынуждена пропустить несколько остановок на своем пути превращений, и поэтому ты испытываешь головокружение от быстроты полета. Было бы так легко отступить назад, снова упасть в первозданные глубины.
В наступившей тишине Герсаккон почувствовал, как цепенеет его ум. Шелест папируса заставил его очнуться.
— Отец, — пробормотал он напряженным голосом. — Да, я могу называть тебя так, ибо ты открываешь мне Путь… Я кое-что хочу поведать тебе. Это правда, что я несчастлив. У меня нет желания отличаться от других людей. Я хотел бы поселиться в усадьбе с женой — может быть, эллинкой. Я извожу себя из-за того, чего не существует, — это действительно так. Я даже спрашиваю себя, какие доходы ты имеешь. Кто эти твои женщины? Видишь ли, меня это нисколько не интересует. И все же я любопытствую о том, что меня совершенно не касается. Знаю, что умышленно разжигаю в себе эти чувства. Разжигаю, отец. Я пришел к убеждению, что я одержим дьяволом.
— Ты отклоняешься от сути, — донесся до него из темноты голос Динарха.
— Верно. Но я не знаю, уместно ли говорить о том, что случилось, когда мне было тринадцать лет. Мой отец скончался через десять дней после того, как мне сделали обрезание. Помню, моя кормилица сняла повязку и сказала: «Гляди, зажило». Ты скажешь, что это было не ее дело. Это должен был сделать жрец или но крайней мере домашний врач, если не мой отец, а его, как я сказал, уже не было в живых. Но меня всегда пестовали женщины. — Он задохнулся от волнения и замолчал. Затем внезапно крикнул: — Прекрати это, будь ты проклят!
Динарх сидел безмолвный, невидимый. Герсаккон не мог вынести гнетущей тишины и снова заговорил лихорадочно, бессвязно:
— Может быть, пьяная девушка-рабыня во сне придавила меня, когда я был младенцем. Я задумывался над этим в последние дни. В моем уме словно раскрывается что-то и все больше будит во мне прошлое. Люди мне кажутся холодными движущимися тенями. Его голос стал громким.
— Нет, я не могу тебе объяснить.
Глаза Герсаккона были крепко зажмурены. Когда он раскрыл их, то увидел, что Динарх отдернул занавесь. От яркого света Герсаккон растерялся.
— Что я говорил?
Динарх печально покачал головой и произнес самым вкрадчивым, декламационным тоном, как бы заканчивая беседу:
— Вот почему те, кто прозрел, ненавистны толпе и толпа ненавистна им. Да, да, они кажутся безумцами и становятся всеобщим посмешищем. Их клянут и презирают и даже предают смерти. Но богом вдохновленный человек все снесет, беззаветно веря в свет своего познания. Ибо для такого человека все хорошо, даже то, что оказывается дурным для других, и когда против него замышляют дурное, он оценивает это, исходя из своего знания, из ниспосланного ему откровения, и он один превращает зло в добро.
— Но как ты можешь называть меня богом вдохновленным? — вскрикнул Герсаккон.
— А ты все выносишь? — спросил Динарх, бросив на него пронзительный взгляд.
Герсаккон почувствовал, как на него нисходит покой; но в то же время его мятежный ум сравнивал последние слова Динарха с тем, что философ говорил женщинам. Неужели прозвучавшие в потемках последние наставления Динарха обеим женщинам неожиданно коснулись и его? Однако он был спокоен. Он даже почел себя в моральном долгу за что-то перед Динархом.
4
Последние зимние ливни обрушились на холмы и наполнили извилистые водосточные канавы, сбегающие с Бирсы, потоками воды. Великолепные ступени храма Эшмуна сверкали под лучами выглянувшего из-за туч солнца; подметальщик на Северной улице, ведущей к Площади Собрания, поднял оброненный кем-то впопыхах мешочек для денег и сунул его за пазуху со словами молитвы к Танит; воробьи и девушки щебеча выпархивали из своих убежищ под карнизами домов. Весенний ветер расстилал по небу, под золотыми щелями в облаках, свежий слой голубой краски; она капала с неба и затвердевала в радужных оттенках моря. Рыбаки в лодках с темно-красными парусами тянули за собой на веревках самок осьминогов, чтобы ловить одурелых самцов. На улицы высыпали, покачивая бедрами, благочестивые блудницы; молодые ливийцы забегали в палатки, где им заостренным клинком наносили на руку выбранный ими рисунок, царапины заполняли сажей, жиром и сурьмой, «чтобы приворожить желанную». Акация тянулась к солнцу своими великолепными желто-красными цветами. Мелочные торговцы расхаживали с подносами, на которых лежали отлитые из бронзы и вылепленные из глины скорпионы — их клали под порог дома для отвода дурного глаза. Голуби кружили над башенками с оконцами, забранными решетками на особый пунический манер. В полях виднелись цепочки рабов, работающих мотыгой и распевающих свои печальные песни.
Я верно рассчитал удар, — размышлял Ганнибал; около него не было никого, кому он мог бы высказать свои мысли. Он мог бы поговорить с Келбилимом, но это было бы все равно, что говорить с самим собой. Последнее время у Ганнибала было такое ощущение, словно он снова уходит в одиночество своего духа, подобно волнам, которые, гордо завихряясь, в своем безрассудном белопенном неистовстве обрушиваются на скалы Фароса
[45], а затем с могучим отливом отступают назад, в пучину. Не то что двадцать лет назад, когда каждое движение его души было как любовное объятие, как зов и отклик, взрыв буйного хохота, на который откликались все горы мира. Однако даже тогда под его челом таилось это мрачное, тягостное ощущение одиночества, проявлявшееся, может быть, только в непоколебимости и в неизменном безразличии. Думы о двух убитых братьях тяготели над ним всю жизнь, сжимая сердце смутной тоской.
Пройдя через летнюю столовую в заднюю часть дома, Ганнибал отворил дверь в маленькую комнату, еще не прибранную. Он запретил кому-либо входить сюда и все медлил приняться за уборку сам, хотя ненавидел всякий беспорядок.
Он нашел то, что искал, под какой-то узорчатой тканью и самнитским мечом
[46]. Это был миниатюрный портрет на слоновой кости — женское лицо, удлиненное, с широко расставленными, серьезными глазами; в ушах — кольца, тяжелые ожерелья ниспадают с шеи на широкую, не полную грудь. Иберийка из Кастуло
[47], на которой он был женат. Он вспомнил ее прощальный взгляд, руки, расстегивающие пряжку его пояса, ее спокойные движения. Это было все; этого было довольно: она жила. Он поставил портрет на столик. Хотел было взять его с собой, но вместо этого достал самнитскую бронзовую статуэтку воина в доспехах, в высоком, украшенном пером шлеме. Грубоватая работа, но выразительная. Ганнибалу нравилось, как тяжело стоит воин на своих босых ногах: это давало ощущение земли. Ганнибал усмехнулся. В конце концов, это была именно та твердость, которую он хотел получить от портрета своей иберийки жены. Но поблекшая миниатюра не давала живого представления об образе этой женщины, о ее крепком торсе и животе. Бронза была ближе его разбуженной памяти.
Он верно рассчитал удар. Толки об этом шли одновременно с приготовлениями к принесению в жертву первых плодов. Ганнибал хотел, чтобы наступление пришлось на ту пору, когда оживает природа. Первые зеленые плоды, сорванные с деревьев, первые неспелые колосья пшеницы будут принесены в жертву среди возрастающего возбуждения и трезвона об этой его новой войне. Он завершит удар, когда умы будут очищены и разгорячены шествием бога. Пробуждением Мелькарта.
Огромный погребальный костер раскладывался, согласно ритуалу, в открытой местности, на склоне холма. Процессия двигалась по городу, останавливаясь в определенных местах, где под тоскливый напев флейт и рожка, сопровождаемый боем барабанов, произносились заклинания. Голуби Танит стенали; жрицы с позолоченными сосками двигались по спиралям вечности, и глаза их, горящие зелеными изумрудами, были обведены чернотой, чтобы отвратить окружающих демонов. Голуби Танит стенали. Звучали кимвалы с невидимых башен в небе, обновляя жизнь солнца, и влюбленные лежали среди розовых вьюнков.
Толпы на улицах, у окон, на стенах и крышах омывались волнами тишины и шума. Казалось, острия зеленых побегов весны вот-вот уколют ноги; где бы кто ни стоял, он стоял на священной земле. Верховный жрец Мелькарта торжественно шествовал под колпаком в виде львиной головы и с суковатым жезлом в руке. Позади него восемь юношей в пурпурных мантиях несли похоронные носилки; слышались вздохи флейт и всхлипывания женщин.
Бог умер.[48]
Бог, который умер, проследовал через безмолвный Кар-Хадашт. Все огни погасли. Ворота жизни захлопнулись, стенание голубей ушло за пределы жизни. Только спирали танца не переставали плести нить жизни, сохраняя надежду для рода людского. Только паутина солнечного света и тени пены. Не следует ли и людям вернуться назад, к изначальным истокам, исчезнуть за пределы человеческой значимости, подчинившись извечному свершению смерти бога? Юноша лежит на похоронных носилках. Жизнь истекает кровью под ласковое журчанье флейт.
Процессия приблизилась к погребальному костру, монотонно прозвучали ритуальные слова, рука тяжело поднята, трепетные звуки флейт, сопровождаемые эхом из хаоса, возвысились угрожающе, поднялись на грань отчаяния, рассыпались смехом и успокоились в трехдольном ритме. Спирали танца вдруг стали сходиться в одной точке. Глаза-изумруды оттаивали и распускались цветами. Невнятное гнусавое пение вознеслось ввысь вместе с поднявшимся над толпой телом бога.
Факел брошен в кучу деревянных стружек вокруг бочек со смолой позади щитов, расписанных соснами и звездами. Бык на жертвенном камне мертв; мертва коза; и баран мертв. Языки пламени вздрагивали от громких взвизгов рожка. Ярко-красный дракон пламени вступил в смертельную схватку с богом и проглотил его, почив вместе с ним. Дым устремился ввысь, приняв формы деревьев, дев, снопов пшеницы. Орел взвился прямо к солнцу. Голуби хлопали крыльями над оживающим городом. Ветер подул с северо-востока. Небо было того же цвета, что и золотые искорки.
Люди пожимали друг другу руки и смеялись. Светильники и факелы зажигались от углей потухающего погребального костра. По всему городу несли новое пламя, зажигая от него очаги и лампады. Свежий ветер разносил по всей стране пепел с погребального костра. Его собирали в кувшины и горшки, им посыпали пашни, корни деревьев в садах, загоны для овец. В храме Мелькарта завеса была разодрана, и в отблесках большой, изумрудного цвета колонны из таинственной мглы выступил бог, улыбающийся и вечно юный. Женщины почувствовали, как отяжелели и потеплели их чрева внутри обогащенных тел. Девятилетние девочки, голые, с обритыми головками, танцевали под арками из взлетающих лепестков. Барабаны громыхали и бухали под отрывистый вой рогов-раковин, и звуки рожка были болезненны, как уколы любви.
Бог воскрес!
Я верно рассчитал удар, — думал Ганнибал в ту ночь, оставшись один в покое, где он хранил свитки и таблицы. Отдернув красно-зеленую шерстяную занавесь, расшитую кусочками хрусталя и нефрита, он вступил в свою собственную молельню. В ней не было ничего, кроме культовой статуи, подаренной ему жрецами в Гадире, на маленьком острове, где он постился перед тем, как выступить в поход на Италию, — простой статуи, высеченной из красного гранита, и лампады перед нею.
И он громко сказал богу: «Только правда дорога для меня. Только правда в людях. Жизнь — это борьба, будь то схватка демонов или стихий. Поэтому правда — это борьба. В душе у меня нет презрения и жалости».
Он стал на колени, сложил
руки и опустил голову. Мир плыл перед его глазами в судорожных узорах крови, угасая. Он тоже скоро умрет, и безвозвратно; и все, кто горел в солнечной купели этого дня, тоже безвозвратно уйдут в небытие, забытые навеки. Старая горечь поднялась у него к горлу.
Я становлюсь жестче с годами, — подумал он и почувствовал себя вдруг тем неуклюжим бронзовым воином, который вцепился в землю пальцами ног, сильно давя на нее пятками. Ему казалось, что теперь он уже не может так просто доверять своим порывам. Было время — словно орлы взлетали с его чела, когда он ополчался против сил тьмы. — Теперь я похож на крестьянку: подсчитываю, сколько снесено яиц, проверяю закрома и запасаюсь на зиму.
Но сквозь путаницу его мыслей пробивалось ясное сознание необходимости. Мои отношения с богом неправильны или, во всяком случае, не совсем правильны, ибо мне не хватает истинного счастья. Возможно, наступает час, когда наш аппетит становится столь ненасытным, что только смерть в силах его удовлетворить. Но я должен умереть, пронзенный копьем при последнем звуке флейты. И все же я иду верным путем.
Три часа стоял он коленопреклоненный, а когда поднялся, к нему пришло знание, непреклонное, как застывшие линии культовой статуи. Казалось, бог раскрыл ему свои объятия и он вошел в бога, в застывшие линии. Это нельзя было выразить словами. Звучание хора голосов, слияние многих красок в одну, разгадка многих контуров при вспышке света. И во всем этом растворилось его одиночество; прямо через дверь бога он прошел на другую сторону, вошел в жизнь своего народа и соединился с ним воедино. В стройной гармонии слились голоса, и краски открывали так много оттенков, и от шара света ритмически расходились лучи. Это было больше чем любовь, это было движение времени и удары молотов в кузнице.
В конце галереи зашуршали покровами тени, и Келбилим поднял к нему свое озабоченное, невопрошающее лицо.
— Разбуди меня на заре! — приказал Ганнибал и стал подниматься впереди Келбилима по лестнице. — Ах, мой друг… — Он обернулся и на минуту положил руку на плечо Келбилима, опираясь на него всей своей тяжестью. Келбилим легко выдержал эту тяжесть, глядя на своего господина снизу вверх, с озабоченным, ни о чем не вопрошающим лицом.
5
У них эти празднества проводятся лучше, чем у нас, — думала Дельфион, возвращаясь домой после Пробуждения Мелькарта. Даже Элевсинские мистерии, которые так сильно волновали ее в юности, представились ей теперь безвкусными: так, дешевое старье, к которому верховные жрецы относятся, скорее, как к достопримечательности. А этот праздник показал, что символы совершавшегося во время него обряда понятны и близки простому народу.
Придя домой, она почувствовала сильную головную боль и приняла горячую ванну. Просидев в ней слишком долго, она прилегла на ложе, расслабленная, рассеянная. А тут еще бесконечные неприятности. Одна из девушек забеременела и винила в этом Пардалиску, «Она меня сглазила, — твердила бедняга. — Иначе этого не случилось бы. Я все время пила травы и шептала заклинания. Но Пардалиска побежала к колдуну. Она втирала мне, когда я спала, какое-то вонючее зелье, вот почему это случилось!»
У другой девушки появились нарывы на теле, и она не могла участвовать в мимах, а повариха запила и лила вино не только в себя, но и во все блюда, которые готовила.
Не люблю я мирскую суету, — решила Дельфион. Эта суета нарушала покой, нарушала всегда. Придя с улицы, Дельфион никогда не могла сразу восстановить душевное равновесие. Она много лет жила уединенно у вдовы, да и впоследствии редко выходила за стены просторного прекрасного дома с большим садом, принадлежавшего ее первому любовнику. В Коринфе она тоже почти не покидала дома, лишь изредка ходила на празднества или в храм и жила столь бережливо, что за пять лет скопила довольно большую сумму и откупилась на волю. Ее светлое представление о себе самой и о своей жизни становилось ничтожным, блеклым и мелким, как только она входила в сколько-нибудь длительное соприкосновение с бессердечным торгашеским миром.
Однако горе ее было глубже, чем она сама себе признавалась, хотя она несколько раз посещала храм Деметры и Коры
[49], где совершались греческие обряды, и давала обеты. Суету улиц и вечные перебранки в доме еще можно было не принимать близко к сердцу, а при некоторой настойчивости и вовсе изгнать из своего внутреннего мира. Ее тревожило совсем другое — растущая неспособность сохранить душевную гармонию, на которой основывалось ее представление о себе. Теперь, когда она попыталась разобраться, какое воздействие оказало на нее празднество в честь Мелькарта, то с мучительным беспокойством поняла, как сильно она сама изменилась.
Ее ум работал отчетливее, чем когда-либо, но томили тревожные мысли, и волнение в ней все усиливалось. Более всего она ценила в себе дар интуитивного отражения своих переживаний, способность подчинять свои индивидуальные порывы общей цели, способность познавать мир не умозрительно, не втискивая события в заранее заготовленные формы, а путем интенсивного восприятия ритма танца, движений, когда обрывки жизни соединяются в систему равновесия, которая сочетается с духом в познании совершенства. В следующее мгновение это исчезало, но это было. И так же, как дух низводился до уровня материального круговорота жизни и излучался в исчезающих очертаниях нового видения, так изменения материи, изменения форм поднимались, вращаясь до вспышки, в мир высшего единения и предопределенных гармоний. Прощальный взмах руки в танце; взлет пронизанного судорогой тела, песня на эолийский лад
[50], услышанная в некий миг, когда ширококрылая чайка снимается с пенистого гребня волны и свет кажется зеленым сквозь грань воды; сверкающее сходство девственной груди с лилией.
Но извлечь эту символику из жизни можно только сочетая покорность и независимость. Мужчина, вошедший в ее тело, — это была движущая сила Адониса, отраженная в золотистых глазах Афродиты. До тех пор пока он не пытался разрушить эту иллюзию, она была ему благодарна, и выражалась эта благодарность в ее ласковой покорности. Если бы вдобавок он смог увлечь ее остроумием или ученостью, тем было бы лучше; это было бы приятным сюрпризом. Но главное — чтобы он только не препятствовал ей отрешиться от него в божественный момент, в момент, когда она во власти дум о себе, как о Пеннорожденной
[51]. Непристойность шутки или мима была всего лишь показом в форме сатировской драмы
[52] разобщения и соединения плоти, которая открыто доходит до экстаза в трагическом общении. Вожделение становится чистым духом через возрождение в жертвенном козле.
Ее решение искать счастья в Кар-Хадаште, хотя оно и окупилось в материальном отношении, изменило ее взгляды на жизнь. Теперь она направляла внимание посетителей на девушек, не желая участвовать в представлениях в какой-либо роли, исключая роль устроительницы увеселений. Ее потребность ясного мышления, а также склонность к рачительному ведению хозяйства немало способствовали тому, что она стала бояться давать волю чувствам, игре воображения. Но она не сознавала, что в ней жил страх до тех пор, пока Барак не оскорбил ее. После этого она несколько недель заставляла себя, несмотря на чрезвычайно сильное внутреннее сопротивление, принимать ухаживание троих посетителей, вместо того чтобы искусно направить их на Пардалиску или Клеобулу. И в результате это только усилило, а не уменьшило ее недовольство и сомнения; обеты, данные Деметре, не помогли.
У дверей послышалась возня, и вошла Архилида с красным, мокрым от слез лицом и задранной до плеч туникой. За ее спиной показалась хихикающая Пардалиска.
— Войдите обе! — сказала Дельфион резко. Эти домашние дрязги, которые прежде позабавили бы ее, теперь вызывали лишь раздражение; и чем больше она раздражалась, тем больше возникало дрязг. Пардалиска становилась сущим демоном; в этой девушке было чертовски много жизненных сил, которым можно было бы найти гораздо лучшее применение. Архилида глотала слезы; ее лицо распухло, глаза почти исчезли между вздувшимися щеками, покрытыми пятнами.
— Это она во всем виновата! — крикнула Архилида, указывая пальцем на ухмыляющуюся Пардалиску. — Это она сделала меня беременной, а вовсе не мужчины! Она заколдовала меня! Я разорву ее на части!
— Не надо так волноваться, дитя мое, — сказала Дельфион, стараясь сохранить спокойствие. — Ты право же могла бы еще некоторое время участвовать в зрелищах. Но я буду вызывать лишь одну из вас, а другая пусть отдыхает, сколько хочет. Я найду другую девушку на твое место.
— А я не хочу, чтобы на мое место взяли другую девушку! — взвизгнула Архилида. — И я не могу работать больше! Уже заметно! Взгляни!
— Пока еще совсем незаметно.
— Нет, заметно, и это убьет меня. Раз она могла наколдовать мне ребенка, она может и заставить его убить меня, когда наступит время. Моя мать так умерла.
— Ты хочешь сказать, что я заколдовала твою мать, — надменно произнесла Пардалиска, — а ведь я даже не знала о ее существовании.
В ответ Архилида снова принялась рвать на себе одежду и бухнулась на пол.
— Поднимается, как тесто, — рыдала она. — Мне приснилось прошлой ночью, что меня закрыли в печке. Пардалиска меня закрыла.
— Разве я не умница? — глумилась Пардалиска. — В следующий раз ты скажешь, я виновата в том, что ты родилась со свиным рылом вместо носа.
— Веди себя как следует, — сказала Пардалиске рассерженная Дельфион. — Зачем ты ее мучаешь?
— А когда я вижу, что она кладет гвозди в мою постель, тогда я ее тоже мучаю? — Пардалиска выпрямилась и сложила руки за спиной. — Вот что она делала! Вомбакс говорит, что она просила его принести ей лягушку. Зачем, спрашивается, ей понадобилась лягушка? — заключила она с насмешливым торжеством.
— И подумать только, что как-то раз я дала ей свое коралловое ожерелье, — стонала Архилида, скрипя зубами, — и свой лучший милетский амулет!
Дельфион вздохнула. В конце концов ей все же придется отправиться на невольничий рынок, хотя уже одна мысль об этом внушала ей отвращение. Правда, самой ей не пришлось, когда ее продавали, проходить через все эти страшные унижения, она не стояла голая, с побеленными ногами
[53] и с ярлыком на шее и покупатели и другие любопытные не щупали ее и не проверяли ее зубов. Ее поставили в особый сарай вместе с кучкой невольников высшего класса — красавиц рабынь и рабов, обученных медицине и инженерному делу. Но невольничий рынок остался в ее памяти как что-то зловещее, и она предпочитала держаться от него подальше.
Хлопнув в ладоши, Дельфион призвала Клеобулу, ласковую девушку с кроткими карими глазами, казавшимися незрячими, и велела ей взять Архилиду на свое попечение.
— Последи, чтобы ей дали к обеду жареной куропатки, — сказала Дельфион, вспомнив, что Архилида любит куропатку. Пардалиска медлила уходить, лениво вертясь на пятке; затем своей гибкой, вызывающей походкой подошла к Дельфион.
— Я знаю одну девушку, она живет в переулке позади нашего дома, — сказала она, с самоуверенным видом усевшись возле Дельфион и обняв ее за плечи. — Я думаю, она подойдет. Ты так красива сегодня, честное слово! Ну разве Архилида не дурочка? Ты позволишь поцеловать тебя под ушком?
— Что это за девушка? Ты думаешь, ее семья согласится? Я ее видела?
— Это очень милая девушка, у нее есть брат, — они близнецы, представь себе! Их почти нельзя различить. Я спросила, чем они отличаются, а она сказала, что и сама не знает… Или что-то в этом роде. Не помню точно, что она сказала, только это было очень смешно, и мы обе хохотали так, что нам пришлось держать друг друга, чтобы не упасть, — вот почему она мне так нравится. Она моя большая поклонница. Она называет свою кошку Пардалиской вместо Облибобли — так, кажется, она ее раньше называла. Она и твоя большая поклонница, конечно.
— Где же она меня видела?
— На улице два-три раза. Она прошла мимо нас на углу, когда мы выходили в последний раз. У нее еще была капуста в руках.
— Нет, я что-то не помню. Но все равно, можешь привести ее, если хочешь, и я посмотрю, если только ее мать согласна. Приведи и мать тоже.
— Ее мать противная, — сказала Пардалиска, презрительно фыркнув. — Но я скажу ей, что она может прийти. — Она живо вскочила. — Я мигом вернусь. Дам только бедняжке помыть ноги. Разумеется, она пока еще ничего особенного собой не представляет. Но из нее можно кое-что сделать. Главное, у нее стройные ноги.
Дельфион вздохнула и откинулась на подушки. Какое, все-таки облегчение, что не придется идти на невольничий рынок. Хотя Дельфион было всего двадцать четыре года, она вдруг почувствовала себя старой и как-то выбитой из колеи. А все эта Пардалиска. Дельфион приподнялась, намереваясь пойти посмотреться в зеркало, по снова легла, недовольная собой. Через несколько лет у нее будет достаточно денег, чтобы купить маленькое имение где-нибудь в Аттике или Арголиде. Она стала размышлять о своих планах, о юридических формальностях, о способах защиты от оскорблений, о том, как наладить новое хозяйство. Всякий раз, когда она думала о будущем, неожиданно возникали досадные препятствия; она не может успокоиться до тех пор, пока не обдумает заранее все возможные затруднения.
За дверью раздался голос запыхавшейся Пардалиски. Она что-то быстро говорила, убеждая кого-то войти. Занавеси раздвинулись, и вошла Пардалиска, таща за руку девушку. Другую руку девушки держала почти лысая женщина, что-то бормотавшая себе под нос. У девушки были голубые глаза ливийки и правильные черты лица; она казалась испуганной и немного рассерженной.
— Это Хоталат, — сказала Пардалиска, подталкивая девушку вперед. — Ей надо надушиться, разумеется; и ее серьги ужасны. — Затем, переходя с греческого на пунический: — Не бойся, Хоталат!
Девушка подойдет, если она не глупа. Дельфион с усилием встала и приступила к переговорам. Ей было лень говорить на пуническом, который она не очень хорошо знала.
— Ей придется научиться нашему языку, если я возьму ее. Она достаточно смышленая?
— Конечно, — ответила Пардалиска. — Она уже знает несколько слов. Я научила ее. Поздоровайся с госпожой, Хоталат, — обратилась она к девушке на пуническом.
— Хайре, о деспойна!
[54] — сказала девушка слабым, монотонным голосом.
Пардалиска в восторге ударила себя по ляжке:
— Ну-ка, повтори!
Но Хоталат была не то слишком робка, не то слишком обижена. Зато ее мать разразилась тирадой, которую ни Дельфион, ни Пардалиска не могли понять.
— Что она говорит? — спросила Пардалиска девушку.
Хоталат ответила не сразу.
— Деньги. Она хочет денег.
Ее мать снова что-то яростно затараторила на своем непонятном языке, и Хоталат наконец перевела на пунический:
— Деньги. Она хочет денег. И она объясняет, что это из-за воды в источнике, в Утике, у нее вылезли волосы.
— Но я еще не решила, возьму ли девушку, — сказала Дельфион.
— Возьми, возьми ее! — вскричала Пардалиска. — Гляди, какие у нее славные ушки и круглые колени! — Она приподняла тунику девушки. — У нее маленькая родинка здесь, на спине, но совсем бледная и похожая на козлиные рога. Ну разве это не замечательная примета? Право же, нельзя упускать такую чудесную примету. Она слишком хороша. — И Пардалиска нетерпеливо потрясла сжатыми кулачками и погладила Хоталат по лицу.
— Сними с нее тунику, — сказала Дельфион.
Пардалиска проворно взялась за дело, но ей помешала мать девушки; она отпустила руку дочери лишь после того, как договорилась о цене. Наконец Пардалиска отступила на шаг, любуясь своей подопечной.
— Я ведь говорила, что она хороша, — заявила она, склонив голову набок.
Да, девушка была хороша.
— А она действительно хочет, чтобы ее купили? — спросила Дельфион.
— Разумеется, хочет, — воскликнула Пардалиска с негодованием. — Ты думаешь, она сумасшедшая? Я ведь сказала тебе, что она моя подруга. Она ждет не дождется, чтобы ее купили?
— А как отец?
— Он умер, отравившись тухлой рыбой, — бойко ответила Пардалиска. — Уже давно. Уверяю тебя, Дельфион, голубушка, я все уже разузнала.
— Пусть девушка сама скажет. — И Дельфион обратилась к Хоталат по-пунически: — Ты поняла? Ты хочешь, чтобы я тебя купила?
Девушка энергично закивала.
— Если только я могу взять с собой свою кошку.
Договорились, что завтра сделку скрепят законным договором, где будет предусмотрен особый пункт, строго запрещающий матери являться в дом, после того как она получит деньги. Хоталат не хотела уходить. Она всхлипывала и цеплялась за косяк двери, но мать ни за что не желала отпустить ее руку, пока не будут уплачены деньги, и Хоталат пришлось отправиться на ночь домой.
С этим покончено, — думала Дельфион, в то время как Пардалиска сжимала ее в объятиях и обещала за месяц сделать Хоталат презентабельной и пригодной к исполнению своих обязанностей.
— Придумай для нее какое-нибудь эллинское имя, — сказала Дельфион. — Мы не можем называть наших девушек варварскими именами.
Надо будет представить ее как девушку из Македонии. Дельфион уже придумала для нее подходящую одежду, украшения для волос, позы Афродиты, в роли которой она будет специализироваться.
— Ее можно использовать и в ролях Ганимеда
[55] в качестве твоего дублера, — проговорила Дельфион, сжав губы.
— О, какая ты умница! — вскричала Пардалиска, обнимая ее.
Хотя Дельфион почувствовала облегчение и даже приятное возбуждение, беспокойство вернулось; и вдруг она поняла его причину. Держа в одной руке зеркало и взяв другою гребень, частый с одной стороны и редкий с другой, она увидела на банке с нардом отпечаток своего пальца и внезапно ощутила, как ее тело холодеет от страха, словно охваченное порывом ледяного ветра. Случилось так, что в самой сущности абстрагированного ритуала возникло понятие личности, настойчиво утверждающей совершенно новое средоточие жизненного опыта. Несомненно, в какой-то период жизни Дельфион, как и в прошлом человека вообще, этот ритуал был самой могучей силой для нового осознания личности, свободы; но наступило время, когда внешние формы стали слишком тесны и превратились в препятствие для стихийного проявления личности и свободы. Требовались новые формы, а возможно, и старые формы, но видоизмененные, нужна была другая фаза развития; иначе внутренний круговорот жизни становится уничтожающим себя вихрем. Она не могла бы так продолжать.
После этой ночи она стала видеть вещи яснее. Да, она снова соприкоснулась с действительностью во время обряда пробуждения Мелькарта. Поэтому она еще не совсем погибла, старые вехи направляли ее не только в пустыню. Постепенно приходящее к ней сознание того, что на ее жизнь воздействуют могучие силы, выражающиеся в жестах благословения, и страха, и обновления, было связано с памятью о Герсакконе. Что предлагал он ей? У нее было такое чувство, будто она предала его, уничтожила нечто драгоценное, проявила жестокую бесчувственность в обращении с ним. Не принес ли он ей нечто новое, еще неведомое вселенной, но уже возникающее в этот самый час в деяниях богов? А она в ответ предложила ему только затхлый хлам, старые уловки распутства, ритмы истощившейся поэзии.
Она терзалась, падая в пропасть смирения и самоунижения, что было ей чуждо. Ей хотелось целовать его ноги, хотелось, чтобы ее топтали и надругались над нею в каком-то новом месте. У нее было ощущение бесконечной агонии и жертвенного подвига. На какое-то мгновение, когда она металась при тусклом мерцании светильника, вся в поту, кусая руки и чувствуя глубоко в груди гложущую боль, она вообразила себя умирающим богом — Адонисом с кровоточащей раной в боку, Аписом, распятым на Древе проклятия
[56], Мелькартом, претерпевающим смертные муки в огне, Осирисом, растерзанным в клочья. И вдруг пришел покой, голуби взлетели из глубины глубин ее существа, вспыхнул благодатный свет — и она погрузилась в сон.
6
Слухи о том, что Ганнибал вызвал на суд Балишпота, казначея, распространились еще накануне празднования воскресения Мелькарта; утихнув на время, толки об этом оживились, едва окончилось празднество. Ощущение неминуемой схватки усиливалось самим ритуалом празднества, в котором было все: смерть и воскресение, сон и пробуждение юного бога-героя Мелькарта, избавителя от злых чудовищ, странника, проникающего в неведомое в поисках новых источников жизни.
Весенние костры, вливая силы в землю, воодушевляли сердца людей, вселяли мужество и надежду. Ритуальные единоборства на равнине вокруг озера подготовили почву для ожесточенных социальных битв: две команды молодых девушек боролись и фехтовали палками, пока-одна команда не сдалась и девушки не бросились врассыпную. Пляски и любовные объятия в зеленых кущах обещали гармонию по окончании борьбы. Город выжидал.
Ганнибал, заседавший в судейской коллегии шофетов перед зданием Сената, вторично послал Балишпоту вызов. На этот раз Балишпот прислал письмо, в котором просил извинить его: он, мол, слишком занят, чтобы уделять внимание всяким пустякам. Ганнибал перешел к слушанию других дел, а на следующее утро послал к Балишпоту в третий раз. Балишпот ответил, что у него важное свидание с цирюльником. При огромном стечении народа, заполнившего всю Площадь Собрания, Ганнибал поднялся со своего места, сорвал пурпуровую кайму с мантии и объявил, что правосудию нанесено оскорбление.
— Пока это пятно не будет смыто, город останется оскверненным! — воскликнул он звонким голосом. — Арестовать осквернителя города!
Служители коллегии шофета, взяв в подмогу ветеранов последней армии Ганнибала, направились в дом, где находился Балишпот. Подняв эмблему шофета, они вошли и объявили Балишпоту, что он арестован. Его отвели на Площадь Собрания. Невзирая на страшную давку, толпа расступилась, образовав проход; Балишпот и его охрана проследовали к трибуналу, где, склонив голову, сидел Ганнибал.
— Город осквернен! — воскликнул Ганнибал, когда перед ним предстал Балишпот. — Решение суда осквернено. И не безвестным бедняком, а одним из власть имущих. Блюститель исполнения присяги — сам лжец. Человек, облеченный властью следить за чистотой нравов, — осквернитель, Страж народа — предатель.
Толпа ответила громким ревом одобрения; Ганнибал повернулся к Балишпоту, невысокому человеку с тяжелой челюстью и квадратной курчавой бородой, спрятанной в красный холщовый мешочек.
— Тебя вызывали трижды, и каждый раз ты отказывался явиться на зов. И все же ты здесь.
— Как будто так, — ответил Балишпот резко и сухо, пожав плечами. К чему вся эта комедия? Он прекрасно знал, что в конце года пройдет в Совет Ста, куда поступают на утверждение все приговоры суда. Он виноват не больше или ненамного больше, чем любой член Совета, который существует лишь для того, чтобы защищать правящий класс и терроризировать другие. Обвинять его глупо и смешно, это бессмысленное заигрывание с народом. В самом деле, это даже небезопасно: толпа может выйти из повиновения. Но Балишпота успокаивало сознание несправедливости выдвинутого против него обвинения. Почему к нему придираются больше, чем к другим? К тому же он страдал от несварения желудка и был в крайне дурном расположении духа.
— Приступаем к суду над Балишпотом, старшим казначеем, по обвинению в лихоимстве, насилии и измене! — провозгласил Ганнибал. — Признает ли обвиняемый себя виновным?
— Я отвергаю этот суд, — ответил Балишпот вне себя от ярости. — Я не признаю за ним права судить меня. Я взываю к конституции. Пусть меня судят, если это необходимо, по истечении года моего пребывания в должности, но пусть судят те, кто имеет на это право, — Сотня.
— Мы продолжаем слушать дело, — объявил Ганнибал, — оставив пока в стороне вопрос об оскорблении подсудимым государства, олицетворяемого шофетом.
Балишпот фыркнул. Спокойно и неторопливо были перечислены улики, тщательно подобранные и подготовленные Келбилимом под надзором Ганнибала. Сначала выступили свидетели, раскрывшие последствия безграничной жадности таких чиновников, как Балишпот, для простых людей: земледелец, лишившийся своей земли; вдова мелкого торговца, покончившего с собой; лавочник, представивший доказательства, что его дважды обложили налогом. И так без конца — доведенные до отчаяния, разоренные, разрушенные семьи. В толпе поднимался гневный ропот. Балишпот слушал с презрительным и отсутствующим выражением лица, однако он делал усилия подавить обуявший его страх. С каждой минутой все более вероятной становилась угроза народного возмущения. Быть может, Ганнибал нарочно хочет бросить его на растерзание черни, для того чтобы вызвать неминуемый разрыв между правящими семьями и народом. Но почему он выбрал именно меня? — хотел крикнуть Балишпот.
Затем начались свидетельские показания о взяточничестве, Балишпот не стал более слушать. Его глаза были прикованы к дверям Сената позади Ганнибала. Он не мог поверить, что Сотня покинула его. Неужели они не понимают, что, бросая меня на съедение волкам, они обрекают и себя?
— Взываю к Сенату! — вскричал он.
— Подсудимый будет ждать, пока не закончатся свидетельские показания, — ответил Ганнибал.
Изложение материала о продажности в казначействе продолжалось. Балишпот не мог не признать, что обвинительный акт составлен блестяще, ему даже стало интересно. Он начал внимательнее слушать разоблачения. Тут было много такого, чего он не знал. Кто это мошенничал? Он был страшно возмущен тем, что ему приписали несколько не особо значительных растрат, которые, очевидно, были делом рук подначальных ему чиновников.
— Не виновен! — заорал Балишпот, услышав, что к нему снова обратились с вопросом. — Взываю к Сенату против шофета, я имею на это право по конституции! Что же касается всей этой лжи и фальсификаций, сфабрикованных моими бесчестными врагами, то я отказываюсь на них отвечать! Я настаиваю на своем конституционном праве!
Ганнибал дал знак отвести Балишпота в сторону. Толпа разразилась дикими криками, требуя его крови. Ганнибал выждал, пока оглушительный шум заполнил всю Площадь Собрания, перекатываясь эхом из одного конца ее в другой: не мешает нагнать страху на богатые семьи. Этот гвалт испортит сегодня много роскошных обедов в Кар-Хадаште. Его не скоро забудешь!
Балишпот вдруг потерял самообладание; он завопил и сорвал мешочек со своей блестящей курчавой бороды, которая была его гордостью, и выдрал из нее несколько завитков. Но его вопли потонули в общем гаме.
Ганнибал поднял руку, и толпа постепенно затихла. Балишпот, как-то странно задыхаясь, застонал. Внезапно наступившая тишина казалась зловещей, чреватой рвущимся наружу насилием. Для многих сенаторов, случайно оказавшихся в здании Сената, в храме Ваал-Хаммона, в банковских конторах над портиком и наблюдавших судебный процесс, внезапно воцарившаяся тишина была таким же неприятным доказательством власти Ганнибала, каким до этого был неистовый шум.
— Принимаю обращение к Сенату, согласно конституции, — объявил Ганнибал.
Толпа издала протяжный вздох. Отчасти это означало, что напряжение ослабло, отчасти — что толпа была сбита с толку и не понимала смысла происходящего. Неужели это судебное разбирательство затеяно лишь для того, чтобы превратить дело в предмет политических споров? Когда народ стал медленно расходиться, разбиваясь на кучки возбужденно спорящих людей, многие ораторы выражали сомнения и тревогу. Другие твердили, что они доверяют Ганнибалу; что бы он ни делал, все к лучшему. Сам Ганнибал ушел с Площади Собрания со своей немногочисленной охраной.
Если народ еще не мог разобраться в происходящем, то друзья Балишпота отнюдь не были обрадованы результатом процесса.
— Ты не должен был этого делать, — сказал Балишпоту Гербал, пожилой человек с серым лицом и холодной яростью в глазах. — Ты не должен был позволять ему превращать этот процесс в конституционный спор.
— Это не был конституционный спор, — пробормотал Балишпот, нервно ощупывая бороду в тех местах, где были вырваны волоски.
Когда он увидел, что Ганнибал принимает его обращение к Сенату, то вообразил, будто необыкновенно ловко выпутался из трудного положения. Он стоял, окруженный обезумевшей чернью, жаждущей его крови, и, сохранив хладнокровие, нашел единственный путь спасти себя. Он ожидал горячих поздравлений от своих собратьев из правящих семей. Но они вовсе не были расположены оценить его усилия. Они, видимо, считают, что ему следовало скорее отдать себя на растерзание, чем позволить Ганнибалу превратить дело в открытую распрю между шофетом и Сенатом. Ибо, согласно конституции, когда между шофетом и Сенатом возникал спор, народ созывался для осуществления своих законодательных функций и последнее слово принадлежало ему. Эти функции никогда не осуществлялись народом по той простой причине, что никто не мог вспомнить, чтобы когда-либо возникал серьезный конфликт между Сенатом и шофетом. Казалось, не было никаких оснований отнимать у народа право, которым он никогда не пользовался.
Гербал сжал бескровные губы и взглянул на Озмилка, своего соперника, с которым они теперь публично помирились. Озмилк кивнул. Балишпот, безусловно, проявил эгоизм. Он явно сыграл на руку Ганнибалу. Будь у Балишпота хоть капля преданности своим братьям по классу, он скорее дал бы себя разорвать на куски, чем навлек бы на них беду.
— Во всяком случае, было бы хорошо, — проворчал Балишпот, потеряв всю свою классовую сознательность, — если бы кто-нибудь из вас вышел к этой орущей черни… Заверяю вас… Лично… — Он щупал бороду, донельзя расстроенный тем, что слева в ней образовалась плешина. — Все, что теперь нужно, — это твердая позиция. Твердая позиция. Он всего только демагог…
Гербал и Озмилк переглянулись. Никто из них и не думал недооценивать Ганнибала. Теперь дело шло о жизни и смерти; в Кар-Хадаште нет места для Ганнибала и правящих семей. Что ж, Ганнибал не глупец; но и они не глупцы. Время покажет.
— Ведь вы не выдадите меня черни? — проговорил Балишпот с опасением, перехватив взгляд, которым обменялись Гербал и Озмилк; он так нервничал, что забыл о всякой осторожности.
— Нет, нет, — раздраженно ответил Озмилк. Им, конечно, придется теперь защищать Балишпота, хотя им вовсе не улыбается апеллировать к народу.
— А нельзя ли подослать к нему убийц? — спросил Балишпот, стоявший ошеломленный, с открытым ртом.
Гербал щелкнул языком. Право же, этот Балишпот рехнулся. Как будто убийство не было тем средством, о котором они подумали в первую очередь! Но Ганнибала слишком хорошо охраняли; кроме того, убийство в такой момент только разъярило бы чернь, и она бросилась бы поджигать их дворцы.
— Пойди лучше проспись, — сказал Гербал резко своим тонким, дребезжащим голосом. — Помимо всего прочего, ты, видно, забыл, что у нас нет войска! — И вдруг он тоже забыл всякую осторожность; от ненависти у него засосало под ложечкой, он скрючился, ловя воздух перекошенным ртом, и сухой старческой рукой ударил по витой колонне: — И все-таки неужели ты думаешь, что он проживет больше года?
7
Барака не раз брало искушение обратиться за финансовой помощью для осуществления своих планов к магнатам Кар-Хадашта, даже к конкурентам своего отца. Но он прекрасно знал, что едва они разведают о его идеях, как используют их в собственных интересах, а затем бросят его. Он посетил несколько гончарных мастерских, расположенных в северной части города вдоль ограды обширного кладбища Кар-Хадашта, и побеседовал с одним родосцем, который сообщил ему много ценных сведений о лучших видах современной керамики и о районах наибольшего спроса на нее. Воодушевленный беседой, Барак прихвастнул немного и дал понять родосцу, что ворочает крупными делами. Гончар проникся к нему уважением, и Барак туманно обещал свое влиятельное содействие.
— В горах в окрестностях Тунета есть несколько хороших месторождений керамической глины, — сообщил родосец. Он попытался связать Барака обещанием финансировать его проект и, уговаривая юношу, взволнованно носился по своей маленькой мастерской с сушильными печами из сырцового кирпича и опущенным в землю горном эллиптической формы. — Нам нужна большая гончарная мастерская; тяга воздуха здесь совсем плохая.
Стоявший посреди мастерской столб поддерживал сводчатое перекрытие над горном, который соединялся трубами с двухъярусной, цилиндрической формы топкой. В поде верхнего яруса над топкой были отверстия для прохода кверху горячих газов. Рабы приготовляли горшки для обжига, ставя более грубые изделия прямо в топку, а более тонкие — с таким расчетом, чтобы пламя не касалось их непосредственно. На полках стояли ряды необожженных ваз; под навесы у стен ставили готовую продукцию, вынутую из печи; возле двери лежала большая куча глины, в нее была воткнута лопата; повсюду на полу валялись черепки разбитых горшков.
— Никто из моих работников не умеет как следует накладывать краску, — жаловался родосец. Он уныло показал пальцем на неуклюжие горшки однообразной формы из красноватой и серой глины с белой или бледно-желтой полоской. — Грубый, ломкий товар, плохо обожженный — все это верно. Но у нас все время был устойчивый рынок.
— Хорошо, мы все это изменим, — сказал Барак, стараясь не терять энтузиазма, которым он был полон в начале беседы.
Барак оставил родосца с его мечтами о большой, современной гончарной мастерской, изделия которой вытеснили бы Родос и Кампанью с западных рынков, и в подавленном настроении отправился домой.
Он еще более помрачнел, когда по пути зашел к одной женщине, занимавшейся перевозкой торговых грузов по морю, чтобы обсудить некоторые транспортные вопросы. Она была незаконной дочерью патриция и пользовалась большей свободой, чем женщины ее сословия. Будучи очень умной и гораздо опытнее Барака, она относилась к нему несколько снисходительно. Его возмутила ее манера обращаться с ним, но в конце концов он решил, что его идеи, может быть, и в самом деле не столь уж блестящи, как он предполагал.
Барак так привык делать крюк по дороге домой, чтобы пройти мимо дома Дельфион, что и сейчас почти машинально пошел этим путем. Когда он поворачивал за угол возле улицы, где жила гречанка, на него наскочила какая-то девушка. Он пробормотал извинения, полагая, что сам по рассеянности толкнул девушку, но через несколько шагов она снова наскочила на него и расхохоталась. Он узнал ее.
— Да мы кажется знакомы, — сказал Барак. Он остановился, затем, нахмурившись, хотел пройти мимо.
Но она преградила ему путь.
— Мой господин Барак, наверно, не так уж занят, чтобы не мог потерять минутку с преданной ему служанкой, известной бесчисленным своим поклонникам под именем Пардалиски из Лемноса?
Барак колебался, но, взглянув на ее зовущее и насмешливое лицо, улыбнулся:
— Где же мы можем поговорить?
— Иди за мной, — бросила ему Пардалиска.
Она побежала вперед и вскоре свернула в узкую улочку. Барак увидел, как она шмыгнула в боковую дверь кабачка, и последовал за нею со смешанным чувством сомнения, недоверия и ожидания.
Пардалиска приподняла занавесь у входа в одну из комнат вдоль галереи, и он поспешил туда.
— Прежде всего купи кампанского вина и инжира в меду с фиалками.
Пардалиска казалась чрезвычайно довольной; она только что посетила три из тридцати различных лавок, где могла получать товары даром, заходя лишь на несколько минут за занавеску. Она была в обиде на Дельфион, которая задала ей взбучку за то, что она положила в суп этой несчастной Архилиды крепких мочегонных трав. Архилида подняла шум, только чтобы выставить себя в выгодном свете и вызвать всеобщее сочувствие.
Барак заказал молодому слуге вино и инжир, уселся и взглянул в лицо Пардалиске, желая понять, что у нее на уме.
— Почему ты больше не навещаешь нас? — спросила она, выплюнув черенок инжира. — Я видела, ты что-то начал, но не кончил.
Барак был так поражен, что потерял всякое самообладание и грохнул кулаком по столу.
— Вот как! Я что-то начал и не кончил, а? Я для тебя дурак, трус, презренный шут? Человек, у которого в голове полно идей, но он не может их осуществить! — Он стал жадно пить красное вино, зло глядя на девушку.
Пардалиска с любопытством смотрела на него, вдруг решив изменить свой первоначальный план. Она, собственно, заманила его сюда просто потому, что он красив, богат, молод, потому что ей очень хотелось вмешаться в личную жизнь своей хозяйки и потому что ей доставляло удовольствие заводить интрижки вне дома Дельфион. Но видя, как исказилось лицо Барака, она подумала, нельзя ли использовать чувства юноши с большей пользой, чем для мимолетной встречи в грязном кабачке.
— Нет, я только думаю, что ты ее боишься, — сказала Пардалиска, зондируя почву.
— Я боюсь ее? Я не боюсь ни одного человека на свете, будь то мужчина или женщина. У меня просто нет времени, чтобы как следует осадить ее и поставить на место. Вот и все. Я занят планами переустройства всего производства в нашем городе. Только сегодня я разговаривал с одним человеком, которого намерен поставить во главе крупного гончарного предприятия. Мы будем делать настоящую посуду, не такую дрянь. — Он швырнул на пол чашу с водой и тупо уставился на черепки. — Пошел вон! — крикнул он прибежавшему слуге, который смотрел на него вытаращенными глазами. — Я заплачу. Я могу заплатить за все горшки в этом доме и не замечу, что денег у меня стало меньше. Мой отец — Озмилк, сенатор, раб и все такое… — Он повернулся к Пардалиске: — Что ты сказала?
— Только то, что я восхищаюсь твоим носом.
Барак пощупал свой нос и выпил еще вина.
— Ты милая девушка, в самом деле, ты очень, очень мила! Я когда-нибудь приищу тебе шикарное место, только дай срок.
— Я дам тебе все что угодно, дорогой!
Он взял ее руку.
— Послушай-ка, могу ли я действительно уважать тебя? Сколько ты стоишь?
— О, моя цена состоит из крупных цифр. Она обозначена в обычном месте, где проставляются клейма и цены. Взгляни.
— Ты удивительно милая девушка, — сказал Барак, теряя всякую осторожность. — Больше того, ты понимаешь меня. Больше того, я собираюсь устроить твою судьбу. И самое главное — я ненавижу эту женщину.
— Она ужасно заносчива.
— Как раз это я и хотел сказать. Она заносчива. Я порицаю ее за многое. Я подумывал нанять мальчишек, чтобы они бросали скорпионов в ее окна. В общем, я хочу, чтобы ты мне помогла.
Пардалиска приблизила к нему свою головку, коснувшись лбом его лба. Он почувствовал ее нежное дыхание.
— Разве это не счастье для меня, что мы встретились? Давай обсудим это дело как следует… — проговорила она.
Три ночи спустя засовы на маленькой боковой калитке в ограде сада Дельфион были отодвинуты с легкостью, показавшей, как хорошо они были смазаны, и стройная девушка, высунув голову на улицу, шепотом позвала:
— Барак!
— Я здесь! — отозвался Барак не совсем уверенно.
Он подошел ближе, и Пардалиска, схватив его за руку, наклонила к себе его голову и обнюхала лицо.
— Ты обещал мне не пить. Беда с вами, пьянчугами: вы никогда не замечаете, как сильно шумите.
— Я выпил самую малость, — проворчал Барак; и это была правда, ибо неуверенность в его голосе объяснялась скорее волнением. Пардалиска чмокнула его в подбородок и ласково погладила; затем она потянула его в сад, прижала к ограде и тщательно заперла калитку.
— Дай руку, — прошептала она, — и только не спеши.
Она повела его по галерее, где стоял запах роз и мяты; затем велела нагнуть голову, и они прошли через низкую дверь. Ступени лестницы заскрипели, когда они стали медленно подниматься. На верхней площадке Пардалиска постояла немного, прислушиваясь.
— Как она хрипло смеется, эта Клеобула, — процедила она сквозь зубы.
Несмотря на громкое биение сердца, Барак услышал девичий смех за стеной. У него было такое ощущение, будто он что-то забыл; он хотел попросить Пардалиску остановиться, пока он соберется с мыслями и вспомнит, что он забыл захватить.
— Подожди минутку, — прошептал он, но Пардалиска, не обращая на это внимания, только крепче сжала его руку своей маленькой сильной ручкой. Он вспотел и хотел вытереть ладонь. Его не оставляло ощущение, что он что-то позабыл и все будет испорчено. Он хотел повернуть назад. Я не боюсь, — подумал он, — но я не подготовлен, я что-то позабыл. Однако пойдет ли он дальше или отступит назад — все равно он поставит себя в дурацкое положение. Будь она проклята, эта женщина! Будь они все прокляты!
— Она читает внизу, в библиотеке, — сказала Пардалиска, презрительным шипением подчеркивая слова «читает» и «библиотека». — Все в порядке.
Она заглянула за занавесь и, сильно дернув руку Барака, втащила его в комнату. Он споткнулся о тигровую шкуру на полу и тяжело бухнулся на кровать.
— О боги, как ты шумишь, пьянчужка ты этакий! — набросилась на него Пардалиска. Оба они в страхе прислушались, но с парадной лестницы не донеслось ни звука.
— Ты не заслуживаешь своего счастья, — продолжала Пардалиска, потрепав Барака по щеке. В избытке воинственных чувств он сделал страшные глаза и сказал, надувшись:
— Ты растрепала мне волосы.
Пардалиска схватила его за руку и заставила подняться.
— Живей! — сказала она и потащила его через всю комнату в угол, где вышитая драпировка закрывала маленькую гардеробную.
— Здесь есть дырочки, через них тебе все будет видно, — шепнула она, показывая на вышивку. — Я знаю, потому что скрывалась тут, когда мы играли в прятки. Только не кашляй, не чихай и не вздумай петь. Ты здесь в полной безопасности. Сегодня я буду готовить ее ко сну.
На лестнице послышались шаги. Пардалиска расправила складки драпировки и подбежала к туалетному столику. Вошла Дельфион, в руке она держала свиток; вид у нее был утомленный.
— Почему ты подняла здесь такой шум?
— Какой шум? — спросила Пардалиска, широко раскрыв глаза; в ее очаровательно невинном голосе звучало скрытое озорство. — Я только убирала тут. Это просто ужасный дом; как здесь отдаются эхом все звуки, правда? Нельзя повернуться в постели, чтобы
не было слышно на весь дом. Клеобула совсем не благородная девушка, она все время хихикает. Однажды я даже подумала, что у нас провалился потолок, а это Архилида слетела с задней лестницы — помнишь, в тот день, когда она пыталась уверить всех, будто у нее перелом позвоночника. А на самом деле она просто умирала от зависти, вообразив, будто ей не дали того чудесного пирога, который получила Софоклидиска, а ее кусок все время лежал на столе, только эта неуклюжая Клеобула нечаянно накрыла его шарфом — ты ведь знаешь, как она всегда разбрасывает свои вещи, когда раздевается второпях.
— Какая ты, однако, болтушка, дитя мое, — сказала Дельфион, садясь на край постели и положив свиток на колени.
— Разве? Но большинство людей достаточно учтивы и мне говорят, будто им нравится моя болтовня. Мне самой нравится. Хармид говорит…
— Помоги мне раздеться, — прервала ее Дельфион. — Я хочу лечь.
— Конечно. Ты так прелестна в постели. Горячая вода уже готова.
Дельфион закрыла глаза, в то время как ловкие пальцы Пардалиски развязывали, расстегивали, стягивали ее одежды с плеч и через голову и наконец сняли сандалии. Налив воды в чашу, Пардалиска обмыла ноги своей госпожи. Дельфион зевнула и нагая откинулась на подушки. Какое блаженство лежать так, какая легкость и покой! Она слушала пустую болтовню Пардалиски, не вникая в смысл. Слушать было приятно, именно не разбирая слов, — Пардалиска щебетала звонко и весело, словно птичка.
— Нет, я не хочу этой ерунды сегодня, — сказала Дельфион, отмахиваясь от нарда, ассирийских притираний и мазей, сделанных, судя по этикеткам, из молока сказочных зверей и пахнущих миндалем. — Но ты можешь помассировать меня немного. У меня сводит руки и ноги от долгого сидения на месте.
— Да, ты ужасно много сидишь, правда? Тебе придется больше следить за своей фигурой. Знаешь, Клеобула всегда приходит в ярость, когда мы ей это говорим. Но что верно, то верно…
Дельфион задремала. Ей не удалось удержать промелькнувшее перед нею новое видение, которое даровали ей празднества Мелькарта. Лишь слабо мерцающий свет остался как воспоминание о том, что произошло с нею, да не покидало все усиливавшееся внутреннее недовольство. Хорошо, что ее донимали заботы о деньгах, о доме — они служили как бы болеутоляющим средством. И еще эта новая девушка, которую надо обучить. Способная ученица, действительно смышленое существо, обладающее чувством танцевального мима. Мне следовало бы стать учительницей, — подумала Дельфион и вздохнула; она грезила о Сапфо, о зеленых лужайках Митилены
[57], о море, сверкающем, как драгоценный камень, меж кипарисов, о юной девушке, сияющей белизной кожи, с полуоткрытыми устами и с гирляндой из шафрана и укропа на прекрасных распушенных волосах; в этом райском уголке роса рассыпает свои брызги, чтобы влить новые силы в розы, гибкие травы и цветущий клевер; но печально бродит она, вспоминая Аттиса, некогда ее возлюбленного… Просторы посеребренного луной, далекого, бурного моря… Ее пронизала такая глубокая тоска по родине, какой она еще никогда не испытывала. Она застонала и заметалась, испугав Пардалиску.
— Милая ты моя!
— Ты все еще здесь? — глухим голосом спросила Дельфион, приподнявшись с ложа. — Я думала, ты ушла. Иди ложись. Погоди… В лампаде достаточно масла? Да, все в порядке. Можешь идти.
Пардалиска подбежала к ней, охватила ее колени и, всхлипнув, расцеловала ее, затем отпустила и выбежала из комнаты. Дельфион удивил этот взрыв чувств. Что происходит с девочкой? Внезапные бурные излияния — это нехорошо, нездорово. Как девушки ссорятся из-за пустяков… Ее мысли стали путаться. Она сознавала, что глядит на пламя лампады, различает желтые и золотые оттенки, прислушивается к шипению горящего масла. Ей хотелось как следует улечься в постели, хотелось еще почитать, но она не могла пошевельнуться. В ней все усиливалось ощущение опасности, но опасности внутри себя, медленного, неуклонного нанизывания сомнений, грозивших овладеть ее душой. Боги, спасите меня, — взмолилась она, — ведь не схожу же я с ума! Казалось разум покидает ее — какая-то смутная, туманная тень, будто остов разбитого бурей корабля, промелькнула по потолку; и в то же мгновение она заметила на потолке маленькие паутинки и подумала, что завтра сделает выговор служанке.
Она вдруг очнулась от полудремоты, положила голову повыше, накрылась простыней. Запах горящего масла был неприятен, но она не могла спать без света и не хотела, чтобы в ее комнате спала одна из девушек. Уединение стало для нее настоятельной потребностью, да и не стоило создавать новые причины для зависти между девушками, их и без того было достаточно. Ремни под матрацем скрипнули — один из крюков расшатался, надо велеть починить его.
Дельфион села и стала искать глазами свиток. Он скатился на пол. Как поднять его, не вставая? Эта мысль привела ее в изнеможение. Она оглянулась вокруг, ища, чем бы зацепить свиток, хотя знала, что ничего не выйдет. Тогда она стала медленно перегибаться над краем кровати и почувствовала, как кровь прилила к голове и груди стали приятно прохладными. Но до свитка нельзя было дотянуться. Позвать Пардалиску? Нет, девушка, наверно, уже спит; да если ее теперь и позвать, то уже не отделаешься от нее. Она сделала последнее усилие дотянуться до свитка и вдруг упала на пол.
От падения Дельфион совсем проснулась. Она сидела на маленьком индийском коврике, наслаждаясь своей прохладной наготой, чувствуя необычайный прилив бодрости и энергии. Заглянула под ложе… Затем поднялась, потянулась, зевнула и прыгнула в постель; ей хотелось читать. Она прочитала комедию до конца — это был «Третейский суд» Менандра
[58]. Затем улеглась поудобнее и стала думать о прочитанном. «Я докажу, что сам ты в такой же западне…» Да, это очень тонко сказано. О, на свете есть еще добро и тонкий ум. Жалеть и все же превозмочь жалость; видеть с суровой ясностью, что всколыхнуло глубочайшие бездны жалости. Она вдруг сказала себе: он знал меня, он для меня это написал. «То удел наш человеческий». И все-таки она еще в западне; никакое взаимное прощение грехов не помогло бы ей. Однако, читая пьесу, такую утонченно ясную, она почувствовала успокоение. Она нашла свой жизненный путь. В ней бурлили родники любви, из которых никто еще не пил; она желала нежного, благородного взаимопонимания, осознания любви как отрадного воздаяния.
Теперь она крепко спала. Барак был в этом уверен. Сколько раз ему хотелось чихнуть, кашлянуть, упасть на пол. Его глаза так устали, пока он глядел сквозь крошечные дырочки в ткани, что ему стоило большого труда сосредоточить их на Дельфион. В довершение всего ему очень хотелось лечь на пол и уснуть. Сон казался ему гораздо более желанным, чем любая женщина. Его удерживала не столько ненависть к Дельфион, сколько страх быть высмеянным Пардалиской. Но ненависть в нем осталась, поднимаясь горячими волнами желания. Он отдернул драпировку и шагнул в комнату.
Ничего не произошло. Лампада зашипела и продолжала гореть ровным пламенем. Он слышал глубокое, спокойное дыхание Дельфион. Она повернулась на бок, накрывшись с головой простыней. Это придало ему смелости — смелости, вызванной внезапным бурным желанием. Он на цыпочках подошел к лампаде, накрыл рукой пламя, не испытывая даже боли от ожога. В темноте он почувствовал, как она повернулась к нему и раскрыла объятия, чтобы принять его.
Часть четвертая
«Кризис»
1
Намилим, хранитель местного святилища на второй улице позади здания Сената, купил раба, одноглазого сардинца, отзывавшегося на имя Карал. Во всяком случае, так расслышал его имя Намилим; парень заикался и поэтому стоил дешево. Хотмилк сначала довольно критически отнеслась к покупке, но скоро смягчилась, обнаружив, что Карал, хотя он, бесспорно, был полоумный, недурно выполнял поручения по хозяйству и правильно давал сдачу в лавке. Иногда, впрочем, он раздражал покупателей своей медлительностью в подсчетах. Хотмилк должна была признать, что та половина его ума, которая у него осталась, была не так уж плоха; самым большим недостатком Карала были его манеры за столом и привычка спать не на кровати, а под нею.
Намилим последнее время был слишком занят, чтобы стоять за прилавком. Многолюдно стало не только в его святилище — оживление царило также в торговых союзах и в похоронных обществах; ключом била политическая жизнь на избирательных участках. Люди должны были где-то встречаться, чтобы обсуждать свои дела и организовать поддержку Ганнибалу. В Кар-Хадаште все еще было много свободных ремесленников. Самыми красноречивыми ораторами в квартале Намилима были грек из Олинфа
[59], сириец египетского происхождения, чей отец был из Библоса, ливиец шести футов ростом с Большого Сирта
[60] и торговец благовониями, отец которого, иберийский воин, прижил его с дочерью негритянки и сицилийского грека. Сам Намилим считал себя чистокровным финикийцем: какую-нибудь ливийку среди его отдаленных предков можно было не принимать во внимание.
Велик был энтузиазм народа, когда разнеслась молва о том, как Ганнибал встал в Сенате со своего места и объявил, что не может признать решения Сената по делу Балишпота. «Ввиду того, что я, шофет, нахожусь в решительной оппозиции к Сенату, у меня нет другого выхода, как обратиться к высшему органу власти — Народному собранию». Вот что он сказал. Все словно видели, как он произнес эти слова, оглядываясь вокруг со своей спокойной улыбкой, которая так ободряла его приверженцев и приводила в ярость противников, убежденных в том, что она прикрывала дьявольскую гордость: «Пусть народ соберется на Площади и решит, где истина. И да сгинет ложь!» То-то нагонят на них страху эти слова!
На перекрестке двух улиц грек из Олинфа, владелец канатной мастерской, взобравшись на камень, произнес речь. Он рассказал, как его город лет двести назад призвал к созданию союза городов Северной Греции; этот союз в дальнейшем должен был объединить всю Элладу и покончить со страшными распрями между городами. «Все члены союза имели равные права. Но богатеям Эллады это не понравилось… Они начали интриговать с царем Македонии, который жаждал расширить свои владения. Так распался наш союз, погибла последняя надежда Эллады».
— Нет, не последняя, — сказал высокий, могучего телосложения моряк, — последняя надежда — это Набис. Он теперь воюет против Рима.
Спорящие запутались в деталях политики Греции, толпа перестала их понимать; олинфянина стащили с камня, на его место влез торговец благовониями. Он начал с басни о зверях, в которой говорилось о преимуществах единства. Делая вывод из того, что сказал олинфянин, торговец воскликнул:
— Да, в этом наша последняя надежда! Если мы не победим теперь, Кар-Хадашт обречен. Но чего нам бояться, пока мы дружно стоим за Ганнибала? Богатые семьи струсили, потому что у них отняли солдат и они больше не могут держать нас в страхе…
Служитель храма, которому было присвоено звание Божьего куафера, пытался прервать оратора, но его прогнали.
Условия развития пунического государства способствовали тому, что участие в выборах на протяжении многих поколений было доступно и семьям, которые не могли бы доказать свои конституционные избирательные права. Любой арендатор земли или владелец дома, любой лавочник или свободный ремесленник, каким-нибудь образом связанный со знатным покровителем или уплативший небольшую мзду должностным лицам, легко мог стать избирателем. Богатые, ревниво оберегавшие свои торговые монополии, не стремились ограничивать рост числа избирателей из мелкого люда, которые раболепствовали перед ними. После победы олигархии над Магонидами были приняты жесткие законы о регулировании государственных расходов, тут же нарушавшиеся теми, кто их установил; вместо открытой государственной политики и свободных дискуссий начались тайные интриги, борьба за власть. Между тем население Кар-Хадашта и соседних пунических городов становилось все более ливийским по составу, хотя большей частью перенимало пунический язык. Теперь богатые жалели о том, что не заботились об ограничении гражданства на расовой основе, и Сенат тщетно выносил решения по этому вопросу. Такие решения не удавалось превратить в указы, так как шофет использовал свое право вето, а пытаться превратить их в закон путем обращения к народу было бесполезно. Богатые вынуждены были заняться делом Балишпота в связи с апелляцией его к Сенату. Ганнибал созвал Народное собрание на другой день после празднеств Танит пнэ Баал; он продолжал свою политику использования религии народа, которая была тем фокусом, где сосредоточивались революционные чувства масс.
Соседка Намилима, жена башмачника, с гордостью уплетала кашу из белой глины, оливкового масла и древесного угля; это месиво считалось магическим средством для облегчения первых месяцев беременности, а также для ослабления родовых мук. Хотмилк, помогавшая ей в стряпне, довольно бестактно завела речь о жене булочника, которая пухла в течение девяти месяцев и все продолжала пухнуть, ничего не производя на свет; ее явно соблазнил и надул ветряной демон.
— Лекари чего только ни делали, но не могли заставить ее выпустить ветер!
К счастью, жена башмачника была совершенно уверена в себе и не боялась дурного глаза; она улыбнулась, глядя на статуэтку Бес, веселого коротышки, танцующего карлика в львиной шкуре, и Бес, казалось, подмигнул ей в ответ.
Намилим на другой стороне улицы разговаривал с торговцем пеньковыми циновками. На окне не было занавесок, и Намилиму было видно, как Хотмилк движется по комнате.
— Для горлиц не делают отверстий в стене. Только для голубей, — говорил торговец циновками. — Насесты надо ставить на скобу. Не давай птицам летать — от этого они теряют жир. Я покажу тебе сети, в которых их держат. Ничего не значит, что ты сам не любишь голубей. Человек должен знать все, что он может узнать. Узнанное тобой можно передавать другим. Не забудь, что я твой сосед и мои цены умеренны. Факт, ты можешь заработать пятьдесят процентов в день на голубях, если хорошо поставишь дело. Знаешь, какая работа, по-моему, самая легкая? Быть жевальщиком в голубином питомнике. Только и дел: разжевывать белый хлеб для голубят. Лучше всего сломать птицам ноги, пока они еще птенцы: им больно всего лишь два дня, от силы три, зато они начинают бешено жиреть, и ты экономишь кучу денег.
Намилиму не хотелось заходить в дом торговца и смотреть на голубей. Он разговаривал с ним лишь потому, что отсюда удобно было глядеть на Хотмилк. Его мучила мысль, что ему надо пойти домой и перебрать кунжутные семена, вода уже кипела и было приготовлено полотнище, чтобы выложить семена для просушки после второй промывки холодной водой, которая смыла всю солому. Он так долго откладывал это дело, что семена того и гляди заплесневеют. Пожалуй, он все же ошибся, не женившись на той вдове, пусть даже у нее была волосатая бородавка на носу. Он никак не мог добиться, чтобы Хотмилк смотрела прямо на него; она тихо напевала, когда поднималась по лестнице; у нее было слишком много подруг в дальнем конце города, которые все время рожали детей, и он-застал ее однажды вдыхающей какие-то курения из маленького горшочка с бычьими головами вместо ручек.
Все его тревоги сосредоточились теперь на этом горшочке с курениями. Хотмилк была явно смущена, когда он ее застал, и пыталась спрятать горшочек под кровать; затем она сказала, что это всего лишь средство против блох. Но он ясно видел, как она что-то вдыхала и бормотала заклинания. С тех пор она всякий раз, замечая, что он смотрит на нее, начинала чесаться и жаловаться на блох. Она даже расстегивала тунику, чтобы показать ему красные следы от блошиных укусов. И стоило ей почесаться, пожаловаться или показать новое пятнышко, как его подозрения усиливались. Неужели у нее такая плохая память и она забыла, что однажды хвалилась, какая у нее нежная кожа — сразу же краснеет, если даже просто потереть ее? Все эти ссылки на блошиные укусы — наглая ложь, тут дело не в блохах, а в нечистой совести. Какого дьявола она держит этот горшочек? Когда Хотмилк ушла из дому, Намилим принялся за поиски и нашел горшочек на верху шкафа. Из него шел сильный запах анисового семени и коровьего помета; несомненно, она употребляла много этой дряни в его отсутствие.
Поэтому, когда Хотмилк, вернувшись от благодушной жены башмачника, сказала мужу, что пойдет навестить свою подружку Аматмелькарт, он почувствовал, что его подозрения правильны. Хотмилк так преувеличенно вздрогнула от удивления, когда он встретился взглядом с нею, стоя в дверях лавки, хотя наверняка заметила его через окно. Строит из себя невинное дитя — это уж чересчур! Нет никакого сомнения — она пыталась околдовать его содержимым горшочка, и его добрый гений вовремя привел его сюда, чтобы помешать ей и рассеять ее чары.
Намилим сердито фыркнул и подождал, пока она не отошла на некоторое расстояние вниз по улице. Потом быстро схватил самый старый плащ, в котором Хотмилк его никогда не видала, и приказал сардинцу, разинувшему рот от удивления, стеречь дом, а сам побежал вслед за своей бедовой женой. Хотя его пинали и обзывали обидными словами в уличной толчее, он не терял ее из виду. Хотмилк шла быстро, слегка покачивая бедрами, лавируя в сутолоке улицы. Намилим никогда прежде не замечал, что у нее такая восхитительная походка; но при его нынешнем настроении ее походка служила только лишним доказательством ее дурных наклонностей. После того как он прошел за нею с полдюжины улиц, не сводя глаз с ее покачивающегося зада, у него закружилась голова от странного ощущения, что этот зад его гипнотизирует. Казалось, было по нескольку демонов в каждой части нежного тела этой проклятой женщины. С неожиданной ловкостью он избежал столкновения с подносом, уставленным дрянными позолоченными вещицами, предназначавшимися для захоронения вместе с покойником в могилу в качестве дара умершему, и вовремя успел заметить, что Хотмилк завернула за угол. Она обернулась и поглядела назад, но он наклонился, и это спасло его от разоблачения; кроме того, Хотмилк никогда я в голову не пришло бы, что он мог надеть такой старый, залатанный плащ с прорехой на каждой стороне капюшона как бы специально для того, чтобы продевать в эти дыры ослиные уши.
Он поспешно обогнул угол, толкнув человека, несшего кипу войлока, и успел заметить, как Хотмилк проскользнула в дверь какого-то дома в конце узкой улочки. А она-то сказала, что пойдет навестить подружку в Какабе! Он приблизился к дому, но тут вся его храбрость улетучилась. Кто знает, что там? Лучше подождать, пока она выйдет, и как следует ее отчитать. А вдруг она выйдет каким-нибудь другим путем? Он взглянул поверх низкой изгороди сбоку дома. Недавно здесь был пожар, два дома сгорели, вернее, их снесли, чтобы не дать распространиться огню. В развалинах кто-то жил: он слышал пронзительный крик ребенка, хотя никого не было видно.
Намилим перелез через изгородь и стал пробираться к задней части дома, в котором скрылась Хотмилк. Немного выше его головы было окно, занавешенное циновкой. Он с трудом приволок большой камень. Став на камень, он мог посмотреть в окно. Но он не хотел отодвигать циновку, а единственная дыра в ней была примерно на локоть выше уровня его глаз. Он соскочил, нашел другой камень, забрался на него и посмотрел через дыру. Ему послышались какие-то непонятные звуки, вроде «о-о-о-о» или «о-у». Их издавала женщина. Он увидел Хотмилк. Да, это была его жена, она стояла совершенно голая и делала какие-то странные движения. Однако прежде, чем он успел еще что-нибудь разглядеть, он услышал какое-то шуршание позади себя, и в стену возле его головы ударился камешек.
Намилим соскочил с камня и увидел, что ватага мальчишек смеется над ним и явно готовится обстрелять его камешками. Ему надо было куда-то скрыться, пока Хотмилк и ее любовник не обнаружили его. Но он не мог уйти, и мысль о его неизбежном разоблачении придала ему безрассудную смелость. Присутствие мальчишек и успокоило и смутило его и побуждало действовать. Он подбежал к задней двери дома, отворил ее, вскарабкался по нескольким полусгнившим ступеням, стукнулся головой о перекладину, споткнулся, выругался, увидел луч света в замочной скважине, распахнул дверь в комнату и застыл на месте, уставившись на Хотмилк.
Хотмилк тоже вытаращила на него глаза. На ней действительно не было никакой одежды; кроме нее в комнате находилась беззубая старуха, с явным удовольствием хлеставшая Хотмилк пучком крапивы.
— Что тут происходит? — зло спросил Намилим.
— Убирайся отсюда! — взвизгнула старуха, наступая на него с крапивой. — Это почтенная госпожа. Не суйся тут со своими гадостями.
— Это моя жена, — сказал Намилим не очень уверенно. — За кого ты меня принимаешь? Что все это значит? Хотмилк, сейчас же оденься!
— Пусть сначала она мне заплатит! — крикнула старуха. — Самые высокие особы нашего города оказывают честь моему бедному дому, и я не допущу, чтобы меня провела какая-то мелкая сошка.
Хотмилк, плача, принялась быстро одеваться.
— Я только хотела, чтобы ты любил меня, — всхлипывала она.
Намилим стоял изумленный. Оттолкнув старуху, он подошел к Хотмилк.
— Что ты тут делала?
— Я думала, ты меня не любишь, потому что у меня нет детей, — говорила Хотмилк, рыдая у него на груди. — Ты так странно глядел на меня, и я решила, что нужно что-то сделать…
— Ну, ну, — успокаивал ее Намилим, сжимая в объятиях.
Он почувствовал к ней нежность. Он должен проявлять к ней больше чуткости. Ему уже было совершенно безразлично, верна она ему или нет. Он хотел вернуться в свою лавку, к святилищу, к политическим спорам, а также перебрать наконец эту груду кунжутных семян. Весь пыл его растроганного сердца принадлежал Ганнибалу.
— Моя дорогая женушка! — сказал он и поцеловал ее.
2
Дядя Герсаккона приехал погостить из своего имения в Тунете, и так как у него не было собственного дома в Кар-Хадаште, племяннику пришлось принять его к себе. Акборам был добродушный и любопытный человек, очень любивший давать советы. Не прожив и двух дней в доме племянника, он в отсутствие Герсаккона распорядился переставить всю мебель.
— Я хотел сделать тебе приятный сюрприз, — сказал он. — Теперь обстановка выглядит несравненно лучше, чем раньше.
Герсаккону понадобилась целая неделя, чтобы почувствовать себя как дома в собственных покоях; в любимой комнате, где он имел обыкновение читать, писать и размышлять, он вскоре обнаружил работающих штукатуров.
— Я заметил, что ты особенно любишь эту комнату, — сказал Акборам, хваля себя за проницательность, — и потому решил сделать ее действительно уютной.
Счета, разумеется, оплачивал Герсаккон.
Акборам хотел принять участие в празднике Танит пнэ Баал и выведать всю подноготную о Ганнибале.
— До меня дошли ужасные слухи. И я решил отправиться в Кар-Хадашт, чтобы узнать все самому. Ты только изложи факты, мой дорогой Герсаккон. Когда я узнаю факты, я сам сумею сложить два и два и получить из них пять, а?
К счастью, он не был способен слушать кого-либо больше нескольких минут. Да и Герсаккон ни с кем не желал обсуждать действия Ганнибала и менее всего хотел это делать со своим дядюшкой. Однако Акборам начал отпускать фривольные замечания насчет своей сестры, матери Терсаккона, и это было уже чересчур.
— Она, разумеется, живет за городом. Это недалеко. Почти в Магаре. Почему бы тебе не съездить к ней, если ты хочешь узнать новости?
— Как раз Это я и хочу сделать, мой дорогой мальчик. Через день-два. После того, как я наведу у тебя порядок. Ты, право же, не обладаешь ни малейшей способностью к созданию домашнего уюта. Между прочим, эта девушка у тебя там, в бельевой, очень мила. Ну и хитер же ты, а?
— Кто? Что? — спросил Герсаккон, смутившись. — Ах, эта девушка. Это жена привратника.
— Мы в самом деле слишком добры к нашим рабам, — сказал Акборам игриво. — Возможно ли представить себе, чтобы варвары вроде римлян или такие эгоисты, как греки, считали для себя обязательным признавать законность брака своих рабов? Но мы, граждане Кар-Хадашта, мягкосердечные люди. Я уверен, что римляне презирают нас за это.
Он взял в руки танагрскую статуэтку танцовщицы и уронил ее на пол.
— О, гляди-ка, эта проклятая штука разбилась. Но таких ведь много, правда? Почему ты не украсишь свой дом более ярким убранством? Позволь мне достать для тебя несколько действительно очаровательных фарфоровых блюд и александрийское цветное стекло. Знаешь, я никогда не прощу тебе, если ты не посетишь меня в моем сельском уединении. Ты увидишь необыкновенно оригинальную виллу, построенную египтянином. Сплошь башенки, балкончики, выступы и всякая всячина, шесть флагштоков и позолоченный гусь. Люди приходят из дальних мест, чтобы полюбоваться ею.
Герсаккона опечалила гибель статуэтки, которую он очень любил. Но он не дал волю грусти и стал подсмеиваться над собой; надо научиться быть свободным от всех внешних уз; надо постепенно отрывать нитку за ниткой. От чего мне теперь прежде всего следует отказаться? — подумал он.
Разумеется, если бы он хотел изобрести для себя орудие самобичевания, то не мог бы придумать ничего лучшего, чем своего дядю. На другое утро дядя купил молодого лигурийского раба с каменным лицом, который слыл хорошим волынщиком. Всю следующую неделю дом беспрестанно наполнялся печальным, но лишенным какой-либо мелодичности писком. Вскоре Акбораму самому надоел этот шум, и он отослал парня в Тунет.
— Он говорит, что может заставить козла делать всякие штуки, — сказал дядя. — Как скучно ты живешь. Я сделаю все, чтобы внести немного веселья в твой дом.
Он привел с собой пятерых приятелей-пропойц и компанию акробатов, которые украли несколько ложек и светильников и вдобавок набезобразничали под лестницей.
— В молодости я был такой же серьезный, как ты, — сказал дядя в утешение Герсаккону. — Точно такой же. Но не унывай! Я это преодолел, так что и для тебя есть надежда.
Он похлопал Герсаккона по спине и вдруг начал икать, вышел, зовя своего слугу, упал и загремел вниз по лестнице. Его подняли мертвым.
Это был венец всему. Герсаккон смотрел на труп со странно изогнутой шеей и выпученными глазами и не мог отвязаться от мысли, что дядя сделал это умышленно. Врач-египтянин, белополотняный, бритоголовый, велеречивый, объявил его жизнь угасшей и с достоинством назвал сумму гонорара. Два раба, которых Акборам привез с собой, лежали на полу и вопили об утрате снисходительного хозяина. В конце концов Герсаккону пришлось отправить их в чулан над кухней, откуда их крики были менее слышны и где, как позднее обнаружилось, они утешились, съев два окорока и несколько плохо просоленных рыб.
Герсаккон некоторое время ходил ошеломленный несчастьем. Потом он послал извещения нескольким людям, которые, как он знал, были друзьями покойного (по крайней мере, Акборам говорил о них в последние дни). Наконец он написал короткую записку матери — он едва ли мог этого избежать.
Вскоре явились пятеро друзей. Первый был дородный человек, который, казалось, прилагал все усилия, чтобы не заснуть, а когда бодрствовал, его явно мучили подозрения, что здесь дело не чисто; он потребовал, чтобы измерили ступеньки лестницы, а затем удалился в сад для размышлений. Второй дядин приятель лишь воскликнул: «Я не могу этому поверить! Ведь я только вчера его видел!» Даже оказавшись лицом к лицу с очевидностью, глядя на выпученные глаза трупа и скрюченную шею, он, по-видимому, все еще был склонен думать, что произошла какая-то ошибка. Напротив, третий, сильно надушенный человек, пролепетал только: «Это так похоже на милого, безрассудного Акборама» — и нежно поглядел на труп, с шутливой укоризной погрозив ему указательным пальцем. Четвертый попросил вина и часом позже во всеуслышание стал делать весьма воинственным тоном такого рода замечания:
— Ну-с, мы все когда-нибудь умрем, не так ли?
Однако пятый, человек с холодными глазами, торговец подержанными вещами, деловито потянув носом, сразу перешел к практическим вопросам:
— Я был свидетелем при составлении его завещания. Оно сдано на хранение в храм Ваал-Хаммона. — Затем он еще раз торжественно и почтительно поклонился Герсаккону.
Терсаккон не возражал против того, чтобы этот человек взял на себя все дела по похоронам, в которых он, конечно, лучше разбирался. Жрец, ведающий архивом, услышав, кто такой Герсаккон, тоже был весьма почтителен, и все формальности, связанные с вскрытием завещания в присутствии законных свидетелей, были быстро улажены.
— Он единственный наследник, — сказал жрецу всезнающий дядин приятель, кивнув на Герсаккона. — Почти без ограничения какими-либо условиями. Старик был чудовищно скуп и оставил кругленькую сумму, будьте покойны. Он был мне должен десять шекелей, но я не взял с него расписки, так что мне остается только молчать.
Герсаккон немедленно вызвался уплатить эти деньги, хотя прекрасно видел, что тот лжет. Он хотел только, чтобы его освободили от хлопот по устройству похорон. Он не знал даже, следует ли похоронить тело в Кар-Хадаште или отправить его в Тунет. Но Мелькартмашал, торговец подержанными вещами, не хотел и слышать о Тунете.
— Он все же был гражданином нашего города, и здесь он составил свое завещание. Его дух будет преследовать тебя, если ты не похоронишь его вместе с другими членами семьи. Послушай-ка, не было ли у него при себе денег наличными или других ценностей? Это все пропадет. О чем мы думали, оставляя всех этих стервятников возле тела? — И он во всю прыть помчался к дому, таща за собою Герсаккона.
Они застали сонливого друга Акборама за неожиданным занятием: он устроил перекрестный допрос слугам, выясняя, что ел Акборам за завтраком.
— Я никого не обвиняю, — сказал он с жестким, хитрым взглядом. — Я только спрашиваю.
— Мы и тебя кое о чем спросим, Цибдбаст, — произнес Мелькартмашал, подмигнув Герсаккону. — Что это у тебя под плащом? — И он ловко вытащил из-под плаща Цибдбаста серебряный кубок.
— Это улика! — заорал Цибдбаст. — Отдай!
Он попытался схватить кубок, но Мелькартмашал ударил его по пальцам, отдал кубок Герсаккону и принялся выталкивать Цибдбаста из дома. Герсаккон разглядывал кубок, но не мог вспомнить, чтобы видел его когда-либо.
— Не думаю, что кубок мой, — сказал он в тревоге, когда вернулся Мелькартмашал.
— Как бы то ни было, он его стащил, — возразил Мелькартмашал. — Может быть, он украл его в покоях твоего дяди, а может быть, твой дядя взял его еще у кого-нибудь.
— Но Акборам не был вором, — сказал Герсаккон, начиная злиться.
— Я и не говорил, что он вор, — ответил Мелькартмашал с невозмутимым видом. — Но он имел обыкновение надоедать человеку до тех пор, пока тот не отдаст понравившуюся ему вещь. У каждого свой метод, мой добрый господин. А в конечном счете все преследуют одну и ту же цель. Зато мои метод — это прямота и честность. Если я облюбовал вещь, то спрашиваю цену и кладу деньги на бочку. Никаких долгов. Такова моя система. В прошлом году я продал свой дом, чтобы иметь наличные для большого дела, в котором имел преимущественные права на покупку при условии внесения задатка. Я мог бы покупать в кредит, но не захотел. Нет. Я продал свой дом и все, что в нем было, и велел жене переехать в наемные комнаты и взять с собой только корзину с одеждой. Ей это не понравилось, но она сделала, как я хотел. Вот какой я человек. А результат? Полгода спустя я купил дом вдвое лучше прежнего. И купил своей жене ожерелье из карбункулов, такое тяжелое, что она сгибается чуть ли не до земли, когда его надевает. Вот какой я человек. Послушай, Шатофбал, — обратился он к надушенному бездельнику. — Ты получишь приглашение на похороны. Незачем тебе здесь околачиваться. А кто это там в саду? Ах, да, этот идиот! Вели слугам дать ему графин самого плохого из твоих вин и не впускать его, если он снова появится со своими бреднями. У твоего дяди были довольно сомнительные знакомства, не так ли? И все же он мог бы преуспеть, будь он трудолюбив. Как я сказал, у него был особый талант тратить чужие деньги. Ты слышал, что твой дядя уговорил одного человека построить виллу на клочке земли, который он сдал в аренду этому человеку, и ввернул в договор пункт, позволивший ему три года спустя потребовать назад и землю и дом?
Как бы то ни было, устройство похорон было в умелых руках.
Мелькартмашал оказался прав. Все свое имущество Акборам оставил Герсаккону при условии, что Герсаккон поставит памятник на его могиле и наймет сторожа, который ухаживал бы за ней. Кроме того, в могилу должно было быть положено несколько бутылей с вином и статуэтки обнаженных танцовщиц. На выполнении этого пункта Акборам особенно настаивал; он явно боялся вечности без тепла. Герсаккон возложил все заботы на Мелькартмашала, а сам отправился заказывать надгробие.
Недалеко от его дома была мастерская скульптора; Герсаккон зашел туда и спросил мастера. Сооружение памятника займет некоторое время; он должен быть весьма массивным, пирамидальной формы. До того как он будет готов, можно положить на могилу обыкновенную стелу. Ваятель повел Герсаккона в мастерскую и показал ему готовые стелы разных видов. На каждой плите было выдолблено углубление, в котором стояла грубо вылепленная мужская или женская фигура; правая рука поднята в молитвенном жесте, в левой — баночка с фимиамом или флакон с благовониями. На более дорого стоящих камнях фигуры были в архитектурном обрамлении; все без исключения модели были малохудожественными копиями с греческих оригиналов. Герсаккон пришел сюда, намереваясь приобрести что-нибудь художественно ценное, чтобы увековечить память о дяде, и был разочарован, увидев скучные ряды надгробий, такие же, как во всех других мастерских могильных памятников в Кар-Хадаште. Он вспомнил самодовольное равнодушие дяди, когда тот разбил танагрскую статуэтку, этот маленький шедевр глубоко впечатляющего ритма. Его сердце ожесточилось, и он потерял всякий интерес к тому, зачем сюда пришел.
— Хорошо, это подойдет, — сказал он, указывая на стелу с затейливым бордюром и банально-вычурным барельефом.
— Ты выбрал самое лучшее, — заметил мастер, очевидно сам веря в это.
— Посмотрим статуи, — сказал Герсаккон.
С возрастающим почтением зодчий повел его по мастерской, где рабы стучали молотками и работали резцами, отделывая свои копии; их лица и волосы покрывала серая известковая пыль. Мастер показал ему ряд статуй, стоявших под длинным навесом, высеченных большей частью из серого известняка, — творения самой унылой посредственности, совершенно бесталанные. Герсаккон двигался вдоль ряда, выискивая самую скучную статую там, где все казались одинаково скучными. Не было никакой необходимости подбирать статую, похожую на покойного, — об этом никто и не думал. Все статуи были сделаны заранее и не притязали на сходство с усопшими мужчинами и женщинами, память о которых они должны были увековечить.
Однако в дальнем конце двора стояло несколько статуй не так уж плохих. Подойдя ближе, Герсаккон нашел, что они даже довольно привлекательны, во всяком случае по сравнению со всеми другими. Несомненно, все они были творением одного мастера. Их создатель, конечно раб, не мог удержаться, чтобы не придать своим скульптурам индивидуальные черты — легкий намек на архаическое эллинское искусство. Эти статуи были более строги, чем остальные, выполненные по рецептам вялого реализма. В сущности, они не были очень хороши; просто их выгодно отличала от других какая-то структурность. Герсаккон, несмотря на свою решимость подобрать дяде памятник в возможно более отвратительном вкусе, не мог не выбрать одну из этих статуй. У него было такое чувство, что он обманет ожидания раба, вложившего проблеск индивидуальности в свою работу, если не выберет какое-нибудь его творение; что он обманет самую жизнь, ее причудливые чередования света и мрака, ее отклики на песни птиц, раздающиеся из полного одиночества.
— Я возьму эту, — сказал он, зная, что сразу упал в глазах мастера.
— Что ж, разумеется, если тебе угодно эту… Но у вас имеется еще несколько статуй на той стороне двора, которые мы очень высоко ценим, — работы лучшего нашего ваятеля… Впрочем, как тебе будет угодно…
Герсаккон был непреклонен. Мастер сдержал свою досаду и снова стал подобострастен. Герсаккон старался вспомнить, в каком углу обширнейшего кладбища Кар-Хадашта ему пришлось видеть действительно прекрасный памятник, одну из немногих сохранившихся еще скульптур, которым было четыреста или пятьсот лет; статуя почти в египетском стиле, но отмеченная ярким своеобразием. Он решил поговорить об этом с Карталоном.
— Ты упомянул о пирамиде, господин, — сказал мастер с благоговением. — Разрешишь мне показать тебе модель? Смею ли я также предположить, что потребуется утварь для могилы? Мы сами не поставляем ее, но я могу порекомендовать господину почтенного поставщика, который исполнит все к твоему полному удовольствию. Назови только наше имя, и они приложат особые усилия…
Вернувшись домой, Герсаккон убедился, что Мелькартмашал уже закончил все приготовления. Он был особенно доволен покупкой непристойных статуэток.
— Имея их у себя под боком, наш старый друг будет чувствовать себя отлично, — сказал он.
Статуэтки были необычным добавлением к принятому у пунийцев убранству могил; возможно, что Акборам позаимствовал эту идею из Египта. Как правило, в могилу клали плохонький набор туалетных принадлежностей, глиняные фиалы, раковины, наполненные самыми дешевыми мазями, дрянные светильники, конические кувшины, гротескные терракотовые маски, побитые страусовые яйца, бабки, кучу дешевых амулетов и несколько фальшивых драгоценностей — грубо позолоченный свинец со стразом вместо драгоценных камней. Туда клали также несколько фигурок божеств из тех, что кое-как отливались в грубых формах или лепились из самой простой глины. Уже много веков назад пунийцы усвоили весьма трезвый взгляд на смерть и отказались от обычая хоронить с покойником что-либо действительно ценное.
— Не знаю, быть может, ты предпочел бы бальзамирование, — сказал Мелькартмашал. — Это совсем недорого, если будет сделано экономно: вынуть внутренности, положить тело на ложе из смолы кедра и терпентинного дерева, прибавить индийской смолы, листьев чебреца и мяты, чтобы был приятный запах. Но, на мой взгляд, это ни к чему. Поэтому я все приготовил для сжигания. Все-таки лишь тогда чувствуешь по-настоящему, что человек умер, когда ты его сжег. Особенно если ты наследник, а?
Герсаккону хотелось, чтобы со всем было покончено по возможности скорее, а потому похороны были назначены на следующее утро. От матери никаких известий не было; она, наверно, была слишком пьяна и не поняла, что случилось. Не приехала она и с наступлением ночи; Герсаккон заставил себя не думать об этом и действительно забыл о ней в суматохе похорон. Мелькартмашал упивался своей ролью: он всем приказывал, всех подгонял, призывал плакальщиц не жалеть голоса. Потребовалось приложить некоторые усилия, чтобы заставить погребальный костер разгореться; наконец он запылал, и Акборам унесся в небо в копоти, желтом дыму и омерзительном зловонии. Несколько обуглившихся щепок с костра сошли за пепел от покойного; они были положены в урну, а урна вставлена в большой гроб из серого известняка с двускатной крышкой наподобие кровли храма. Затем гроб на веревках спустили в склеп; туда же сбросили всю утварь для могилы и сверху насыпали курган.
Герсаккон оглядел огромное кладбище. Кругом виднелись тысячи могильных камней и редкие кипарисы, вдали на востоке синело сверкающее море. Рядом хоронили двух младенцев в одной могиле, головка к головке, и рьяно спорили с кладбищенским сторожем, требуя снизить стоимость погребения; немного подальше предавали земле красный гроб. Все могильные камни и статуи были безымянны; имя не увековечивало личность умершего. В этом есть что-то хорошее, — размышлял Герсаккон. На некоторых из урн, запрятанных глубоко в могилы, возможно, и были нацарапаны тростниковым пером или углем какие-либо надписи, но на поверхности земли мертвые открыто признавали, что они существуют лишь как символы, серые, бесцветные знаки, как пустынная равнина, время от времени напоминающая о своем существований живым, ничего не требуя.
Герсаккон был выведен из задумчивости шумом и заметил быстро приближающуюся к месту погребения Акборама группу людей. Он повернулся со смутным предчувствием беды и ужаснулся, увидев во главе процессии свою мать. Он перешел на другую сторону кургана и с беспомощным видом глядел на нее.
— Почему ты не подождал меня? — спросила она с жалобным упреком. — Ты должен был знать, что я приеду! Мой бедный, дорогой брат! Как это случилось?
Нанятые плакальщицы, поняв, что наконец появился кто-то, видимо способный оценить их усилия, разразились пронзительными воплями, заглушив последние слова Аббал. Герсаккон пристально посмотрел на мать. Она казалась очень похудевшей, глаза глубоко запали, и в них горел беспокойный огонь; на голове у нее был фиолетовый парик с локонами.
— Где он? — спросила она, как только плакальщицы затихли, чтобы перевести дух.
— Там, внизу, — учтиво ответил Мелькартмашал.
Аббал издала громкий крик и бросилась на только что насыпанную, рыхлую землю, мешая могильщикам. Парик сполз ей на лицо. Получив такую поддержку, плакальщицы подняли еще более громкий визг. Среди вновь пришедших Герсаккон увидел Хашдана, раба, которого он считал виновным в падении своей матери. Его кулаки сжались. Шатофбал, надушенный приятель покойного, подошел своей ленивой походкой и поднял Аббал. Мелькартмашал в эту минуту был отвлечен другими заботами: он заметил позади, за небольшим кипарисом, осторожно крадущегося Цибдбаста — того самого, что пытался похитить серебряный кубок.
— Прочь отсюда сейчас же! — крикнул Мелькартмашал тоном оскорбленного достоинства. — Здесь не место ворюгам!
Аббал, исполнив свой долг перед братом, была рада, что ее подняли. Она бросила на сына один из своих томных, укоризненных взглядов, которые выводили его из себя, и с неумеренной пылкостью начала благодарить Шатофбала. Мелькартмашал, обратив Цибдбаста в бегство, вернулся, чтобы
наблюдать за работой могильщиков; он приветствовал сестру усопшего несколькими изысканными замечаниями о погоде и о ее цветущем виде, затем предложил обществу принять участие в тризне по умершему.
— Для меня это не было неожиданностью, — говорила Аббал всем и каждому. — Я видела позапрошлой ночью сон и знала, что меня ждет.
Для Герсаккона было пыткой перейти на другую сторону кургана; он чувствовал себя спокойнее, пока между ним и его матерью находилась могила. Но траурная процессия двинулась к выходу. Он бросил несколько монет рабам, заканчивавшим насыпать землю. На одном из кипарисов запела птица; ее нежное пение заполнило тишину, воцарившуюся, когда перестали шуметь люди. Герсаккон с трудом превозмог охватившее его на мгновение непреодолимое желание покончить с собой. Он отдал изумленным могильщикам все оставшиеся у него деньги.
— Будьте добры к вашим женам, — сказал он. — Помните, что вы носите бога в себе. — И последовал за остальными, которые, казалось, и не заметили его задержки. Мысль о самоубийстве странным образом успокоила его; он словно впервые понял, что смерть навсегда развязывает узел страстей человеческих. Один выход по крайней мере оставался открытым.
Никто не обращал на него особенного внимания во время пиршества, и он имел возможность оставаться в тени. Мелькартмашал перенес всю свою заботливость на Аббал, которая напускала на себя печальный вид и жеманно улыбалась. Надушенный Шатофбал тоже порхал вокруг нее и был вознагражден кокетливыми взглядами и звяканьем браслетов. Единственным утешением для Герсаккона было то, что Хашдан наблюдал все это с безмолвной яростью, сидя со скрещенными на груди руками в конце зала. В сущности, Герсаккон был обязан Хашдану тем, что Аббал жила в полном уединении в своей вилле; Хашдан не мог бы удержать свою власть над нею вне домашнего круга. Эта власть начала проявляться несколько лет назад, незадолго до того, как Герсаккон достиг совершеннолетия. Его мать вдруг опустилась, стала тайно пить и то начинала злоупотреблять косметикой, то становилась неряшливой и впадала в оцепенение. Только теперь Герсаккон понял, что она переживает тот климактерический период, который тяжело переносят все женщины. Он догадался об этом, когда кто-то стал отпускать при нем шутки по адресу других женщин, находящихся в таком же состоянии. С внезапным ужасом он понял, что это относится и к его матери. Много раз она позорила его перед другими и вызывала в нем глубокий стыд. Он, который изучал греческих философов и называл себя эпикурейцем, дошел до того, что хотел вызвать из храма Эшмуна заклинателей. Он стал верить, что его мать одержима демоном, который пьет ее кровь и делает ее бесстыдной. Потом она подпала под влияние раба Хашдана и уединилась в своем сельском доме. Сегодня Герсаккон увидел ее впервые за много лет, а до этого дня только его старая кормилица Лоубат сообщала ему новости о матери. Лишь с Лоубат он мог говорить на рту тему.
Теперь он содрогался от душевной боли при каждом звуке голоса Аббал; каждое движение ее тела отзывалось в нем жгучим страданьем. Она чавкала, когда ела, как будто ее рот был полон слюны. В глубине его души поднималось неистовое возмущение, раздиравшее словно зверь его внутренности. Я никогда не открывал душу ни одному человеку на свете, — подумал он, пронзенный острой болью одиночества. Но что именно он утаил от всех? Ах, это было нечто, чего он никогда не узнает сам, пока не выскажет. Взаимные отношения создают новые истины, новые глубины, новые гармонии. — Я же никогда не выскажусь, — повторил он про себя. Мир бушевал вокруг него, мир был слепым зверем в его чреве, раздиравшим его, чтобы выбраться наружу. Почему мы так жестоки друг к другу? — спрашивал он свое сердце.
В конце концов, ему безразлично, что она делала, что делает и что будет делать. Но звук ее голоса убивал его.
Если бы мы только могли понять друг друга, — размышлял он. И, казалось, нашел ответ на крик своей души о жестокости людской. — Это страха я боюсь, и она тоже объята страхом.
Герсаккон был не в силах слушать то, что говорилось вокруг. Он был оглушен; действительность распалась на части. Ему чудилось, что один только огромный раб Хашдан с его мрачно поблескивающими белками глаз существовал в сфере возможного общения; но и он был вне круга вселенной. Очевидно, он сделал бы все, лишь бы удержать Аббал дома, но потрясение, вызванное смертью, и разверстая могила вновь придали ей уверенность. Ее парик сполз ей на лоб, тощая грудь была увешана золотыми ожерельями, нитки жемчуга скрывали шею. Она смеялась, как молодая девушка, впервые опьяневшая от вина.
Почему не могу я быть твердым? — вопрошал себя Герсаккон. Любой другой мужчина из тех, кого он знал, просто взял бы и навел порядок в доме, а затем законным путем принял бы на себя управление семейным имуществом и без всякого стеснения посадил бы эту женщину под замок, запер бы ее с несколькими старухами, чтобы утихомирилась.
— Да, ему пора жениться, — говорила она, и он с ужасом понял, что речь идет о нем. — Я позабочусь об этом.
Вдруг какое-то видение пронеслось перед его мысленным взором. Это страха я боюсь. Много лет назад, одним ярким летним утром в горах, когда сквозь сосновый лес доносился звон колокольчиков на шеях мулов, он прислушивался к кудахтанью и нежным призывам куропатки, сидящей над его головой. У троих его товарищей на запястьях, защищенных кожаными перчатками, сидели ястребы — большие птицы, приученные к охоте на куропаток и вальдшнепов. Лошадей оставили на привязи у сломанного дуба возле дороги; рабы бежали по склону холма, ударами палок и гиканьем вспугивая птиц. Герсаккон пытался уверить себя, что он получает удовольствие от этого развлечения, и, возбужденный, болтал вдвое больше других. Быстрым движением ястреб был сброшен с запястья, взмыл вверх, ринулся вниз и ударил птицу. Герсаккону показалось, будто треснула земля, будто с неба упал камень. Ястреб пролетел немного дальше, оставив мертвую куропатку распростертой на каменистой земле, и сел. Раб с криком подбежал к нему, снова посадил его себе на запястье, снял с пояса нож и перерезал куропатке горло. Затем поднес к ней ястреба, и тот стал пить кровь прямо из перерезанного горла птицы. О этот дьявольский глаз ястреба, пьющего теплую кровь! О эти согнутые лапки красноногой куропатки и кровь, капающая на грудку! О это кудахтанье затравленных птиц, отдающееся эхом над головой!
Его товарищи надеялись поймать несколько газелей. Какое великолепное зрелище! — лихорадочно повторял про себя Герсаккон. — Ястреб, прижимающийся ко лбу газели, закрывая ей глаза своими крыльями, чтобы мы могли подбежать и схватить ее!
Герсаккон скрылся за выступом горы, лишь бы никого не видеть и не слышать. В расселине он нашел зайчонка с прижатыми к голове ушами, трепетавшего от страха. Он бросился к нему и вцепился в его горячий мех обеими руками, как одержимый сдавливая пальцами горло зверька, страстно желая, чтобы он скорее умер. Заячья жизнь обвиняла его…
Все находящиеся в зале смотрели на него. Он ощутил страшный гнет, как будто что-то пытается войти в него или выйти из него — он и сам не знал. Весь мир кружился водоворотом вокруг него, он видел раздувшиеся лица с глазами, полными ужаса. Сознание оставило его.
Он очнулся в постели, мать склонялась над ним, тихо его баюкая. Мгновение он был безмерно счастлив; годы понеслись вспять. Когда он был ребенком, она была преданной матерью для него и двух его сестер, которые потом умерли. С нею дурно обращался муж… Герсаккону хотелось, чтобы она положила руку ему на лоб, спела бы песню о водяных лилиях, ему хотелось, чтобы она смочила водой его губы.
Вдруг он все вспомнил и быстро закрыл глаза, делая вид, что еще не пришел в себя.
— Герсаккон, — шепнула она, увидев, что он посмотрел на нее. — Герсаккон!
В ее голосе звучала мольба. Казалось, этот голос потерял все интонации, так оскорблявшие его. Но Герсаккон не посмел поверить надежде. Он крепко сжал веки, дрожавшие, словно какая-то сила пыталась разомкнуть их.
— Герсаккон! — Ее голос щемил ему сердце.
Через некоторое время мать умолкла. Он подумал, что она ушла, и вздохнул с облегчением. Он чувствовал, что Хашдан находится рядом, и хотел воззвать к нему о помощи. И впал в забытье.
На заре он проснулся и убедился, что в комнате никого больше нет. Он поднялся, быстро оделся, сошел вниз и стал отпирать входную дверь. Было слышно, как рабы что-то делали на дворе, шепотом препираясь между собой. Он отодвинул засовы и вышел на улицу. Лихорадка его сменилась большой слабостью. Он глубоко вдохнул воздух нового утра и зашагал вниз по улице. На востоке просачивались нежные серо-зеленые краски рассвета; петух прокукарекал хриплым крещендо. Герсаккон услышал вздох города, переходящего от сна к пробуждению. Новый день — старый день.
Он медленно направился к дому Карталона и пришел туда как раз к завтраку. Вопреки всем своим греческим вкусам Карталон ел обычную пуническую овсяную кашу, свежий сыр и мед. Они заговорили о Ганнибале и стоической философии. После завтрака Герсаккон, внезапно решившись, взял у Карталона табличку и набросал на ней скорописью записку Хашдану: «Немедленно увези свою госпожу в Неферис, в противном случае я продам тебя». Один из слуг Карталона был отослан с письмом, и Герсаккон вновь углубился в беседу с Карталоном о Массиниссе, царе Нумидии.
Вошла Аришат, жена Карталона, и присоединилась к ним. Она принадлежала к одному из знатных родов Кар-Хадашта, которые давали дочерям такое же превосходное эллинское образование, как и сыновьям, и все еще продолжала заниматься науками. Только что от нее ушел александрийский грек, под руководством которого она изучала высшие разделы геометрии. У Аришат было худощавое, открытое, умное лицо; ее стройную фигуру облагало одеяние из тончайшего мальтийского полотна, столь тонкого, что на изготовление его ушли, вероятно, долгие годы, — с каймой, украшенной вышивкой из темно-красных пальмовых веток. Она внимательно слушала, нетерпеливо раскрыв полные губы, и время от времени вставляла несколько слов, не спеша, но четко излагая свою мысль. Ее присутствие, как всегда, смущало Герсаккона, почти лишало дара речи. Он несколько раз перехватывал взгляды, которые она искоса бросала на мужа, и ему казалось, что все сказанное имеет совсем другой смысл, чем тот, который он ему приписывал. У него было такое ощущение, будто он здесь лишний, будто эти люди исключают его из своего круга. Аришат ему нравилась, и он уважал ее, но в тот миг, когда он думал о ней как о жене, возникала пропасть между ним и ею, Карталоном, вселенной, и его слова, обращенные к Карталону, приобретали другое звучание. Гранатовые серьги Аришат, когда она наклонялась, качались и рдели в огнях, отраженных серебряной вазой с ручками в виде лебедей и алебастровым кувшином, все еще слабо пахнувшим миррой.
После ухода Герсаккона, когда замерли отзвуки прощальных приветствий, Карталон и его жена остались вдвоем. Карталон был погружен в свои мысли. Он думал о завтрашних торгах, где хотел купить привезенных из-за моря жеребца и кобылу, и о давно мучающем его вопросе — писать ли ему свои труды на греческом или на пуническом языке (на греческом — чтобы приобрести мировую известность, на пуническом — чтобы способствовать национальному возрождению города, необходимость чего доказывали его теории).
— В кого он влюблен? — спросила Аришат, вернув его к действительности.
— Кто?.. Ах, Герсаккон… Не знаю. Не имею ни малейшего представления.
Он пристально взглянул на жену, вдруг ужаленный ревностью; но его глаза лишь на миг задержались на ее худощавом одухотворенном лице. Ему стало стыдно и уже не верилось, что он когда-нибудь в самом деле примется за свой шедевр. Ему хотелось, чтобы Аришат встала и вышла из зала, но он знал: если она это сделает, он пойдет за нею. Ему хотелось заставить ее в чем-то уступить, но в чем именно?
— Ты считаешь, что литература и политика несовместимы? — спросил он, хватаясь за новую идею и чувствуя себя поэтом, отказывающимся от своего искусства ради спасения страждущей отчизны. Но по сосредоточенному, обращенному внутрь взгляду ее глаз он понял, что она думала об Алкее
[61], Архилохе
[62], Аристофане
[63]. — Нет, я не то хотел сказать, — быстро прибавил он. — Я сравниваю слишком разные вещи.
В его голосе была нерешительность. Почему же на людях он чувствовал себя уверенно, а наедине с женой оказывался в положении чиновника, пытающегося объяснить причину недостачи вверенных ему денег? Он встал и подошел к Аришат.
Она отвернулась, вытянув на ложе свои длинные тонкие ноги.
— Это необходимо?
Много ли она понимает? Вопрос, который не мог быть выражен словами, больно давил его мозг. Нет, не так разумел он счастье. Он не мог прийти домой из мира, полного обид и несправедливости, чтобы получить поддержку у любящей жены и вновь обрести покой. Вся его жизнь, думалось ему сейчас, была попыткой доказать, что ее мнение о нем неверно. Однако он и в самом деле не знал, каково было ее мнение.
— Что ты имеешь в виду? — пробормотал он. — Видишь ли, мир изменился. Искусство стало психологическим.
Ему представилась статуя, купленная им на прошлой неделе у торговца. Лицо ее состоит из ровных плоскостей, переходящих одна в другую под острыми углами, — последнее слово в искусстве. И он почувствовал облегчение. И все же его беспокоило, что Аришат была именно такой, она воспринимала мир как соотношение плоскостей и углов. Как это сказал тот торговец, юркий человечек из Смирны? Выбирай: глубокие, залитые слезами глаза и влажный рот, эмоциональный внутренний трепет жизни пергамской школы или эта строгость драпировок, удлиненных для того, чтобы создать плоские или трубчатые складки простого профиля и резкие переходы к углублениям?
— Аришат, — сказал он мягко, почти с обожанием. Теперь она улыбнулась и раскрыла объятия.
— Я думала… — произнесла она, но не призналась, о чем думала.
В ее объятиях он чувствовал себя защищенным, благодарным и немного растерянным; однако он все еще ничего не объяснил. Или то были спокойные глаза Ганнибала, которым он завидовал?
3
Азрубал был одним из тех граждан Кар-Хадашта, которым не приходилось принимать близко к сердцу совет Магона в его знаменитом трактате о сельском хозяйстве: «Тот, кто приобрел земельное владение, должен продать свой городской дом, а то может получиться, что он предпочтет жить в городе, а не в деревне». Ни у Азрубала, ни у его отца никогда не было городского дома. Он принадлежал к многочисленному, но раздробленному классу мелкопоместных землевладельцев, которые с давних пор были вытеснены купеческой олигархией с арены активной политической жизни города. Между купцами и земледельцами существовала постоянная вражда, выражавшаяся главным образом во взаимном презрении; но неожиданно созревшая уверенность, что богатые ведут государство к катастрофе, заставила Азрубала и других земледельцев решительно стать на сторону Ганнибала.
Пунические земледельцы занимались главным образом садоводством, выращиванием маслин, разведением скота; заботу о зерновых они предоставляли местному населению, которое платило им дань частью урожая, а остальное зерно обменивало на промышленные товары, получаемые из пунических приморских городов. Со своей стороны Кар-Хадашт гарантировал им безопасность от набегов кочевников из пустыни или от пиратских вторжений с моря.
Но что переполнило чашу терпения Азрубала, так это налет небольшой группы кочевников на усадьбу одного из его друзей, находящуюся южнее его имения. Если могут происходить такие дела, значит, государство прогнило насквозь! И когда он пришел к этому выводу, его ненависть к горожанам-стяжателям, шайке чиновников-кровопийц и их прихлебателей вспыхнула с такой силой, что оказание поддержки Ганнибалу представилось ему единственным смыслом жизни.
— У него есть голова на плечах, — сказал Азрубал младшему сыну, когда они ехали верхом по глинистой горной дороге, испещренной отпечатками козлиных копыт. — Он разбирается в земледелии не хуже меня! — Азрубал никогда не признал бы этого за кем-либо другим.
На парня слова отца произвели немалое впечатление.
— Он не стал бы сажать маслины возле дубовой рощи! — заметил он, зная, что отцу понравится его шутка.
— Как сделал этот дуралей Йомилк, этот горожанин, шут гороховый, — ехидно рассмеялся Азрубал. — Он вообразил, что понимает больше, чем его управляющий. Уж пусть лучше эти горожане остаются на своих вонючих улицах и не суют нос в имение. А то приедут раз в год на несколько недель и прикидываются земледельцами!
— Он сажал виноградные лозы рядом с капустой, — прибавил сын, хотя эта подробность была плодом его фантазии. Но если Йомилк такой невежда в разведении маслин, несомненно, он профан и в виноградарстве.
Поджарые, выносливые лошади с короткими ногами и короткой толстой шеей медленно тащились, обмахивая хвостами широкие бока. Азрубал, как обычно, объезжал свои владения. Он любил неторопливый, осторожный ход лошадей, поднимающихся по довольно крутой дороге, любил просторы своих земель, открывавшиеся ему над вершинами сосен. Он вспомнил слова из трактата Магона, который даже греки признавали лучшей книгой о земледелии: «Земля должна быть слабее земледельца; в противном же случае, если в этой борьбе она однажды одержит верх, земледелец погиб». Да, земледелец должен победить в борьбе, он должен обладать силой, но и земля должна обладать силой, иначе не будет соков в плодах, не будет радости в борьбе. Выражением этого были, сельские праздники, когда парни и девушки предавались любви в бороздах и целые роды сражались в ритуальной игре в мяч.
Он чувствовал эту землю, твердую и податливую землю, с которой сросся навеки всем своим существом. Он вспомнил запах виноградных выжимок; смешанных с навозом, — их кладут в ямки при посадке виноградных лоз.
— Кто-то спускается к источнику Крылатой кобылы поить лошадь, — сказал его сын.
Азрубал остановил коня и, обернувшись, оперся рукой о его крестец. Да, какой-то всадник свернул с большой дороги и направился к источнику. Что ж, он не жалеет глотка воды ни для человека, ни для животного. Вдруг он резко выпрямился:
— Это Махарбал, — сказал он хмуро.
— И мне так показалось, отец!
Азрубал мгновение колебался, затем повернул лошадь и поехал назад по крутой, более короткой дороге, вниз по склону горы, мимо голой скалы, где рос карликовый горицвет. Его конь привык к крутым спускам. Через несколько минут Азрубал, сопровождаемый треском и грохотом скатывающегося гравия и падающих камней, достиг подножия горы. Его сын, скользя, спускался следом за ним. Обогнув вечнозеленые дубы, они опять увидели Махарбала, продолжавшего свой путь проезжей дорогой. Азрубал, снова поколебавшись, хлестнул по боку лошади и помчался вперед.
Выехав на проезжую дорогу, он галопом понесся следом за Махарбалом, своим соседом, с которым он долгие годы враждовал и судился. Этой весной Азрубал выиграл тяжбу и запретил Махарбалу поить из источника своих коз. Вражда продолжалась.
Махарбал, человек со смуглым лицом и сросшимися над переносицей бровями, услышал стук копыт и остановил коня. Узнав Азрубала, он поднял кнут в знак приветствия и прежде, чем Азрубал успел окликнуть его, спросил:
— Ты тоже держишь путь в Кар-Хадашт? Я так и думал, что ты не пропустишь праздника в этом году.
— Я отправлюсь завтра на заре, — ответил Азрубал, растерявшись. — Мы поскачем во весь опор и поспеем вовремя.
— Ну а я поеду не спеша, — сказал Махарбал, потрепав по шее коня, беспокойно перебиравшего ногами.
Он что-то еще хотел добавить. Азрубал видел, что слова готовы сорваться у него с языка, и крепче сжал кнут. Одно дерзкое слово — и он ударит его по лицу. Сын подъехал рысцой и остановился позади на почтительном расстоянии, не зная, что будет. Наконец Махарбал заговорил:
— Один мой друг обещал взять меня с собой к Ганнибалу.
Азрубал уловил радостные нотки в голосе Махарбала еще прежде, чем до него дошел смысл его слов; эти нотки предвещали злобное торжество, вызов. Он заерзал на спине коня. О чем говорит Махарбал?
— Так ты встретишься с Ганнибалом?
— Не одному же тебе встречаться с ним, — ответил Махарбал, и теперь в его голосе прозвучала открытая насмешка. Он просто смеется над тем, что Азрубал гордится своим знакомством с Ганнибалом и всем говорит об этом. Азрубал повернул лошадь, готовый принять вызов; его загорелое лицо приблизилось к врагу. Он весь напружился. Он не хлестнет Махарбала кнутом, а направит лошадь прямо на него; было слышно, как сын медленно подъезжает сзади, прикрывая тыл.
— Так, — произнес он и напряг мускулы, готовясь бросить лошадь на коня Махарбала; своей широкой грудью она ударит его в бок, отбросит в сторону, и Махарбал упадет в красную пыль. Махарбал почуял опасность. Он не успеет вовремя повернуть коня, чтобы встретить врага лицом к лицу. Если не удастся сбросить его с коня, подумал Азрубал, сын сделает это за меня. Это хорошо.
И тут только он понял, что сказал Махарбал; не тон, которым были сказаны слова, а их смысл. Итак, Махарбал отправляется в город как сторонник Ганнибала и примет участие в шествиях, которые состоятся во время праздника Танит; и, как видно, он ревностный приверженец Ганнибала, если добился обещания познакомить его с вождем. Может быть, отчасти его рвение вызвано желанием не быть опереженным Азрубалом, ну так что же из этого?
— Меня радуют твои слова, — медленно начал Азрубал. Его левая рука, сжимавшая густую гриву лошади, разжалась. — Все хорошие люди должны поддерживать Ганнибала. Все те, кто чтит землю. — Он радушно поднял руку. — Я видел, ты повел коня к источнику. Это правильно. Верю, ты никогда больше не проедешь мимо, не утолив своей жажды и жажды твоего коня и не сказав доброго слова водяному духу.
Дерзкое выражение исчезло с лица Махарбала. Он провел рукой по лицу, отвернулся и взглянул в ту сторону, где над горизонтом вырисовывались очертания города. Наконец сказал медленно:
— Мне приятно это слышать. Может быть, на этот раз я и не сказал доброго слова духу, но не премину это сделать, когда вновь приеду сюда. — Он искоса поглядел на Азрубала. — Мы с тобою не становимся моложе, Азрубал… — Он кивнул ему и повернулся, намереваясь продолжать свой путь.
Повинуясь внезапному порыву, Азрубал остановил его:
— Я вот что хочу сказать тебе, сосед! — Трудно было произнести это дружеское обращение, но теперь ему стало приятно. — А почему бы тебе не поить своих коз в источнике, если тебе это удобно?
— Конечно, почему бы мне этого не делать?.. — подхватил Махарбал, и на мгновение старая вражда вспыхнула меж ними ярким пламенем. Махарбал первый совладал с собой и продолжал шутливым тоном: — Раз никто из нас не становится моложе… — Ему тоже хотелось выказать дружелюбие. — У меня есть одышливая лошадь, невозможно брыкливая. Хорошо, если б ты взглянул на нее и посоветовал мне что-нибудь. Я пробовал пускать ей кровь, давал ей шафран и белый перец с медом…
— Охотно посмотрю, что можно сделать, — ответил Азрубал.
— Прекрасно. Так мы еще встретимся на празднестве, — сказал Махарбал и, подняв кнут в знак прощального приветствия, тронул коня. — Благодарю тебя…
— У него есть свои достоинства, — заметил Азрубал, следя вместе с сыном за верховым, который мчался, взбивая пыль между низкими каменными стенами, тянувшимися по краям дороги. Ему было немного не по себе; он боялся, как бы сын не стал осуждать его. — Помню, как-то раз — это было еще до того, как ты родился, — один его бык вырвался из клетки. Его собирались кастрировать и только завели в клетку, как она почему-то сломалась. Махарбал стоял у клетки, и бык бросился на него. Я в то время проезжал этой дорогой. Как видишь, Махарбал остался в живых. Сам я считаю, что кастрировать надо телят, тогда все ограничивается простым сдавливанием — и никакой раны. Я против такого унижения достоинства быка, когда действуют щипцами; я никогда не думал, что земля это одобряет… — И он поднял руку, словно взывая к богам.
Летний зной висел над землей в дрожащих клубах пыли на дороге и в гулко отдающемся эхо, будто звенели едва ударяемые кимвалы. Свет казался бронзовым на листьях. Азрубал почувствовал, что земля его одобряет; он почувствовал также свое стареющее тело.
4
Голуби Танит жалобно стенали. Кар-Хадашт был городом Матери. Ваал-Хаммон, и Мелькарт, и Эшмун, и Сакон, и Аршуф, и Сид, и Ариш, и Шадрафа, и Мискар, и боги в образе камней и столбов, боги в образе вод и неба — все они могли притязать на свое божественное положение; Ваал-Хаммон был могущественным, Мелькарт — спасителем; однако Танит пнэ Баал была матерью и царицей города. Имя ее произносилось первым при посвящениях и клятвах. Ее знак уберегал людей от страха; начертанный повсюду — на стелах, столбах и косяках дверей, он отвращал несчастье. Ее благословляющая длань, простертая над всем городом, ниспосылала на него покой.
В ее храме цветы обвивали колонны жаром благоухания, мерцало священное покрывало и сверкали драгоценные украшения, похищенные у драконов. Фимиам поднимался трепетным золотым облаком.
В святилище, куда могли входить только жрицы, совершалось торжественное облачение богини; ее губы подкрашивались красной краской, ее чресла омывались розовой водой, волосы расчесывались гребнем из слоновой кости. Нескончаемый хвалебный гимн, сливаясь со звуками труб и барабанов, создавал стройную гармонию в саду милостивицы.
Песнопения об обетованном-изобилии словно благословляли политическую борьбу. Простой народ проникся глубокой верой в то, что боги на их стороне, и прежде всего Танит пнэ Баал, излучающая свое тепло на бородатого Ваала с прической цилиндрической формы, сидящего на охраняемом сфинксами троне, — Блюстителя Клятвы, поднявшего правую руку в знак вечного ответа и держащего хлебный колос жизни в левой руке. Каждая статуя Танит пнэ Баал светилась лучезарной улыбкой. Ленты тянулись через улицу. Булочники усердно пекли традиционные ритуальные пироги. Каждая женщина в Кар-Хадаште съедала по гранату.
Барак пребывал в состоянии тоскливой неудовлетворенности. Отец отказывался посвящать его в тайные интриги Сотни против Ганнибала и не открывал ему секретов своих коммерческих замыслов и дел. У них в доме гостили два купца — один из Гадира, другой из Милета, старые друзья дома Озмилка, сына Барака, сына Баалшилака (Барак, согласно обычаю, был назван по деду). Гость-друг имел право ожидать гостеприимства, когда посещал город, в котором жил друг его семьи; по его протекции и под его защитой он мог участвовать в торговой жизни города и в свою очередь должен был оказывать такие же услуги ему или его представителю в своем родном городе. Таким образом создавались возможности оживленной торговли между городами, не имевшими юридических договоров, которые обеспечивали бы безопасность сношений и регулировали бы разногласия в соответствии с нормами международного права.
Присутствие купцов из Гадира и Милета с их сопровождающими и багажом сделало дом отца еще более постылым. Бараку даже не позволяли участвовать в доверительных беседах между Озмилком и гостями. Его снова стала терзать мысль о Дельфион. В сущности, его отношения с нею по-прежнему были неопределенными. О ночи, проведенной в ее комнате, он неизменно вспоминал как о каком-то кошмаре. Когда он в ту ночь обнял Дельфион, ему не оставалось ничего другого, как настоять на своем — удержать ее и овладеть ею. Это была дикая борьба во мраке, ее молчание страшило его. А когда он добился своего, его единственным спасением было не ослаблять объятий, продолжать обладать ею, и он не отпускал ее, он был одержим страхом оказаться слабым и попасть в полную ее власть. Она не произнесла ни единого слова, она ожесточенно боролась, потом сдалась и лежала покоренная и затихшая. Его злобный триумф угас от сознания, что стоит ему ослабить объятия, как он окажется безоружным перед клокочущей в ней местью. Наконец он уснул, не выпуская ее далее в тяжелом сне оцепенения.
Он проснулся на заре, почувствовав, как она вырывается из его рук.
— Ты?! — только и произнесла она, и глаза у нее были страшные. Она молча свела его вниз и распахнула дверь. Барак сделал робкую попытку узнать, что у нее на уме.
— Будем друзьями, — сказал он, запинаясь и ненавидя ее в эту минуту.
Она не ответила. Барак вышел на сырую, призрачную улицу, слыша позади себя скрежет задвигаемых засовов.
Выпив в кабачке вина, он рассмеялся и почувствовал себя отлично. Но это продолжалось недолго. У него возникло ощущение, будто мир рушится изнутри; чудилось: прислонись он к одному из шестиэтажных домов — дом обвалится. И прохожие представлялись ему пустотелыми, с холодными лягушечьими душами; они делают вид, что говорят, а на самом деле только квакают. Он хотел спросить их, что они о нем думают, но все они как будто над чем-то смеялись втайне от него. Казалось, ткни в них пальцем — и палец пройдет насквозь. И все же он им отчаянно завидовал.
Звуки песнопений, обращенных к Танит, стали отчетливы, как биение его собственного сердца. Музыка легкой дымкой нависла над городом — розовый мираж желания. Ему хотелось останавливать всех встречных и говорить им: «Это все не настоящее…»
Азрубал, земледелец, остановился на ночлег в доме своего друга Эсмуншилена, корабельщика. Эсмуншилен был в прекрасном расположении духа, он выдал замуж всех своих дочерей.
— Преобразование государственной финансовой системы снимет огромное бремя с нашей торговли, — продолжал он начатую беседу. — Мы станем в десять раз богаче прежнего.
— Тогда мы снова начнем гнить, — возразил Азрубал.
— Ты хочешь, чтобы все стали земледельцами, — расхохотался Эсмуншилен.
Он был убежден, что теперь наступила пора вечного благоденствия. Правящие семьи почти побеждены, и ничто уже не помешает Кар-Хадашту исполнить все, что было задумано. Но Азрубал с сомнением покачал головой. Относительно деревни у него не было сомнений, но городские пути-дороги так извилисты и запутанны, и никто не может быть уверен, что здесь обойдется без мошенничества и грязных трюков.
— Мой старший сын убил льва на охоте в горах в прошлом месяце, — сказал он. — Его шкура будет свадебным подарком твоей старшей дочери. Еще они поймали двух львят и отдали в ближайший городок, чтобы их распяли на воротах во устрашение других львов.
Настроение Эсмуншилена испортилось. Воспоминание о сыне, убитом при Заме, леденящим холодом сковало душу. Он нащупал висевший на шее малахитовый амулет со знаком Танит. Сердце его щемила печаль о дочерях. Поблизости кто-то наигрывал любовную песню на лютне.
Барак отказался от приглашения принять участие в увеселительной прогулке на барке по озеру и теперь жалел об этом. Он представил себе барку под ярким навесом, украшенную флагами, скользящую между камышами и цветущими водяными ранениями; бульканье вина в бутыли смешивается с плеском воды, бьющей о переброшенные через борта красные полотнища; звуки песни доносятся с резного носа судна; занавешенная клетка с шестью девушками в масках пантер не будет отперта, пока барка не станет на якорь для полуденной трапезы.
Упустив возможность развлечься, Барак пошел в храм на покаянное богослужение. Здесь его сразу одурманили голоса певчих, которые пели, держа друг друга за руки, движения жриц с повязанными поверх бровей широкими фиолетовыми лентами, отрывистые, вихрящиеся клики «Йу-йу!»; смешанный запах цветов, фимиама и разгоряченных женских тел. Да, мы грешили, и все же наступит лето; богиня подымет край своих одежд, даруя доброту, и месяц выплывет из ее хрустальной тиары. Мы грешили, но богиня прольет пот своего плодородия на наши поля; она погрузит руку в чрево наших жен, и они преисполнятся радости. Она оставила следы своих ног в бороздах, и ветерок от ее облачения вздымает воды. Но мы грешили: мы бежали единения и сострадания, мы предавались всем семидесяти семи известным грехам и греху, не имеющему названия; мы подняли руку на родного брата; мы обвешивали; мы мочились там, где ударила молния. Для нас нет надежды, мы уповаем лишь на милосердие Танит пнэ Баал, ибо она выше нашего понимания. Звезды — это блестки на ее развевающейся одежде, месяц возвращается в тайник ее тела. Сжалься над нами, о Танит!
Мерцающий отсвет воскурений влажно блистал на покрытых глазурью изразцах. Жрецы поднимали жезлы, увенчанные кругом и серпом луны; фиолетовые столы свешивались у них с левого плеча. В полумраке неясно вырисовывались добрые, веселые чудища-хранители. Колонны уходили ввысь; бог стоял на верхушке каждой из них и озарялся слабым блеском, будто от зарницы, брызнувшей в странную голубизну неба. Барабаны звучали, как голоса из преисподней, где сидят закованные в цепи драконы. Поднялась священная рука. Под дребезжащие звуки кимвалов голоса кричали: «Йу-йу!», и жрица все быстрей и быстрей кружилась по кругу в вихре своей наготы; медленно заструились назад занавеси.
Толпа застонала в муках раскаяния, унижения исповеди. Мы грешили. Из этого отчаяния родится новая надежда, решимость, временное очищение. Меж струй фимиама над порфировой лампадой возник милостивый лик. Жрица с обнаженными пурпуровыми сосками на закрытой груди исчезла за скользящим покрывалом. Песнь взметнулась вверх на невыносимо долго звучащей ноте.
Бараку казалось, что груди богини струят молоко на весь мир. На мгновение он вообразил себя быком, скачущим по пажитям неба; вдруг пение оборвалось и снова раздался крик из преисподней. Она никогда не простит меня, — подумал он. — Мне следовало бы унизиться до слез, предложить ей деньги; слезами и золотом можно добиться любой женщины.
Он стал выбираться из толпы. Женщину легко было бы достать в такой день: даже самые порядочные сочли бы похвальным для себя отдаться незнакомцу при условии соблюдения тайны, а уж о менее порядочных и говорить нечего. Правда, отцы семейств из имущих классов, не желая рисковать, запирали своих незамужних дочерей на ключ. Говорили, что когда-то женщины обязаны были в этот день отдаваться любому мужчине, который касался их кончиком пальца между грудями; так устранялись все узы и все препятствия и люди обретали потерянный рай полного единения; в этот день боги и богини были воплощены в разгуле плоти, и в этом не было греха, но один лишь отец небесный изобильно оплодотворял вспаханную землю. Однако уже давным-давно Танит ослабила потребность плоти покоряться и позволила женщинам вместо этого жертвовать всего только клочок волос. И все же чувство освобождения от обычных уз продолжало жить в сердцах людей. По крайней мере супружеские пары из низших классов считали, что обеспечили себе счастье на весь год, если в этот день обнимались на виду всех под кустом в саду, за надгробьем на кладбище или (после того, как солдаты ушли) в каком-нибудь уголке у зубчатой городской стены.
Но как раз потому, что было слишком много женщин, готовых по малейшему знаку со смехом бежать за мужчиной в ближайший закоулок, Барак не мог сделать выбора. И тут он увидел Герсаккона. Он был, как всегда, без слуги, хотя, если верить молве, стал много богаче прежнего. Барак перешел улицу, ступая по хрустящей миндальной скорлупе. Что-то влекло его к этому человеку; к тому же он кое-что надумал.
Герсаккон, склонив голову набок и сжав губы, равнодушно посмотрел на него.
— Хочу поговорить с тобою, дружище, — сказал Барак. У него было такое чувство, будто он и Герсаккон поссорились, и все же он не мог вспомнить ни одной настоящей размолвки.
— Как ты решил относительно Ганнибала?
Барак смутился. Ганнибал? Он уже давно не думал о Ганнибале. Тут он вспомнил, что когда он в последний раз виделся с Герсакконом, то был крайне взволнован запустением, царящим в военных доках, и отказом отца обращаться с ним как с равным. Он хотел ответить, что Ганнибал его вовсе не занимает, но решил вместо этого сказать что-нибудь приятное Герсаккону.
— Да, да… Но все так сложно у меня дома. Я разрываюсь между противоположными чувствами, однако, думаю, скоро найду выход. Хотя мы с тобою очень давно не беседовали, излишне напоминать тебе, что в моих глазах ты как голос моей совести. Я непрестанно спрашиваю себя: «А одобрил бы это Герсаккон?» Но не об общественных делах хочу я сейчас говорить с тобой. Сегодня неподходящий день для политики. — Он кивнул на двух девушек, улыбавшихся им из-за угла. — Наверно, вылезли из окна дома, они непохожи на потаскушек, правда?
— Похожи, — ответил Герсаккон, бросив на девушек мимолетный холодный взгляд.
— О нет, — настаивал Барак, почему-то обидевшись. — Ты слушал пение гимнов в храме? Сегодня они впервые взволновали меня. Как будто я никогда не получу прощения.
Герсаккон посмотрел на него с интересом.
— Пройдемся к морю, — сказал он. — Мимо Эмпория и мола. Мне хочется подышать морским воздухом.
— В городе было бы совершенно немыслимо жить, если бы не полуденные бризы с моря, — болтал Барак, шагая в ногу с Герсакконом. Он чувствовал себя бездумным, почти женственным, будто частично был поглощен богиней. Они прошли по узкой улице, где от обычной дневной суеты остались лишь гранатовая кожура и ослиный помет, красный каблук от женской туфли, торчащий из грязи, рассыпанный ячмень… Внезапно перед ними открылось море, сверкающее и рокочущее, словно жизнь после приступа парализующего страха. Парни в коротких туниках удили рыбу с утесов, мальчишки выкапывали им наживку. В тени скал, в кустах скрывались влюбленные пары, девичий смех и птичий гомон, доносившийся из расщелин, смягчались успокаивающим шумом моря. Семьи бедняков в своих лучших нарядах прогуливались по прибрежной тропе, окликая отставших ребятишек. Юноша и девушка под сосной пили из кувшина с широким горлышком и пели: «Малютка, твое тело нежнее плеча барашка…»
— Сюда, — сказал Герсаккон и направился к скале, которая не привлекла к себе внимания рыболовов и была слишком открыта даже для самых бесстыдных любовников. У ее подножия неугомонная кружевная пена вилась, и разрывалась, и снова вилась; даль застилалась голубовато-розоватым туманом, который солнце испаряло из застывшей тучной земли.
Барак никак не мог начать разговор.
— Мне нужна твоя помощь… — Он осекся.
— Я всегда готов помочь в добром деле, — ответил Герсаккон с иронией и, помолчав, прибавил: — Поэтому ко мне редко обращаются за помощью. — Он поднял ракушку и швырнул ее в пенистый прибой. — Мы так мало знаем о земле, правда?
— Я думаю, мы знаем довольно много, — ответил Барак неприязненно. — Разумеется, неузнанного еще больше. Некоторые красители в красильном производстве никуда не годятся…
Воцарилось долгое молчание, затем Барак снова заговорил с отчаянием в голосе:
— Я хочу твоей помощи… Речь идет о женщине…
— В таком случае ты не мог выбрать более неудачного советчика, — произнес Герсаккон, задрожав. — Я не могу тебе помочь. Его голос замер.
— Нет, нет, я говорю о Дельфион! — Вымолвив имя, Барак стал многословен. — Я хочу рассказать тебе все. Я уверен, ты сможешь мне помочь. Эти песнопения в храме убедили меня, что дальше так продолжать невозможно. Я утоплюсь! — закончил он с жаром — и он действительно верил, что может утопиться, если каждый, кому вздумается, будет его терзать.
— Что ты хочешь?
— Прошу тебя пойти и поговорить с нею обо мне. Скажи, что я по ней с ума схожу. Я не в силах жить без нее. Ты не можешь сказать больше, чем есть на самом деле.
— Но почему ты просишь меня пойти к ней? Почему не сходишь сам?
— Я вел себя по-идиотски… Мне стыдно. Я не могу показаться ей на глаза, пока не узнаю, что она меня простила. Мне некого просить, кроме тебя. Помнишь, мы были с тобою большими друзьями? Ты часто помогал мне. Кроме того, я видел, когда мы вместе обедали в ее доме, что она уважает тебя. О, каким я был дураком! Если бы я не напился пьян, ничего бы не случилось.
— С чего ты взял, что она уважает меня?
Барак вовсе и не думал этого; он сказал просто так, чтобы польстить Герсаккону.
— Я видел, как она смотрела на тебя. Но ты сказал, что между вами ничего не было. Ведь и теперь нет ничего, верно? — спросил он вдруг подозрительно.
— Не больше, чем между мной и морем, — ответил Герсаккон, снова бросив ракушку в кружевную вязь пены. — Но прежде, чем ответить тебе, я хочу знать, что за глупость ты совершил.
Снова наступило долгое молчание, и Герсаккон уже хотел заговорить, думая, что Барак задремал. Он повернулся и увидел его искаженное лицо.
— Было два случая… один хуже другого. Будь она проклята!
Он разразился яростными проклятиями, в то время как Герсаккон, отвернувшись, безмолвно взывал к морю и небу, прося опустить сверкающие покрывала стихий между ним и родом человеческим.
Барак начал рассказывать свою историю. Он бросал отрывистые фразы, делал долгие паузы и, почти задыхаясь, бил рукой по скале.
— Все! — воскликнул он наконец и в изнеможении упал на спину.
— И после этого ты хочешь, чтобы я пошел к ней?
— Да! — раздраженно сказал Барак. — Неужели ты не видишь, что я люблю ее?
Признание так расстроило его, что он теперь уже не знал, хочет ли он еще, чтобы Герсаккон пошел к Дельфион. Выраженное в словах, пережитое казалось гораздо более тяжелым, чем оно было в действительности. Впервые он почувствовал себя запятнанным и еще более удрученным и обиженным. Ладно, он все сказал; он не собирается снова просить Герсаккона. Решение остается за ним. Вдруг у Барака стало легче на душе. Он сел и начал глядеть, как рыболов на соседней скале вытаскивает из воды бьющуюся рыбу.
— Сегодня великолепный день для рыбной ловли, — заметил он. Ему теперь все было безразлично, будь что будет. Он сбросил свое бремя на плечи Герсаккона.
Герсаккон вздрогнул и рукой закрыл глаза; может быть, его глазам стало больно от ослепительного солнца.
— Хорошо, — сказал он. — Я поговорю с ней.
Барак сжал ему руку.
— Я знал, что на тебя можно положиться.
В его голосе звучала искренняя благодарность. Герсаккон с отвращением почувствовал прикосновение его руки, но не отнял свою. — Опустись, сверкающая завеса неба и моря, между моим телом и ненавистным прикосновением; очисти меня. Накажи меня беспредельным одиночеством.
Голуби Танит стенали. Во мраке храма, в лучах зеленого света ритуальные движения оплодотворения, казалось, сливались с воплями покаянной исповеди.
5
— Я ознакомился с твоим рекомендательным письмом, — сказал Ганнибал, — и видел ссылку на купца Плесидиппа. Должен сказать, что я сразу составил мнение о тебе. Но когда несешь большую ответственность, нельзя просто доверять своему чутью, следует принять все формальные меры предосторожности.
— Ты знаешь все, что я имею доложить, — ответил рослый грек, державший на коленях морскую шапку. — Готов ли ты действовать заодно с Набисом?
Ганнибал кивнул и перегнулся через стол:
— Заодно? Этот вопрос интересует меня столь же сильно, сколь и тебя. Прости, если я буду говорить о себе, хотя со мной это редко случается. Совершенно верно, что у меня нет политических идей. Но я прекрасно вижу, что всякая человеческая деятельность, включая войну, в конечном итоге подчиняется политике. Я не отступник, надеюсь; знаю, что не может быть действий без цели и не может быть великих действий без великих целей, как не может быть жизни без созидания. Теоретически я согласен с целями, которые ставят перед собой как стоики, так и киники. По моему мнению, ни одно общество не является вполне здоровым, если в нем нет взаимно согласованных свобод; я принимаю законы природы; я верю в справедливость… — Он крепче сжал в руке свой кубок. — Я не наскучил тебе?
Грек ничего не сказал, он глядел прямо в глаза Ганнибалу.
Ганнибал продолжал:
— Мало рождалось бы детей на свет, если бы матерям не терпелось, чтобы кости младенцев образовались на первом же месяце.
Грек ответил, не моргнув глазом:
— Мало рождалось бы детей на свет и в том случае, если бы матери перевязывали себе ноги на девятом месяце.
— Тоже верно. Рассчитать время — это все. Вождь тот, кто знает, когда наступит пора образования костей и когда начнутся родовые схватки. Он не примет за колики боли, наступающие при рождении новой жизни, и не воспротивится наступившим переменам. Я осторожен, как и полагается быть тому, кто много лет вел армию по вражеской земле.
— И скор на решения, о чем говорят многочисленные победы.
— И конечное поражение. Рим победил меня, потому что его корни оказались глубже, чем я полагал. А теперь этот твой Набис — не начнет ли и он с многочисленных побед и не кончит ли поражением?
— Возможно. Но разве Ганнибал сожалеет о решении, приведшем его в Италию?
Ганнибал опять кивнул.
— Ты прав, что борешься под знаменем Набиса. Это знамя всей Греции. Но я пуниец. Я должен исходить из положения, создавшегося здесь. Должен строить там, где почва тверда, а не там, где мне понравился вид местности. Должен сломить преграды и дать жизни хлынуть потоком.
— А если возникнут новые преграды?
— Если они возникнут в мое время, я возглавлю борьбу за их уничтожение. Хочу пояснить тебе это. Допустим, время созрело для мировой республики или для союза республик, о чем мечтает Набис. Тогда его действия вызовут бурю, которая вовлечет в общий поток все другие государства и общества. В этом случае мой Кар-Хадашт, устранив все нынешние препятствия, сделает первый необходимый шаг в направлении союза с Набисом. Но ты должен понять мою точку зрения: вы, эллины, слишком эгоцентричны. Я служил и воевал в Испании; мне приходилось считаться с интересами Северной Африки, ее племен; я прошел через Галлию и видел галльские племена; я потратил долгие годы, пытаясь выковать общий италийский фронт сопротивления Риму; я встречал много эллинов и многому у них научился; и как гражданин Кар-Хадашта, как шофет и Баркид, я по-своему воспринимаю восточные города и проблемы восточных империй. Мое суждение должно быть многосторонним. У меня две цели: создание свободного и сильного Кар-Хадашта и организация самого мощного сопротивления Риму.
Грек минуту молчал, затем, усмехнувшись, сказал:
— Ты просто поставил бы свой сильный Кар-Хадашт на место Рима — один империалистский город вместо другого.
Ганнибал добродушно улыбнулся и покачал головой.
— Нет, пока мое слово кое-что значит, этого не будет. Борьба перешла в новую стадию; осознание этого тоже ново. Я достаточно долго прожил среди своих воинов и знаю: уважения достойны только те ценности, которые возникают непосредственно из отношений человека к человеку, — узы совместной деятельности, создающие собственные нормы поведения и руководства. — Он гордо поднял голову. — Подумай, сколько лет я вел свою армию, представителей всех народов и званий, по землям, где за каждым кустом таилась опасность, и ни разу в ней не раздался мятежный ропот!
Грек поднял руку.
— Отдаю тебе честь, Ганнибал! Какое счастье, что мир одновременно дал двух столь великих людей: Ганнибала и Набиса!
— Пусть исход войны, войны человечества против Рима, приблизится к своему страшному концу, — проговорил Ганнибал низким, резким голосом. — И наступит пора освобождения рабов. Когда рабов призывают под знамена, они не могут оставаться рабами.
Грек склонил голову над своим кубком и глубоко вздохнул.
— Мучительный мир, мучительный путь, — сказал он и отвел глаза. — Сколько смертей, сколько крови, сколько боли…
— Да, — произнес Ганнибал спокойно. — Из зла рождается добро, но только если не делаешь вид, будто зло — это добро. Только если в порыве познания ты отрываешься от этого зла в тебе, из которого родилось добро. — Много зла на свете, — продолжал он. — В человеке больше зла, чем кажется. Но и много добра. В человеке больше добра, чем кажется… — Ганнибал услышал доносящийся с горного склона трубный глас, весть о его решении. Теперь перед его мысленным взором пронеслись шеренги воинов. — Передай Набису мое крепкое рукопожатие, — заключил он. — Остальное принадлежит воле времени. И он стиснул руку посланца Набиса из Спарты.
Грек склонил голову.
6
Она была удивлена, когда Пардалиска влетела в комнату и сказала, что Герсаккон хочет ее видеть: у Дельфион редко бывали гости по утрам. Хармид завел других друзей, и хотя Дельфион была в хороших отношениях с толстой верховной жрицей храма Деметры, вокруг которой группировалась греческая колония, у нее не было особенно тесных отношений с этой колонией.
— Его глаза мрачны и зловещи… — трагикомически протянула Пардалиска.
Дельфион ответила холодной улыбкой. С той ночи, когда Барак спрятался в ее спальне, она не могла больше относиться к Пардалиске по-прежнему дружелюбно, но и не имела оснований подозревать ее. Она мечтала лишь об одном — навеки изгладить эту ночь из своей памяти, притвориться, будто ничего не случилось. Она и думать не хотела о том, чтобы кого-то наказать. Возможно, если не поднимать разговора, то и Пардалиска — или кто бы то ни был — будет молчать.
И все же Дельфион не сомневалась в виновности Пардалиски. Недаром девушка на другое утро спросила ее нарочито невинным тоном: «Надеюсь, ты хорошо спала, голубушка; ты была сама не своя, когда я раздевала тебя».
— Введи Герсаккона, — сказала Дельфион, стараясь скрыть удивление и смущение. Она давно не думала о Герсакконе, однако мысль о том, что сейчас она его увидит, глубоко ее взволновала.
Он вошел, скромный и изящный, как всегда; его тонко очерченное лицо осунулось и носило следы страданий. Он казался более хрупким, чем обычно. Вспомнив их последнюю встречу, Дельфион почувствовала, что краснеет.
— Рада снова увидеть тебя, — сказала она нежно, решив не допускать никакой напряженности в отношениях с ним.
Герсаккон поклонился и сед в кресло, на которое она ему показала.
— Я пришел по поручению, — сказал он резче, чем хотел. Он запнулся: — Я неучтив. Я тоже счастлив снова увидеть тебя; но я не тот, кому боги ссудили много счастья.
— Мы сами куем свое счастье, — мягко сказала она.
— Тогда на свете слишком много плохих кузнецов, — ответил он с грустной улыбкой.
Она зарделась. Разве настолько хороша была ее собственная жизнь, что она так беспечно могла наставлять судьбу?
— Все же мы очень легко виним богов за наши собственные ошибки! — Дельфион слишком хорошо знала великих трагиков, чтобы питать симпатию к культу астрологических предсказаний.
Герсаккон подождал, пока прислуживающая девушка налила ему вина, затем произнес серьезно:
— Я пришел по неприятному делу. Но я взял его на себя и должен выполнить…
Сердце у нее упало в предчувствии беды.
— Если оно так неприятно, как можно предполагать по тону твоего голоса, я предпочла бы, чтобы ты не говорил мне о нем.
Он пропустил ее слова мимо ушей, и его лицо выразило еще большее волнение.
— То, что неприятно, часто, очень часто хорошо для нас. Все мы несчастные создания. Иногда я думаю, что лучше жить со своей постоянной мукой. Так страшно очутиться вдруг на краю бездны… Но я уклоняюсь от сути дела. Я пришел просить за друга. — Он с усилием произнес имя: — За Барака, сына Озмилка.
Она взглянула на него и увидела, что он все знает. Впервые ее охватила бешеная ненависть к Бараку. Она поистине почувствовала ненависть, и поистине впервые в своей жизни. Потрясенная этим открытием, Дельфион вскочила с единственным желанием: бежать из комнаты, найти своего врага, выцарапать ему глаза — и спрятаться от Герсаккона. Герсаккон поднял взгляд и только теперь по-настоящему понял, что сделал Барак. Его пронзила жгучая ревность, он вдруг даже почувствовал тошноту. И он тоже был во власти ненависти. Бешеной ненависти к Бараку, заставившему так страдать эту благородную женщину.
— Предоставь его мне! — воскликнул он глухо и бросился вслед за Дельфион.
— Что ты хочешь сделать? — спросила она, оборачиваясь. Посмотрев на него, она стала спокойнее.
Герсаккон и сам этого не знал. Ему было стыдно, что он оказался свидетелем страданий Дельфион. Ему не приходило в голову, что, согласившись выполнить поручение Барака, он доставит ей такие мучительные минуты. В этом тоже виноват Барак.
— Да, ты не можешь простить его! — крикнул он с яростью. — Я просто сошел с ума!
Дельфион села на складной стул без спинки и принялась мотать шерсть. Повелительным жестом она указала Герсаккону на кресло.
— Изложи его поручение в точности, как он тебе его давал.
— Он умоляет о прощении. Говорит, что был одержим злым духом. Говорит, что умирает от любви к тебе.
— Что ты думаешь об этом?
— Не знаю. Похоже, он говорил искренне. Я хочу быть справедливым даже к нему.
Помолчав некоторое время, Дельфион холодно произнесла:
— Помнишь, что я сказала в последний раз, когда ты хотел обидеть меня и тебе это не удалось? Полагаю, это твоя месть.
— Ты в самом деле считаешь меня подлецом, — сказал он покорно.
— Неужели ты ожидал, что доставишь мне удовольствие?
— Нет… Дай мне попытаться понять самого себя… Может быть, я хотел передать тебе свои страдания, положить им конец тем, что увижу их отражение в твоих глазах. После того как он рассказал мне все, я стал его соучастником, разве ты этого не понимаешь? Мог ли я просто отказаться? Я попал в ловушку. Постарайся понять меня, — закончил он неуверенно.
— Я могла бы понять, — сказала она, и глаза ее сузились от напряженной мысли, — если бы между нами была какая-нибудь связь. Если ты почувствовал, что его просьба снова связала нас с тобою, ты должен был иметь какое-то представление о существующем или возможном между нами родстве чувств.
— Это верно, — согласился Герсаккон, совсем сбитый с толку, и после паузы продолжал: — Но действительно ли я чувствую родство наших душ? Отказываясь от тебя, я испытал самую глубокую горечь, какую жизнь мне когда-либо уготовила. И все-таки не вижу, как мы могли бы соединиться, не изведав еще большей горечи. В Ганнибале я тоже вижу свое одиночество, но в нем, кроме того, есть зажигательная неизбежность действия. Глубокая и одинокая любовь в его душе может объединить миллионы людей для целей, ради которых стоит умереть. В тебе и во мне одиночество дремлет…
Воцарилось долгое молчание. Из сада доносилось пение Пардалиски под аккомпанемент лиры. Герсаккон не сводил с Дельфион темных, горящих глаз. Она не смотрела на него, продолжая мотать шерсть; только уголки ее рта вздрагивали. Вдруг она проговорила:
— Ты сказал, что попал в ловушку. Это были твои собственные слова, твое собственное признание. Я принимаю твое объяснение, но я могу принять его лишь при условии, что решать будешь ты.
— Решать?.. — Он не мог понять ее мысль.
— Я пошлю этой скотине мое прощение, раз ты меня об этом просишь.
— Нет, нет! — крикнул он с отчаянием. — Ты уже ответила ему. Ты назвала его скотиной.
— Я беру назад это слово, — вспылила она. — Я была неправа. Или ты хочешь, чтобы я простила этого мужлана только потому, что он вел себя как мужлан?
— Ты не должна взваливать на меня это бремя, — горячо запротестовал он.
— Если ты не причастен к этому, как причастна я, тебе не следовало мешаться в это дело. Если ты причастен, то видишь ответ не хуже меня.
— Нет! — он вскочил. — Я не могу этого сделать. И то и другое — измена.
— Что вся твоя жизнь, как не измена? Одной изменой больше, одной меньше — не все ли равно?
— Отвергни его, отвергни его!
— Хорошо, я его отвергну.
— Нет, нет, я не могу допустить, чтобы ты заставила меня решать за тебя. Это меня больше всего ужасает. Я мечтаю о мире, в котором нет насилия над волей… С тобой более чем с кем бы то ни было вынужденные узы немыслимы.
— Но с тех пор, как мы встретились с тобою, ты не перестаешь навязывать мне свою волю. Если ты заставишь меня отвергнуть его, ты возьмешь на себя ответственность за этот исход — перед ним и передо мной.
— Это чересчур! — Герсаккон застонал и протянул руку, словно для того, чтобы оттолкнуть ее, хотя она не шевельнулась. — Тогда прости его.
— Хорошо. Я прощу его.
— Нет, нет… — вскрикнул он и закрыл лицо руками.
Неужели из этой ловушки нет выхода? Она беспощадна, если возлагает на него ответственность. Он понимал, что, принуждая ее отвергнуть Барака, он сознательно создает пустоту, и она вправе будет требовать, чтобы он заполнил эту пустоту.
— Ты обращаешься со мной так, словно я девственница, которую изнасиловали во время факельного шествия, — презрительно воскликнула она. — Может быть, тебе легче будет решиться, если я скажу, что эту ночь провела с Бодмелькартом?
В конце концов, Барак ему доверился. Может ли он вернуться и посмотреть ему в глаза, если заставит Дельфион отвергнуть его?
— Что бы ты сказала, — проговорил он медленно, — если бы я признался тебе: мне придется убить Барака, если ты простишь его по моему совету.
— Может быть, потому-то я и заставляю тебя принудить меня вернуть его.
— Значит, ты хочешь его! — крикнул он, бросаясь к двери. — Ты обманываешь меня! — В выражении ее лица появилось что-то очень неприятное. Он угрожающе поднял палец. — Прекрасно. Тогда я согласен. Возьми его! Возьми его! Возьми его! Я вижу это в твоих глазах. Возьми его! — Он сознавал, что ждет от нее попытки разубедить его, но она молчала. Та же неприятная усмешка кривила ее губы. — Это мое последнее слово! Возьми его!
Он выбежал из комнаты. Дельфион продолжала мотать шерсть, кусая губы.
7
Ганнон был единственным сенатором, у которого хватило смелости выступить перед Народным собранием. Он сделал все возможное, чтобы обеспечить себе поддержку: несколько наемных банд еще до восхода солнца заняли стратегические позиции на Площади Собрания. Кроме того, мелким чипам, приспешникам и прихлебателям было приказано явиться на Площадь: Ганнибал-де угрожает их материальному благополучию. Демократы тоже не зевали. Большие группы их провели всю ночь на Площади, ели и пили на ступенях храма и под аркадами. Солнце взошло на розовом небе, с которого быстро исчезли прозрачные барашки облаков.
Над Площадью еще нависала тень, но на ней уже было полно народу. А людские массы все лились рекой. Владельцы домов и торговых помещений, окна которых выходили на Площадь, сдали их по баснословно высоким ценам. На лестнице храма уже давно толпились люди; то и дело кого-нибудь сталкивали со ступеней или через балюстраду, украшенную каменными зверями-хранителями с оскаленными клыками и женской грудью. Даже на стенах зданий, хотя с них вряд ли что-нибудь можно было услышать, лепились запоздавшие, надеясь по крайней мере увидеть, что происходит. Мальчишки первые залезли на крыши портиков, их примеру последовали матросы и докеры, которые незамедлительно втащили туда и своих подруг. Мальчишки и матросы забрались даже на высокие пальмы и бросали на толпу ветки. Перед зданием Сената служители шофета с помощью полиции оцепили ту часть Площади, где будет происходить суд.
Постепенно нарастающий гул разносился по улицам, возвещая о приближении Ганнибала. Когда толпа на Площади заволновалась и зашумела, как лес при первом порыве бури, стал виден Ганнибал, поднимающийся на трибуну в фиолетовой мантии его сана. Его руки в длинных широких рукавах были свободно сложены на груди. Он стоял и мгновение спокойно смотрел на народ, затем приветственно поднял руку.
Один из служителей побежал доложить сенаторам, что шофет находится в трибунале и призывает их предстать перед народом. Через несколько минут из бронзовых ворот здания Сената, украшенных пальмами и лошадиными головами, вышли, волоча ноги, первые сенаторы. Их просторные туники, не подпоясанные, но повязанные пурпуровыми лентами, доходили им до пят. Они расположились позади трибуны, отнюдь не стремясь оставаться на виду, и бормотали что-то в свои напомаженные бороды, цветными платками вытирая пот с толстых бритых щек. Только Ганнон, таща за собой упирающегося Балишпота, выступил вперед.
Ганнибал не спешил обернуться, заставляя этим злиться Ганнона, стоявшего за его спиной. Наконец Ганнибал снова поднял руку, водворяя тишину, и обратился к народу:
— Народ Кар-Хадашта, явившийся в верховное законодательное собрание, ты призван развязать узел разногласий. Между твоим верховным судьей и членами Сената создалось полное расхождение во мнениях. Наши предки, в своей благочестивой мудрости, помня об исконном единстве, издали закон, обеспечивающий излечение подобного недуга государства. Если между представителями власти возникает спор и равновесие сил, на основе которого достигается гармония, нарушено, то кончаются все полномочия, кончаются все притязания на власть и привилегии, кончаются все права, позволяющие государству принуждать к повиновению.
Ганнибал сделал паузу, и Ганнон свирепо откашлялся, напоминая о себе, и приосанился, пытаясь хоть внешне поддержать свое достоинство. Балишпот попробовал было отойти назад, к ряду сенаторов, стоявших вдоль стены Сената, но Ганнон заметил это и резким жестом преградил ему путь к отступлению. Балишпот вернулся на свое место возле старинной ионической колонны. Будто ветер пронесся по необозримому полю спелой пшеницы — все головы склонились в сторону Ганнибала.
— Но Кар-Хадашт не прекращает свое существование. Нет, полномочия, привилегии, звания и права уничтожены, но они возвращаются к своему первоначальному источнику, из которого они приводятся в действие, преобразованные для удовлетворения новых нужд. Я провозглашаю народ Кар-Хадашта хранителем исконного единства и своих традиций. По воле народа рождаются новые отношения, восстанавливающие полномочия, звания, права и обязанности.
Глубокое, раскатистое «Верно!» донеслось от толпы, качнувшейся к Ганнибалу. Сенаторы, ворча, отодвинулись к фасаду Сената. Только лишь Озмилк, хотя и не привычный к публичным выступлениям, считал ниже своего достоинства находиться в компании таких трусов; он прошел вперед и стал возле Ганнона. После короткого колебания мертвенно бледный Гербал тоже вышел из ряда сенаторов и, сделав несколько шагов вперед, стал рядом с Озмилком. Еще один сенатор, молодой человек с гневно вздрагивающими ноздрями, присоединился к ним. Получив таким образом подкрепление, Ганнон решил, что он должен восстановить свое достоинство.
— Мы здесь! — рявкнул он.
Не оборачиваясь, Ганнибал сделал быстрое движение рукой, призывая Ганнона к молчанию.
— Между сенаторами и мной, шофетом, а также моими коллегами, которые поддерживают меня, возник спор по существенно важному вопросу конституции. Вы услышите обе стороны, и вы будете судить. Сущность разногласий — в вопросе, имею ли я, шофет, верховный судья, право расследовать факты продажности и притеснений, совершенные должностными лицами, или их проступки должны быть скрытыми от всякого контроля, кроме контроля Совета, состоящего из соучастников их преступлений и нарушений законов.
Оглушительный шум был ответом на эту речь. Нанятые сенаторами бандиты и жалкая часть чиновников разразились бешеной бранью, но так как Ганнон не давал сигнала, не было сделано никаких попыток начать свалку; между тем основная масса людей громкими криками выражала свое одобрение. Сам Ганнон вопил до хрипоты, что Ганнибал исказил суть вопроса. Наконец Ганнибал водворил тишину и тогда только обернулся, чтобы взглянуть на Ганнона.
— Сейчас выступит представитель сенаторов и изложит свои доводы.
Ганнибал сошел с трибуны и сделал знак Ганнону занять ее. Тщательно расправив складки своего одеяния, Ганнон прошел вперед и поднялся на трибуну с важным и осанистым видом. Снова начался гам, по по мановению руки Ганнибала сразу же прекратился. Ганнон громко откашлялся, сверкнул унизанной драгоценными перстнями рукой и, сдвинув брови, наклонился вперед.
— Граждане Кар-Хадашта, я протестую против каждого слова в изложении шофетом существа разногласий между ним и сенаторами. Он предрешил дело своим определением. Он заклеймил Балишпота из Казначейства как уголовного преступника, прежде чем была установлена обоснованность приговора, и не счел даже нужным спросить мнение Совета Ста четырех. Уже это плохо. Но значительно хуже, значительно более пагубной является попытка опозорить сам Совет, высший орган правосудия в нашем государстве, неоспоримый орган, под управлением которого Кар-Хадашт в течение столетий поднялся на вершину мирового могущества. Без всяких доказательств, без всяких подтверждений, руководствуясь только своей фанатической яростью, он бесстыдно запятнал честь Совета!
Раздались возмущенные крики, но люди следили за Ганнибалом, и так как он стоял неподвижно и безмолвно на ступенях храма, они готовы были выслушать Ганнона. Ганнон снова откашлялся:
— Я изложу существо действительных разногласий. На одной стороне стоят Сенат и Совет, испытанные органы, под руководством которых наш город достиг величия; на другой — демагог, стремящийся стать тираном нашего города и уничтожить все органы управления, которые препятствуют исполнению его честолюбивых замыслов. Берегитесь, люди Кар-Хадашта! Берегитесь, или вскоре вы будете бить себя в грудь и посыпать головы пеплом запоздалого раскаяния! Прекрасны слова демагога, щедры его обещания до того, как он наложил руку на средоточие власти. Но стоит ему положить руку на предмет своих вожделений, как он немедленно сбросит покров скромности и гирлянду праздничных обещаний и открыто пойдет по пути несправедливостей и угнетения. На протяжении веков сенаторы охраняли вас от тирании. В то время как эллинские города погрузились в пучину усобиц, раздоров и разрушений, Кар-Хадашт оставался сильным и сплоченным. Почему? Потому что преданная забота сенаторов оберегала город от порождающих одна другую крайностей. Демократия сегодня означает тиранию завтра. Только правление Сената может спасти вас от метания вслепую на краю пропасти. Берегитесь! Берегитесь! Берегитесь!
Его страстный голос, раздававшийся над площадью, на мгновение завладел вниманием толпы. Почувствовав уверенность, Ганнон обернулся и, показывая пальцем на Ганнибала, пронзительно крикнул:
— Взгляните на будущего тирана!
Его приверженцы, предусмотрительно расставленные в толпе группами, ответили оглушительным криком «Долой тирана!», возымевшим действие благодаря рассчитанной заранее согласованности. По сравнению с этим поднявшийся снова шум и гам среди народа, поддерживающего Ганнибала, казался бессмысленным буйством. Однако Ганнибал, вместо того чтобы согнать Ганнона с трибуны, стал рядом с ним и лишь потеснил его в сторону. Теперь оба стояли на трибуне. Ганнибал поднял руку, требуя тишины:
— Люди Кар-Хадашта! Вы выслушали жестокие взаимные обвинения обеих сторон в споре. Судите не по словам, а по опыту вашей жизни, по страданиям и лишениям, по оскорблениям и унижениям, которые вы испытывали, кто из нас тиран, а кто поборник свободы!
Ганнон попытался заглушить голос Ганнибала:
— Все шло прекрасно в нашем городе, пока Баркиды не нарушили отеческого отношения Сената к народу, не так ли? Кто навлек беду на наш город? Кто вел Кар-Хадашт по гибельному пути?
На трибуну упал камень.
— Хватайте смутьянов! — крикнул Ганнибал. — Но соблюдайте порядок!
Ганнон поднял правую руку, давая знак своим приспешникам. Те принялись вопить и кидать камни. Нависла угроза паники. Кто-то свалился с крыши. Визжали женщины. Ганнибал, взбешенный, схватил Ганнона за горло.
— Если твои головорезы сорвут собрание, — прохрипел он, — я брошу тебя на растерзание черни!
Ганнон побледнел, но не перестал кривить рот в глумливой усмешке. Слева от трибуны, где его бандитов было меньше, порядок вскоре был восстановлен, но находившимся справа буянам, к которым присоединились молодчики с дубинками, прибежавшие из-за храма Ваал-Хаммона, казалось, вот-вот удастся создать панику. Тогда матросы спрыгнули с крыши портика и нанесли удар сбоку. Несколько вооруженных бандитов было схвачено, остальные обратились в бегство. Ганнибал послал своих служителей проверить, крепко ли связаны арестованные, и снова повернулся к толпе.
— Попытка сорвать Народное собрание провалилась! — воскликнул он. — Вам судить, кто ее предпринял. Если эта попытка не удалась, то вы знаете почему. В распоряжении ваших любящих «отцов» нет больше наемной армии, чтобы с ее помощью заставить вас оценить благодатные плоды их правления. Судите сами, люди Кар-Хадашта, кто в этот час угрожает вам тиранией?
В ответ раздались громкие крики:
— Ганнон! Сенаторы! Сотня!
Ганнон хотел удрать с трибуны, но Ганнибал схватил его за руку.
— Народ высказался против тебя? — спросил он.
Ганнон протестующе забормотал:
— Это чернь. Добрых граждан прогнали, обманули… — Но он не осмелился возвысить голос. Ганнибал отпустил его. Спотыкаясь, Ганнон сбежал с лестницы и бросился к возвышению перед входом в Сенат, где теснились напуганные сенаторы. Они все-таки сообразили, что им лучше всего по возможности скорее и незаметнее убраться отсюда под укрытие стен Сената.
— Трусы! — крикнул Ганнон, давая выход душившей его злобе. Ганнибал слишком сильно сдавил ему горло. Кто-то заплатит за это.
Озмилк и Гербал тоже смешались с рядами сенаторов, поняв, что ничего не достигнут, выставив себя напоказ; один лишь Бодмелькарт, молодой патриций, выступивший вперед, чтобы поддержать Ганнона, по-прежнему стоял, прислонившись к колонне, презрительно глядя на море поднятых лиц.
— Граждане Кар-Хадашта, — продолжал Ганнибал, — дело не может ограничиться осуждением сенаторов и Совета Ста, которые держат в страхе всех, кто не принадлежит к их сословию. Недоверие народа лишает Совет его прав. Поэтому я призываю вас и формально упразднить этот орган в его нынешнем составе. Я предлагаю преобразовать Совет. Члены Совета должны избираться всем народом и только на один год; ни один человек не должен избираться в Совет два года подряд.
Его слова были встречены бурей одобрительных криков. Не было никакой необходимости начинать публичное обсуждение; согласно конституции, самый бедный гражданин города имел право подать голос и выразить свое мнение. Но в эту минуту никому не хотелось говорить и тем более слушать чужие речи. Хотелось лишь одного — поскорее одобрить предложение Ганнибала. Счетчики голосов выстроились на мостках, наспех сооруженных вдоль здания Сената, готовясь раздавать избирательные бюллетени и распределять избирателей по их братствам. Сенаторы удалились. Несколько матросов у Морских ворот затянули популярную песенку:
Слон не остановится на полпути,
Почему же это должен сделать я?..
Часть пятая
«Развитие»
1
Балшамер основал дискуссионный клуб, куда приглашал третьеразрядных греческих ученых читать лекции о конических сечениях и об отсутствии смысла в языке. Развенчанный киник, изгнанный из Сиракуз, произвел фурор среди слушателей своим блестящим полемическим талантом, выступив на тему: «Какова этическая разница между близостью трижды с одной женщиной и по одному разу с тремя?». Это, разумеется, не значило, что все дискуссии были столь же несерьезны, но Герсаккону они очень скоро наскучили. Он вернулся к Динарху и был встречен мягкой укоризной.
— Я глубоко скорблю о тебе, — сказал Динарх.
Герсаккона обидело это сочувствие, но он сдержался. Много ли Динарх знает? — спросил он себя.
Из споров, которые Герсаккон вел с Динархом, постепенно выяснялось вероучение последнего. Оно было связано с учением орфиков
[64] и вообще с культами мистерий, в центре которых был образ Спасителя. Этот образ сливался с безгрешным человеком стоиков, распятым за праведность, и богом Аттисом, умершим, истекая кровью, на Древе и вознесенным из мрака терзаний на небо. Побуждаемый вечной волей Отца, он сошел сквозь небесные сферы и каждую из них завоевывал, как архонт
[65], могучий воин, которому предстояло быть побежденным; в глубочайшей бездне смирения, унижения и осквернения он спас Падшую Деву, Душу, Премудрость, Жемчужину.
Для Герсаккона во всем этом не было ничего ему неизвестного, хотя в изложении этого вероучения заключалось много новых возможностей постижения его сущности. Но Герсаккон не прекращал попыток прижать Динарха к стене вопросом, представляет ли собой сказание об искуплении миф, обряд, аллегорию или действительность.
— Меня пугает потребность в искуплении, — сказал он, — я глубоко чувствую внутренний смысл того, что символизируется в ритуалах умирания и воскресения Мелькарта, Деметры, Исиды. И все же я остаюсь неудовлетворенным.
— Потому что твоя потребность истинная.
— Хочу пояснить тебе. Эта неудовлетворенность двоякого рода. С одной стороны, она заставляет меня вмешиваться в политическую борьбу, терзающую сейчас наш город. Я жажду победы Ганнибала, как дитя — молока матери. Однако когда я присутствовал на Народном собрании и увидел его, торжествующего над Сенатом и Советом Ста, и людей, ликующих и обнимающих друг друга от радости, моя душа размягчилась и жалость, как острый нож, рассекла мне сердце. Я чувствовал только ужас утраты и отчаяния, которое последует за новой надеждой.
Казалось, Динарх не слушал. Но вдруг он поднял свои по-детски кроткие глаза и спросил:
— А с другой стороны?
— Я не могу удовлетвориться одной лишь обрядностью, как бы полно она ни отвечала моим переживаниям. Я не могу молиться богу, который является только тенью значимого жеста. Я устал от аллегорий. Я хочу непосредственного участия, и мой разум не приемлет символа, который выше человечности. Скажи мне правду, твой Помазанник — философский термин или он действительно существует?
— И то и другое, — ответил Динарх со своей кроткой, уклончивой улыбкой.
— Как так?
— Он существует.
— Как мы с тобой?
— Как мы с тобой.
Вдруг легкая назидательная нотка, звучащая в голосе Динарха, перестала вызывать ярость Герсаккона. Он был скован немым благоговением. Кто-то третий, присутствовавший здесь, коснулся его, взмахнув крылом, задел волосы, дохнул откровением, затем исчез. Он не знал, было ли это лишь следствием отчаяния, напряжения нервов или действительно ответом на крик его души. А если это был ответ, что тогда? Какой путь был ему предначертан? Как всегда, сомнения вызвали в нем слепую ненависть к Динарху. Он вскочил, завернулся в плащ и сказал:
— Я ухожу.
Однако в дверях остановился и обернулся. Динарх ласково кивнул ему:
— Одни ищут и обретают, а другие бросаются очертя голову в объятия, которых хотели избежать.
Герсаккон хлопнул дверью.
2
Когда Барак получил от Герсаккона короткую записку: «Она простила тебя, иди к ней», он сразу помчался. Но, добравшись до дверей дома Дельфион, остановился и, пройдя дважды вверх и вниз по улице, ушел. Он решил, что не может явиться к ней без подарка — и ценного подарка. Подарок был бы знаком его готовности к примирению, освободил бы от необходимости упоминать о неприятном прошлом, дал бы тему для беседы и помог сгладить неловкость первого визита. Кроме всего прочего, дорогой подарок покажет без грубого хвастовства, что Барак — сын Озмилка и наследник весьма значительного состояния. Но когда он вошел в лавку ювелира, возникло новое затруднение. Барак знал, что Дельфион обладает изысканным вкусом, и боялся купить украшение, которое покажется ей вульгарным. Он не заблуждался относительно своего умения разбираться в предметах искусства; но если прежде он немало гордился тем, что больше понимает в быках, чем в скульптуре, теперь он желал, чтобы в нем было кое-что от эллинизма Герсаккона.
— Я хотел бы приобрести украшение, которое понравилось бы весьма утонченной эллинке, — сказал он ювелиру.
Ювелир, расплывшись в улыбке, которая не соответствовала его холодным расчетливым глазам, заверил Барака, что все вещи в его лавке отменного вкуса, но, разумеется, некоторые затмевают своим великолепием остальные. Иначе откуда взялась бы разница в цене? Барак нашел этот довод вполне резонным и дал себя склонить на покупку золотой тиары с изумрудами. Во всеоружии он вернулся к дому гречанки.
Дельфион и девушки сидели в саду среди белых и красных роз. Девушки, обнаженные, играли в мяч на зеленой лужайке и охлаждались, обливая друг друга водой из лейки с дырками на донышке и сложным приспособлением для наполнения. Барака провели в сад, и он смутился от такого изобилия женственности. Дельфион встретила его ленивой улыбкой и движением руки пригласила сесть рядом с собой на мраморную скамью. Девушки, воодушевляемые присутствием молодого человека, снова принялись за игру в мяч, а он, нервничая, стал рассматривать изящный египетский фиал темно-синего стекла с инкрустацией, оставленный одной из девушек в разветвлении ствола мирта.
— Я получил записку, — начал Барак, вовсе не желая этого говорить, но не будучи в состоянии придумать что-либо другое. — Как здесь прелестно!
Дельфион не ответила, и он уже готов был сделать тот ложный шаг, которого поклялся не делать, — попросить прощения за случившееся, но ему помешала одна из девушек, прибежавшая пожаловаться на нечестную игру Пардалиски.
— Она хотела толкнуть меня в куст роз!
— Да, Это верно, я видела! — раздалось откуда-то с балкона.
— Некоторые всегда пытаются свалить вину на других, когда проигрывают, — отрезала Пардалиска, подбоченясь и перегибаясь назад, как бы желая проверить свою гибкость. Стоявшая возле девушка хлопнула ее сзади по коленной впадине, и Пардалиска упала.
— Ой, кто это? Я чуть не откусила язык! — вскрикнула она, подымаясь, и началась потасовка.
Дельфион велела всем уйти в дом, и Барак, робевший в присутствии девушек, после их ухода почувствовал себя еще более неловко.
— Мне здесь очень нравится, — пробормотал он.
— Ты должен приходить почаще, — сказала Дельфион любезно.
Все было совсем не так, как он ожидал. Она задала ему несколько вопросов о его делах, и он с готовностью рассказал о своих подвигах на юге, о том, как он справлялся там с быками, с кочевниками и со слонами, пока она не зевнула и не потянулась всем своим великолепным телом, так что он почти ощутил его сквозь тонкую ткань одежды.
— Спасибо, что навестил меня, — сказала Дельфион. — Надеюсь скоро снова увидеть тебя!
И вдруг он оказался у выхода, так и не отдав ей подарка. Вдобавок ко всему он сильно подозревал, что ювелир его все-таки надул и тиара вовсе не изысканного вкуса. Правда, она стоит огромных денег и, значит, должна быть хорошей. Он сунул коробку провожавшей его рабыне:
— Отдай это своей госпоже. Скажи, что это просто вещичка, которую я увидел по дороге сюда. Я не успел даже разглядеть ее толком. — Но, вспомнив об уплаченной цене, он не мог заставить себя умалить достоинства тиары: а вдруг Дельфион ничего не понимает в стоимости золотых вещей и подумает, что он принес ей какой-нибудь хлам, раз сам он так скромно отзывается о тиаре. — Скажи, я надеюсь, что она ей понравится.
Он ушел с облегченной душой: не так трудно будет снова прийти.
Дельфион улыбнулась той неприятной улыбкой, которая так поразила Герсаккона. Ей хотелось швырнуть эту уродливую, претенциозную вещь на землю. Неужели он вообразил, что она будет ее носить! Но в то же время она прикинула ее вероятную стоимость на рынке, где массивное золото и настоящие камни значат больше, чем тонкость вкуса оправы. На ее лице отразилась решимость, улыбка стала жестче. В Бараке было что-то мальчишеское, что привлекало ее, не уменьшая ее ненависти к нему. И кроме этих двух чувств — ненависти и признания его мальчишеской привлекательности — была еще одна (в данный момент более важная) сторона их взаимоотношений, которая ее взволновала. В ее глазах он был олицетворением насилия в мире; ей ничего больше не оставалось, кроме как найти какой-то смысл в насилии, в покорности. Так мечта о страждущем боге унизила ее до грубого вожделения, до признания, что этот неотесанный мужлан — единственный, кто мог возбудить ее и дать ей удовлетворение, которого она жаждала со стиснутыми зубами. Той ночью ей было стыдно прежде всего оттого, что она сдалась, уступила при первых же десяти ударах сердца; даже борясь изо всех сил, она не хотела победить в этой борьбе. Нападение во мраке придало неведомость объятиям — пусть даже ценой ее попранного достоинства. И хотя она страстно ждала рассвета, чтобы увидать лицо этого человека, ответное чувство и огромное облегчение, испытываемое ею, запечатлело его в ее чувствах как единственного возможного соучастника позора, которого она теперь желала.
Выражение именно этого чувства Герсаккон увидел на ее лице, смешанное с ненавистью к нему за то, что он не спас ее, за то, что его так легко можно было бы обманом заставить согласиться на измену, которая довершила бы ее падение. Она знала, что лихорадочно ожидает следующего утра, когда Барак — в этом она не сомневалась — придет снова. Уж завтра-то она не будет терять даром время.
3
В доме было невыносимо жарко. Хармид переехал сюда прошлой осенью. Во время зимних бурь он обнаружил, что потолки в двух комнатах протекают, но воспринял это философски и перебрался с Главконом в большой зал с окнами на улицу, заняв также одну из комнат нижнего этажа; помещения же, где протекали потолки, были отведены двум рабам, и там же хранился багаж, которому не могла повредить сырость. Но подули знойные летние ветры, и весь город принялся проклинать их, от землевладельцев, с волнением смотревших на сохнущие виноградные лозы, до бедняков в битком набитых домах с дешевыми комнатами, где встревоженные матери успокаивали хныкающих детишек. Даже Хармид в изысканных выражениях проклинал их, заметив, что банка его лучшей освежающей мази прокисла.
— Вот что получается, когда пытаешься помочь друзьям, — сказал он Главкону. — Как будто Сталинон не мог просто нарушить договор об аренде, когда ему пришлось удирать в Утику. Никогда не вздумай помогать друзьям, Главков, а также врагам, конечно. Это глупо и ведет к невралгии…
— И к глистам? — Главков произнес это с содроганием.
— Разумеется. А теперь ступай вниз и посмотри, что там делает Пэгнион. Постарайся только, чтобы он тебя не видел. Спрячься за дверью и гляди в щелку. Проверь, жарит ли он рыбу или опять вертится вокруг этой грудастой девки.
Главков вскочил и убежал, а Хармид продолжал размышлять вслух, чувствуя себя, словно актер на сцене.
— Право же, я начинаю желать, чтобы были приняты какие-то меры в смысле уничтожения рабства, о чем мы так много слышим и в кругах возвышенных философов и в кругах низких заговорщиков. Рабы доставляют больше хлопот, чем они того стоят. — Он насмешливо улыбнулся невидимой публике. Чрезвычайно неприятно, что он до сих пор не получил деньги. Никогда еще управляющий Сикелид так не задерживал высылку денег. Мысли Хармида витали, в голове путались строчки буколических стихов, воспоминания о свете и тенях облаков над холмами, разорванных обнаженными скалами, о трепетно мерцающих каплях воды на цветах адиантума, когда единственное, что мешает увидеть белую наяду, дремлющую на дне источника, — это крошечный водопад, непрестанно покрывающий рябью его поверхность. Там был пастушок, пасший своих овец по правую сторону дороги, идущей от ложбины Дикой яблони, пастушок с самой веселой на свете улыбкой. Я собирался возвратиться назад на другой же день, — подумал Хармид. — И не вернулся совсем…
Такова жизнь. Хрупкое очарование, исчезая, оставляет долгое сожаление. Пастушок, конечно, простой деревенский парнишка. Но оттого, что он жил в памяти лишь как милый образ с лучезарной улыбкой полного счастья, он преследовал сознанием утерянных возможностей, недосягаемой красоты. Чем была моя жизнь? — спросил себя Хармид, соображая, можно ли отложить покупку новых сандалий до будущей недели. — Моя жизнь, — размышлял он, — была отдана бескорыстному желанию наблюдать за душами молодых. Я боготворил идею стихийного роста; я был садоводом, выращивающим молодые деревца. — Эта фраза утешила его, а он нуждался в утешении. Ибо что получил он в награду? Червоточину, гниль, побеги, упорно растущие там, где им не следует расти; вместо цветов, грациозно раскрывающихся навстречу ласковым солнечным лучам, что-то непонятное, с отвратительной личинкой внутри. Надо перечитать «Менон»
[66] Платона, чтобы восстановить свою веру; и потом в поисках вечных истин сделать новую попытку
исследовать Главкона. Хармид подозревал мальчика в двуличии — он наверняка бесстыдно рассказывает о своем хозяине мальчишке из пекарни.
Прогрохотав по лестнице, прибежал, задыхаясь, Главкон.
— Да, он с нею обнимается! — крикнул он, широко распахнув дверь, так что покачнулась на своей подставке древняя аттическая ваза с черными фигурами, одно из сокровищ Хармида. Хармид подскочил, чтобы подхватить ее, хотя ей не угрожала никакая опасность, и по неловкости смахнул ее на пол. Он стоял, глядел на осколки, затем машинально поднял самый крупный из них; на осколке можно было прочитать подпись —
Экзекий. Хармиду показалось, что, если задержать дыхание или на миг закрыть глаза, если очень сильно захотеть или притвориться, что ничего не случилось, амфора снова станет целой и вскочит на свою подставку. Красоту невозможно разрушить. Его ум лукавил перед лицом случившегося.
— Не мы первые научились ценить красоту, — пробормотал он, внезапно почувствовав, что обладает даром ощущения скользящего времени, забвения и разлуки и вместе с тем исчезновения времен, дыхания Экзекия на своем лице, восторга требовательного мастера, когда он поворачивал перед собой только что созданную им амфору. Хармид поднял второй осколок.
Хо пайс калос[67] — было начертано на нем.
— На этих старинных аттических вазах, — назидательно сказал он Главкону, — все фигуры вначале покрывались черным лаком, но для разнообразия обнаженные части тела женщин перекрывались белой краской, а то и гравировались, и затем все обжигалось на слабом огне. Хармид чувствовал, как утихает его гнев и боль. — Белая краска применялась также для изображения седых волос, полотняной одежды, блестящих металлических предметов и других вещей.
— Да, — сказал Главков с сомнением.
— Будь добр, повтори, что я сказал, — продолжал Хармид сурово. — Ты становишься очень невнимательным. Я никогда не упускаю случая расширить твой кругозор, вложить ценные сведения в твою неблагодарную голову. Я уже говорил тебе это и раньше. Долго так продолжаться не может. Боюсь, что мой неприятный долг — подвергнуть тебя наказанию, если ты не сможешь повторить то, что я сейчас объяснил.
— Ты сказал: «Ступай вниз и погляди, не обнимается ли Пэгнион с толстой поварихой». А он обнимался. И что-то пригорало.
Хармид грустно покачал головой.
— Ты вынуждаешь меня к этому, негодный мальчишка. Я вижу, что без порки никогда не сделаю из тебя образованного человека. В конце концов мне придется продать тебя. Я не могу терпеть невежду около себя.
— Ну ладно, побей меня! — завопил Главкон. — Я не буду больше невеждой! Только не продавай меня!
С раболепно семенящим за ним следом Главконом Хармид побрел к докам. Он обошел огромное прямоугольное здание, через которое проходила большая часть прибывающих и отправляемых грузов, и продолжал путь среди снующих носильщиков, ослов, повозок, таможенников, писцов с письменными принадлежностями, повешенными на шею, и каких-то горланящих во всю глотку людей. К восторгу Главкона, привезли для отправки за море слона и двух пантер. Слон мелкой африканской породы, с большими веерообразными ушами скорбно трубил, а пантеры рычали, когда носильщики поворачивали клетку, чтобы поставить ее на большую телегу. Кругом стоял густой запах пряностей. Во внешних доках не видно было никаких признаков того запустения, какое царило в военном порту. Здесь было почти так же оживленно, как и в прежние времена. У причала едва ли нашлось бы хоть одно свободное место. Несколько судов стояло на ремонте; на палубы других были перекинуты сходни, по которым бесконечной вереницей перебегали носильщики в одних лишь набедренных повязках, с мешками или тюками на плечах. Воздух оглашали проклятия на всех языках, известных на побережье Средиземного моря. На пунических судах дальнего плавания, вернувшихся из отважных рейсов за океан, с носами, украшенными лошадиными головами или пузатыми карликами, шла разгрузка железной руды.
По покрытой мусором дороге, переступая через канаты и снасти, Хармид направился вдоль мола, построенного из огромных, массивных каменных глыб.
— Беги вперед и спроси, прибыл ли «Лебедь» из Сиракуз, капитана зовут Стратилакт, — сказал он Главкону.
— Я знаю, знаю. Капитан Стратилакт! — Главкон понесся вприпрыжку, полный желания угодить.
Хармид смотрел, как он бежал, перескакивая через толстенные бревна. В конце концов, он молод и ему следует предоставлять некоторую свободу; и у него все же имеются зачатки вкуса. Может быть, на этот раз в столь тщательно лелеянном цветке не окажется обычной червоточины. Чего я не выношу, — подумал Хармид, — это усмешки, появляющейся у мальчиков лет четырнадцати, после того как их оторвали от игры с товарищами. Хармид решил купить Главкону по дороге домой любое пирожное, какое он захочет, хотя бы оно было противным и неудобоваримым. Собственно говоря, желание есть ужасные пирожные было признаком невинности, которую он так высоко ценил. Он с грустью наблюдал ее исчезновение с первыми угрями зрелости и пошлостями «опыта».
Хармид немного повеселел. В этой части порта почти каждый говорил по-гречески, хотя чаще всего с ужасными ошибками и своеобразным произношением гласных звуков. Он испытывал братские чувства ко всем этим мускулистым морякам. Что он делает здесь, в этой чужой стране? Надо уехать обратно в Афины, жить среди учащейся молодежи. Он теперь имеет все возможности проявить себя как знаток Кар-Хадашта. Это значительно увеличило бы удовольствие от застольных бесед о грамматике, древностях и рецептах соусов. Но тут он вспомнил, что в Греции все так неустойчиво; он может оказаться на пути все опустошающей армии, а то и двух. Что ж, времена теперь очень занятны, пока сам ты в безопасности. В нем снова возродился интерес к Ганнибалу; может быть, следует собрать побольше материала и через год написать изящный научный труд о конституционных изменениях в Кар-Хадаште. Теоретически я всегда был демократом перикловской школы, — размышлял он. — Ганнибал обладает величием, равно как и неистовством. Если бы только период его правления увенчался драматическим концом, я написал бы поистине яркое маленькое сочинение, в котором был бы сделан намек — ну, может быть, и не слишком прозрачный, — что Ганнибала вдохновлял некий высокообразованный грек, житель Кар-Хадашта, создавший перикловскую атмосферу в окружении Ганнибала. В сущности, это было бы вовсе не так уж неверно: разве у него не было с Ганнибалом несколько весьма приятных бесед в прошлом году? Не нужно быть слишком суровым к человеку действия, решил он. И он снова услышал в воздухе Кар-Хадашта флейты и голоса трагического хора; почувствовал воздействие великой личности, с неукротимым ритмом сосредоточенной воли бурно поднимающейся к кульминационному жертвенному жесту. Восхитительно.
Главкон вернулся бегом; он так запыхался и разволновался, что не мог говорить. Кивая, он схватил Хармида за руку.
— В чем дело? — спросил встревоженный Хармид. — Когда ожидается прибытие корабля?
— Корабль уже прибыл! — вскричал Главкон. — Вон он стоит.
Сердце Хармида упало. Почему капитан не известил его? Но, вероятно, нет никаких оснований беспокоиться. Капитан мог умереть или что-нибудь еще могло случиться. Судно принадлежало солидным владельцам; ценности, доверенные им с соблюдением необходимых формальностей и надлежащим образом застрахованные, не могли пропасть, даже если капитаны напивались пьяными и падали за борт. Таща за собой Главкона, Хармид поспешил к стоянке судов, обругал носильщика с тележкой, загородившего проход между двумя грудами тюков, и подошел наконец к кораблю, который, по словам Главкона, и был «Лебедь». Да, это действительно был «Лебедь». Хотя Хармид ничего не смыслил в судах, он узнал нос корабля. Капитан Стратилакт стоял на пристани, разговаривая с писцом, у которого туника оттопыривалась от засунутых под нее кусков папируса. Хармиду показалось, что капитан его заметил и хотел улизнуть. Однако от писца не так-то легко было отделаться. Он схватил капитана за рукав и потребовал более полных сведений относительно каких-то горшков.
Стратилакт смущенно кивнул Хармиду.
— Подожди минутку. Я должен сначала закончить с этим малым. Великолепная погода, а? — И Хармиду пришлось ждать в шумном, пыльном доке, где становилось все жарче и противнее, в то время как писец, почесывая затылок своим тростниковым пером, твердил, что, судя по документам, чего-то не хватает.
Наконец Стратилакт разделался с писцом. Хармид подошел к нему, скрывая свое раздражение под глупой улыбкой. Ему почему-то казалось, что он должен расположить к себе капитана.
— Рейс, как всегда, удачный? — спросил он неестественно громким голосом.
— Да, не плохой, — согласился капитан, бросив быстрый взгляд на корабль, и невнятно выкрикнул какое-то приказание морякам под палубой. — Ну-с, надеюсь, ты в добром здравии…
Хармид никак не мог начать разговор о главном.
— Отойди, сорванец ты этакий! — сказал он Главкону. — Если ты свалишься в воду, я не буду тебя спасать.
— Крыса! Крыса! — ликовал Главков.
Хармид кашлянул и в ярости убил муху, жужжавшую вокруг его головы.
— Разумеется, ты привез мне все, как обычно… капитан, — начал он голосом, который словно прервался у него в желудке и никак не проходил в горло. Он хотел сказать, что болен, что несколько недель дурно спит, что виноват в этом его бессердечный друг, уговоривший его взять на себя аренду дома, что уже много дней его отвратительно кормят, что Главков испортил ему нервы…
Капитан Стратилакт ответил не сразу; он сплюнул в воду и еще более строго и невнятно выкрикнул приказание морякам под палубой.
— Я не люблю приносить дурные вести, — сказал он наконец. — Для тебя ничего нет, я специально отправлял посыльного узнать, чем вызвана задержка. Точнее говоря, до меня уже дошли кое-какие слухи. Дело в том, что управляющий тайком заложил твои владения. Ты как будто предоставил ему слишком большие полномочия, закрепленные составленным тобой документом. Во всяком случае, он скрылся с деньгами, и Гай Маллеол завладел всем имуществом.
— Гай Маллеол! — воскликнул Хармид, и последняя его надежда рухнула. Нечего и думать затевать судебный процесс о возвращении имущества. Маллеол, богатый италиец, был в хороших отношениях с римскими властями и что ни год захватывал все новые владения.
— Боюсь, для тебя все потеряно, — сказал Стратилакт, чувствуя облегчение от того, что худшее осталось позади. — Но если хочешь вернуться на «Лебеде» с обратным рейсом, я возьму тебя даром. С владельцами я договорюсь. И все-таки особенно обнадеживать тебя не хочу…
— Благодарю, — сказал Хармид, совершенно убитый. — Что значит несчастье, если оно открывает нам благородное сердце? — Он пожал руку капитана, и две слезы скатились по его щекам. Растрогавшись, он на миг как бы перестал сознавать постигшую его беду. — Пока мне еще неясно, что я предприму. Но что значат превратности судьбы для такого человека, как я? Абсолютно ничего, уверяю тебя. — Он снова пожал руку капитана, и ему не хотелось отпускать ее. Ему казалось, что, отпусти он руку, он упадет на пыльную землю и разрыдается.
Главков, не догадываясь о том, что рухнули основы вселенной, как бы невзначай пододвигался к группе моряков, поглощавших огромные апельсины.
4
Самым непосредственным и очевидным результатом победы Ганнибала в Народном собрании было исчезновение из Кар-Хадашта шпионов и осведомителей, состоявших на службе у Сената. Сотни их, не дожидаясь наступления следующего дня, покидали свои жилища и устремлялись в места, где их никто не знал. Несколько человек, не успевших удрать, были схвачены на улицах и нещадно избиты. Троих обнаружили где-то в закоулках мертвыми, с перерезанным горлом. Последнее орудие, при помощи которого правящие семьи поддерживали свою власть, было уничтожено. Наиболее непримиримые из сенаторов, как, например, Ганнон, тайно создавали и обучали отряды из своих приверженцев, но менее знатные патриции отказались от борьбы, надеясь сохранить богатство ценой малодушной покорности. Почти все пунические города и колонии последовали примеру Кар-Хадашта, и бразды правления взяли в свои руки местные демократические руководители.
Ганнибал и Карталон со своими помощниками сразу же принялись за реорганизацию государства. Все чиновники были смещены; оставили лишь тех, кто на деле доказал свою полезную деятельность в аппарате управления. Группе квалифицированных экспертов, хорошо знакомых с организацией государственной торговли острова Родос, с кредитной системой Птолемея
[68] в Египте и с устройством гражданской службы в царстве Атталидов
[69], было поручено разработать наиболее простые и современные методы управления и применить их к условиям Кар-Хадашта.
— Греки далеко превзошли нас в разработке системы финансовых операций, — сказал Ганнибал Карталону. Наша банковская система примитивна.
Карталон, чья теория государства не была связана с экономическими проблемами, согласился, а затем заговорил о Законе Природы, о взаимоотношениях между городом и деревней, о затруднениях некоего сельского патриция, человека большого ума, который прошлой ночью высказал идею осуществления обширнейших ирригационных работ, а также возможности перевода греческой ритмической прозы на пунический язык. Карталону нездоровилось: он вздумал было заставить своих поваров приготовить несколько блюд по рецептам из греческой книги о диетическом питании, но, как видно, не точно перевел рецепты — названия трав так трудны, — и кончилось тем, что он расстроил пищеварение и был вынужден вернуться к овсяной каше, а поварам позволить вернуться к употреблению чеснока.
— Мы выпустим воззвание, — сказал Ганнибал, — и объявим, что первым результатом финансовых реформ будет возможность отмены всех особых налогов, введенных Сенатом под предлогом необходимости уплаты контрибуции Риму. Как бы ни была тяжела эта контрибуция, мы будем в состоянии выплачивать ее из обычных источников государственных доходов — теперь, когда государство избавилось от паразитов.
Намилим был занят более обычного. Он наполнил в сарае несколько кувшинов чечевицей и велел сардинцу отнести их в лавку; сардинец понес их, как обычно высунув язык, — когда-нибудь он поскользнется и откусит кончик языка, какая же будет ему тогда цена? Но Карала невозможно было от этого отучить.
— Я сейчас подстригу его, — сказала Хотмилк, входя в сарай с большими ножницами и с самшитовой гребенкой; она добровольно взяла на себя обязанность стричь Карала: волосы у парня росли так быстро, что расходы на цирюльника были бы непомерны. Сардинец с блаженным видом сел на чурбан, а Намилим вышел в лавку, чтобы разложить на виду артишоки. Вскоре туда вбежал Карал, как всегда возбужденный после стрижки волос, а за ним следовала Хотмилк, критически обозревая дело своих рук.
— Немножко неровно, — призналась она. Исполненная сознанием долга, Хотмилк принялась собирать отрезанные волосы, чтобы зарыть их в землю; нехорошо будет, если по ее небрежности какой-нибудь недруг Карала найдет завиток его волос и заколдует сардинца. Кроме того, придется ухаживать за Каралом, если демон начнет пожирать его душу.
Намилим дал Каралу указания относительно артишоков. Брат Хотмилк собирался выращивать их в большом количестве, если это будет выгодно. В святилище, выходящем на улицу, вымыли маленький каменный алтарь с выемками в углах. Намилим бросил на него последний взгляд и затем без всякой надобности поднялся по скрипучей лестнице и заглянул в спальню, где постель была уже прибрана и свежей цветок был поставлен перед глиняной фигуркой Танит; почему-то был оставлен открытым круглый свинцовый ящичек с нардом. Ноздри Намилима задрожали. Так ли уж необходимо пользоваться этой дрянью с утра? Он сошел вниз.
Хотмилк занималась на дворе стряпней и напевала песенку:
У прибоя, где растет тамариск,
В алых туфельках пришла ты ко мне…
В лавке Карал усердно дышал на гранаты и обтирал их краем туники. Когда он замечал пятнышко грязи на гранате, то слизывал его.
Намилим вышел из дому.
За последнее время деятельность братств значительно оживилась, они превращались в чисто политические организации, если даже и группировались вокруг местных святилищ. Союзы ремесленников порвали последние нити, связывавшие их с патрициями, и объединились с братствами. В братстве Намилима кто-то предложил занять подземные стойла, расположенные в ближайшей части укреплений; и после того, как оттуда вымели весь слоновий навоз и заплесневелые остатки запасов зерна, там устроили нечто вроде клуба. Намилим отрядил Карала в помощь чистящим помещение, и сардинец проявил необычайное старание, особенно когда среди хлама на полу нашел несколько медяков.
Накануне вечером в клубе состоялось собрание, прошедшее с огромным успехом. Главными ораторами были сириец с большим хеттским носом
[70] и греческий проповедник-киник. Сириец поделился своим богатым опытом организации ремесленников и стачечной борьбы в промышленных городах Востока, — опытом, пришедшимся как нельзя более кстати, так как на протяжении последнего месяца в Кар-Хадаште было несколько стачек. «Используйте в политической борьбе любого союзника, — сказал сириец, — но не забывайте, что, когда дело идет о жалованье, никто вам не поможет, кроме вас самих». Он говорил о том, что в Кар-Хадаште в производстве занята сравнительно большая часть свободной рабочей силы; на Востоке, а в конечном счете и в Греции, главная трудность состояла в том, что там были большие излишки рабочей силы невольников, и это приводило к значительному снижению жизненного уровня населения.
После сирийца встал киник, тощий человек с коротко подстриженными пепельными волосами и с сумой странника на боку. По его словам, он прибыл с Кипра. Странные люди эти киники! Питаются тем, что им подают, или дикими ягодами и отказываются от денег. Киник затронул вопросы, которые сириец постарался затушевать. Намерены ли ремесленники бороться против рабов или же они будут бороться плечом к плечу с ними? «Короче говоря, осмелитесь ли вы выступить против самого рабства? Я призываю вас к братству с людьми. Поработив своего брата, вы порабощаете собственную душу». Тут было над чем подумать.
Намилим разыскал старого сторожа, — он стоял посреди самого большого помещения клуба и потирал подбородок.
— Не отрицаю, что вы хорошенько почистили здесь, — сказал старикан, — но вы убрали кормушки без официального на то разрешения.
Его больше всего беспокоило, что он не знал, кому об этом доложить. В такое смутное время не поймешь, кто находится у власти или, того хуже, кто завтра будет у власти. Однако он по-прежнему получал свое жалованье, хотя писари в Казначействе бросали на него косые взгляды.
— Я возьму ответственность на себя, — сказал Намилим, недавно избранный секретарем клуба.
— А не можешь ли ты дать мне об этом бумажку? — спросил сторож. — И с какой-нибудь печатью на ней.
— Разумеется, — ответил Намилим, который как раз заказал гравированную печать для Секции. Ему сделали ее по дешевке из куска низкокачественного малахита, и он надеялся, что этот расход не вызовет возражений. — Я еще хотел спросить тебя о светильниках. Их кто-то украл. Посмотри, вот рычаг для поднятия их, а вот кольца в потолке.
— Я могу доказать, что они исчезли до моего вступления в должность, — дрожащим голосом произнес сторож. Но в конце концов он заявил, что несколько светильников, может, были убраны на склад в дальней части крепостной стены, находящийся в его ведении.
Намилим отправился домой в наилучшем расположении духа. Приблизившись к лавке, он заметил человека с большим свертком под мышкой. Намилиму показалось, что этот парень вертелся здесь, когда сам он уходил из дому.
— Как с артишоками? — спросил он Карала.
Во дворе Хотмилк напевала ту же песенку, но уже другой куплет:
Я хотел бы быть твоей алой туфелькой,
Первой вещью твоей по утрам…
Тут человек со свертком под мышкой вошел в лавку и сказал хриплым голосом:
— Хочу кое-что показать тебе, хозяин. Новый сорт овощей. — Он повел бровями в сторону Карала, который с великим удовольствием лакомился зеленым горохом.
— Ступай вымой еще раз алтарь козьим молоком, — приказал ему Намилим. В человеке со свертком было что-то крайне неприятное, и Намилим решил выяснить, в чем дело.
Когда Карал ушел, незнакомец, осторожно оглянувшись по сторонам, начал разворачивать сверток, продолжая бормотать что-то о чудесном новом сорте, овощей.
— Да ведь это обыкновенная капуста! — воскликнул Намилим. Правда, кочан был очень крупный, но в общем ничего особенного.
— А кочерыжка? — ухмыльнулся незнакомец, передавая кочан Намилиму. — Взгляни!
Намилим взял кочан и чуть не уронил его. Он был тяжелый, словно каменный.
— Что такое? — спросил он, прижимая кочан к животу и разворачивая листья. Кочерыжка была вынута, а вместо нее засунут мешочек, судя по весу и выпуклостям, набитый золотыми монетами. — Для чего это?
— Удивительная капуста, — сказал незнакомец, придвигаясь ближе. — Некоторые твои друзья хотели бы подарить ее тебе в награду за твою добрую волю. Вот и все. В огороде, где она выросла, таких кочанов хоть отбавляй. — Он захихикал. — Ты только должен отплатить доброй волей…
Намилима наконец осенило:
— А, подкуп… Кто тебя послал? Впрочем, что спрашивать… Но почему ты подумал, что меня можно купить? Теперь не старое время… — И тут он понял, что в старое время не посмел бы отвергнуть попытку богачей купить его, даже если бы мешочек содержал всего лишь несколько медяков с обрезанными краями. Но прошли те времена, теперь человек может иметь чувство собственного достоинства! Намилим возвысил голос, однако лишь отчасти по адресу этого хихикающего негодяя, пытающегося подкупить его; своим криком Намилим выражал возмущение тем человеком, каким он сам был в проклятое старое время.
— Нечего шуметь, — прошипел агент, хватая кочан.
В эту минуту вернулся Карал, который, услышав громкий голос хозяина, решил, что его зовут. Вбежав в лавку, он увидел, как незнакомец отнимает у Намилима кочан.
— Караул! Грабят! — заревел Карал и кинулся на агента. Он выбил из его рук кочан, но агент вырвался и побежал вниз по улице, преследуемый пронзительно орущим сардинцем. Со двора прибежала перепуганная Хотмилк; видя, что Намилим цел и невредим, она обхватила руками его шею и всхлипнула. Ему приятно было вдыхать нежный запах ее волос; непокорный завиток щекотал его ноздри; одна из ее спиральных сережек расстегнулась и упала на пол. Он обнял Хотмилк и приподнял ее лицо.
— Ну будет, будет… — успокаивал он ее.
Карал вернулся, тяжело дыша.
— Его укусила собака, но он все же удрал.
— Молодец, — похвалил его Намилим и, отстранив от себя Хотмилк, взял гранат и протянул его Каралу; сардинец принял гранат с подобающей скромностью и явно колебался, съесть его или сохранить на память. Тут только Намилим вспомнил о кочане. Как быть? Ему было противно даже прикоснуться к деньгам, словно они могли околдовать его и против воли сделать предателем. Но не выбрасывать же деньги на ветер! И вдруг он нашел выход. Да, конечно, он передаст деньги в братство. «Дар неизвестного друга». Эти деньги будут очень кстати! На них можно обставить все помещение клуба.
— Слушай, жена, — сказал он, следуя за Хотмилк во двор. — Зажарь-ка курицу к обеду, и давай купим целый поднос пирожных в лавке Масилута — тех самых, которые ты так любишь. — И увидев ее радостное лицо, он решил, что должен еще что-нибудь сделать для нее. Да, он купит ей красивый эмалированный ящичек для нарда вместо того уродливого свинцового.
5
Она, разумеется, ничего не говорила, однако Барак считал необходимым делать ей все новые подарки. Возможно, он сам был виноват, начав строить их взаимоотношения на таких началах. Не имея, возможности каждый раз приносить столь дорогую вещь, как та тиара, он боялся оказаться в ложном положении, то есть не на должном уровне царской щедрости, если придет с пустыми руками. Что касается всего прочего, то он был ошеломлен полнотой чувств, которыми его обволакивала Дельфион. Он никогда не подозревал, что может существовать такая женщина. Дельфион казалась тысячью женщин и была более недосягаемой, чем когда-либо; она погружала его в утонченное очарование и возбуждение, которое одурманивало и переполняло его. В иные минуты его охватывал страх и он хотел бежать. Как он мог удержать эту тысячу женщин, если каждая из них любила по-своему? Да, он тонул, но не мог ничего с собой поделать и продолжал тонуть.
Представление о бегстве для него было связано с Дельфион как пламенной целью этого бегства. Но как только он продумывал эту мысль до конца и воображал себя убежавшим от нее, он чувствовал только опустошительные ветры одинокой жизни. Он не мог бы жить без нее. Его не тревожила опасность умереть от непомерности ее требований, но он страшился, как бы в конце концов не оказаться лишь высушенной оболочкой мужчины.
Его тревожило также отсутствие денег. Он вытянул, сколько мог, у домоправителя Озмилка; затем стал брать кредит в лавках, под конец начал брать в долг. Сыну Озмилка не так уж трудно было получать кредит и займы. Но рано или поздно кто-нибудь из его кредиторов, несомненно, шепнет о его долгах Озмилку. Барак предпочитал об этом не думать. Он старательно избегал отца, и это было нетрудно, так как со дня Народного собрания Озмилк целиком ушел в какие-то таинственные дела. Он и Гербал встречались с некоторыми другими членами Сотни в верхних помещениях Сената, над главным портиком, а дома у него всегда был какой-то отсутствующий вид. Все же Барак нередко чувствовал на себе пристальный взгляд отца, и это отнюдь не было ему приятно.
Мать Барака, Батнаамат, в последнее время зачастила в храм Танит пнэ Баал и молилась о том, чтобы злые люди были наказаны, а добрые (то есть те, у кого много добра) прощены. Но, сколько Барак ее помнил, она никогда не играла в доме никакой роли и даже не протестовала, когда ее муж приводил в дом наложниц. Пока она могла всласть бранить прислуживавших ей девушек, она была вполне довольна; она знала, что может положиться на Озмилка в отношении уважения ее законных прав, и Барак был склонен думать, что она всячески подстрекала девушек на проступки, чтобы потом их жестоко наказывать. В сущности, Барак уже много лет почти ничего не знал о том, что происходит на женской половине дома; до него доходили лишь кое-какие сплетни от рабов.
Однажды утром, когда Барак уже собрался ускользнуть из дому, чтобы пойти купить перстень для Дельфион, отец окликнул его. Он вернулся в приемный зал. Отец, мрачно сдвинув брови, стоял между двумя старинными египетскими колоннами, держа в руках какие-то бумаги.
— Да, господин? — спросил Барак.
— Ты редко бываешь дома в последнее время и не являешься за поручениями. — Холодный взгляд отца пронзил Барака; он хотел уже покаяться, упасть на изразцовый пол, обхватить колени отца. Но Озмилк продолжал: — У меня есть дело для тебя. Следуй за мной.
Они прошли мимо статуи Гермеса Скопаса (в далеком прошлом похищенной из Сицилии) в рабочую комнату Озмилка.
— Я намерен доверить тебе важную миссию, — сказал Озмилк уже менее сурово. После того как Барак пробормотал благодарность, отец добавил: — Ты отвезешь письмо в Сиракузы.
Барака охватили противоречивые чувства: облегчение от того, что отец ничего не сказал о Дельфион и о покупке драгоценностей, и отчаяние при мысли, что он уедет из Кар-Хадашта, от Дельфион, на долгие недели, а может быть, и месяцы. Ему пришла в голову шальная мысль: тайком взять с собой в путешествие и Дельфион. Тут он заметил, что Озмилк внимательно за ним наблюдает.
— Твои слова для меня закон, — только и осмелился вымолвить Барак.
Озмилк, казалось, несколько смягчился.
— Ты хорошо говоришь, как и должен говорить сын, послушный сын.
Барака снова обуял ужас, что сейчас все раскроется; и от этого мысль о поездке в Сиракузы не казалась уже столь страшной. Все ничего, лишь бы Озмилк не узнал о его долгах и ничего не говорил о Дельфион. Барак никак не мог понять, известно ли что-нибудь Озмилку или он просто считает сына бездельником.
Однако когда отец приказал сделать все приготовления и через два дня отплыть в Сиракузы, а затем отпустил его, Барак почувствовал себя глубоко несчастным. Как сможет он столько времени оставаться вдали от Дельфион? Если он лишится ее, жизнь потеряет для него всякий смысл. Он как безумный бросился рыскать по всем ювелирным лавкам, где пользовался кредитом, и набрал целую сумку драгоценностей. Остатки здравого смысла он употребил на то, чтобы подсчитать, сколько без риска можно взять у каждого ювелира, и выбирал украшения, не интересуясь их художественными достоинствами. Его интересовало лишь количество и реальная ценность.
С полной сумкой в онемевшей от непомерной тяжести руке он отправился к Дельфион. Она была наверху, в спальне, и ожидала его.
— Это ты? — спросила Дельфион. Она лежала спиной к двери и читала свиток.
— Да, — сказал он низким, напряженным голосом, но она, казалось, этого не заметила.
— Я хочу сначала кончить! — и она продолжала читать, не обращая на него внимания.
Барак тихо поставил сумку на пол и принялся выкладывать из нее драгоценности. Он уже разложил на ковре половину их, как вдруг обнаружил, что Дельфион повернулась и в изумлении уставилась на него. Вместо того чтобы расставить на ковре остальные сокровища, он высыпал их сверкающей грудой. Звон металла заглушил ее восклицание.
— Это для тебя! — промолвил он беспомощно. — Все, что я мог достать.
На нее напал смех. Этот смех ужаснул его, он отказывался понять, как можно смеяться при виде такого богатства. Можно, конечно, смеяться от счастья. Но Дельфион смеялась совсем не так, как смеются от радости. Барак не знал, как назвать этот смех, но он был не радостным.
— Неужели ты этого не хочешь? — спросил он, подавленный.
— Конечно, хочу, — ответила она, садясь на край ложа. — Ты слишком очарователен, этого не выразить словами. Неужели все это настоящие драгоценности? — Были минуты, когда она видела в нем лишь мальчишку, и тогда она его любила.
— О да, — пылко заверил он. — Ведь ты не думаешь, что я могу принести тебе фальшивые, правда? Здесь нет ни крошки страза. У меня чуть руки не отвалились, пока я донес этот груз. — Он согнул правую руку. — Поверь, не многие могли бы тащить такую ношу. Понимаешь, я не мог нести сумку на плече: это было бы неприлично здесь в городе, где каждый знает моего отца. И я остерегался наклоняться в сторону — это вызвало бы у людей ненужное любопытство…
— Но почему надо было нести именно золото, серебро и драгоценные камни, чтобы испытать силу твоих мускулов? Несколько больших кирпичей сослужили бы ту же службу.
— Что ты хочешь сказать? — спросил он, сбитый с толку. — А тебя бы обрадовало, если бы я принес кучу кирпичей?
— Поди же сюда, — сказала она, и Барак, переступив через свои сокровища, заключил ее в объятия. Тут только он вспомнил, что не сказал ей о предстоящем ему путешествии в Сиракузы. Он был так глубоко несчастен, что ему казалось — все знают об этом, и он не стал рассказывать о своем горе Дельфион. Теперь, когда он обнимал ее и она была так нежна с ним, нежна более, чем когда-либо, он был не в силах нарушить чары и дать выход своему отчаянию.
Но от действительности никуда не уйдешь. Он будет сослан в Сиракузы на много недель. После часа, проведенного в попытках забыть об этом, притвориться, что ему удастся уговорить отца послать кого-нибудь другого, он застонал и спрятал лицо на ее груди.
— Я умру… — сказал он.
— Почему? — спросила она спокойно, играя его волосами.
Ее тон задел его, но он не хотел усложнить положение своими упреками. Стряхнув с себя оцепенение, он поднялся и сказал более или менее обычным голосом:
— Отец посылает меня в Сиракузы по важному делу.
— Что ж, это очень приятное путешествие.
— Ты хочешь сказать, что поедешь со мной? — вскричал он с жаром.
— О чем он говорит? — сказала она и снова вытянулась на ложе, откинув волосы на плечо.
— А ты не хотела бы поехать со мной? Это можно было бы устроить.
— Не сомневаюсь. Но едва ля это меня устроит.
— Ты меня совсем не любишь? — спросил он жалобно.
— Праздный вопрос! Я буду здесь, когда ты вернешься. Тогда и спросишь.
— Вот этого-то я и боюсь. О Дельфион, ведь ты не забудешь меня? Ты не бросишь меня ради другого?
— Если бы я решила это сделать, то сделала бы независимо от того, здесь ты или нет.
— Обещай мне быть… — он не мог произнести слова «верной». Это всколыхнуло бы в нем невыраженное сомнение в том, верна ли она ему теперь, когда он рядом. — Обещай, что все будет по-прежнему, когда я вернусь.
— Как я могу обещать тебе это? — сказала она терпеливо, словно отвечая упрямому ребенку. — Я уже буду другая. И ты будешь другой. И мир будет другой.
— Я буду тем же! — Он стал ее умолять. — Не терзай меня, скажи, что мне можно будет прийти к тебе, когда я вернусь.
— Ты воображаешь, что я запру перед тобой двери?
— Я принесу тебе еще много драгоценностей, — сказал он, махнув рукой на груду золота.
— Думаю, тебе лучше взять все это обратно, — сказала она холодно. — Я не хочу этого, я ничего не хочу от тебя, если ты считаешь, что из-за своих даров можешь ставить мне условия. Собственно говоря, я никогда у тебя ничего не просила…
Барак не мог этого отрицать. И все же в глубине его души таилась весьма не лестная для него уверенность, что он никогда не добился бы ее без подарков, которыми он, кстати, очень гордился. Он снова стал ее умолять, требовать обещаний, которые она отказывалась дать. В конце концов ему пришлось уйти, удовлетворившись теми жалкими крохами надежды, которые она ему оставила. По ее тону он должен был заключить, что, само собой понятно, ничего не изменится и его путешествие просто на время прервет прочно установившиеся отношения. Если б только он мог быть уверен, что по возвращении достанет новые кредиты, ему стало бы легче. Его вдруг охватила такая ярость против отца, что он бессильно приник к стене и стоял так, меж тем как прохожие толкали и бранили его. Если бы только отец его умер!
6
Известие об отъезде Барака глубоко взволновало Дельфион, хотя она старалась не показать ему этого. До отъезда у него был еще более печальный разговор с нею, во время которого она сохраняла свой дружелюбно-упрямый тон. Она не давала ему никакого повода для отчаяния, но и для надежды тоже; она лишь обращалась с ним, как с неразумным ребенком, пристающим с вопросами, на которые не так-то просто ответить; в подобных случаях ничего не остается делать, кроме как запастись терпением и отвлекать его внимание. И вот Барак уехал, она осталась одна, и вокруг образовалась пустота. Ненавидит ли она его еще? Если и да, то, во всяком случае, не совсем так, как прежде. Ее давнишний замысел — побудить его к ссоре с отцом — казался ей теперь низким и недостойным; она давно об этом забыла. Нет, он ей нравился; в нем было много хорошего. Он был щедр, смел, энергичен, так же как, впрочем, и избалован, и жаден, и жесток, когда не исполнялись его желания. Но какая-то ее часть презирала его, как она презирала и себя, за то, что нуждалась в нем. Благодаря ему мир сохранял для нее еще некоторый смысл. Даже презрение к себе оживляло ее ум все новыми восприятиями. Она теперь была в полном разладе с собой и как бы говорила себе: очень хорошо, обостряй этот разлад, сколько можешь. В мыслях она отделяла от себя свою чувственность как осознанный порок. Но с какой целью? Чтобы одолеть его и освободиться от него или чтобы дать ему одолеть и поработить себя? Она начала бояться, что у нее нет выбора, что эта вторая возможность из двух стала ее судьбой. В основе ее возбуждения лежало чувство оскорбленного достоинства. Облегчение наступало лишь в те минуты, когда он усиливал в ней ее нестерпимый стыд. Я все же ненавижу его, — думала она.
Прошла неделя после отъезда Барака, и ее беспокойство нашло определенное выражение. Она поняла свой страх перед жизнью, и этот страх стал невыносим. Однажды вечером она вышла на улицу в сопровождении Фронезион — это имя Пардалиска дала новой девушке, взятой вместо Хоталат. Они были в старых плащах, чтобы не привлекать к себе внимания. Ничего особенного не случилось, если не считать того, что какая-то компания гуляк сделала нерешительную попытку прижать их к стене. После этого Дельфион хорошо спала, и ее беспокойство несколько улеглось. Она чувствовала: что-то происходит в глубине ее души. Мир, представлялось ей, становится другим, пусть даже совсем незаметно, и она поняла, что сама меняется. Она попросила Фронезион рассказать ей о своем детстве, ее начала интересовать политическая жизнь города.
У Дельфион теперь было с кем поговорить о политических событиях. У нее в качестве квартиранта жил Хармид с Главконом (он, разумеется, не платил за квартиру, хотя беспрестанно уверял, что когда-нибудь обязательно заплатит). Хармид пришел к ней после постигшего его несчастья весь в слезах.
— Сами деньги не имеют для меня никакого значения, — жаловался он. — Но я потрясен и уничтожен вероломством людским. Это единственное, с чем я не могу примириться.
Он сказал, что у него нет ни гроша, однако, как Пардалиска позднее узнала от Главкона, у Хармида осталась некая сумма, вырученная от продажи двух рабов, и различные безделушки, которые он хранил в желтом лакированном шкафчике. Это, конечно, было немного, и нельзя было винить его за то, что он хотел отложить кое-что про черный день, хотя, думала Дельфион, он мог бы и не врать ей. Столь же лживыми были и другие его выдумки. Например, он сказал, будто после своего несчастья пришел прямо к ней потому, что она единственная из всей греческой колонии в Кар-Хадаште может понять его переживания и проявить к нему душевную чуткость. Но потом она узнала, опять-таки через всеведущую болтушку Пардалиску, что Хармид сначала толкнулся к купцу Калликлу, с которым часто пировал, когда был платежеспособен, а Калликл указал ему на дверь. Говорили также о неприятной сцене в храме Деметры, когда Блефарон, ведавший финансами храма, оскорбительно приставал к Хармиду, требуя обещанного денежного пожертвования.
Дельфион не могла скрыть улыбки, когда Хармид стал распространяться о ее чуткости и тактичности, ибо она действительно проявила немало тактичности, слушая его россказни. А ведь ничего не стоило бы вскользь заметить, что ей известно, как отзывался о ней Хармид в доме Калликла. «Никто, кроме прогоревших шлюх, не станет приезжать из Коринфа в такой город, как Кар-Хадашт», — сказал он. И еще: «Она, должно быть, была довольно красива в молодости. Единственное, о чем она думает, это деньги». И так далее в том же духе. Все это оскорбляло ее, вероятно, не столько само по себе, сколько потому, что Пардалиска смаковала эти сплетни, пересказывая их, но, по правде говоря, она не особенно удивлялась: ей было хорошо известно, что Хармид принадлежал к типу людей, которые ради красного словца не пощадят и друга, особенно отсутствующего. Он и ей рассказывал всякие гадости про других. И все же он был страшно расстроен, по крайней мере в этом он был вполне честен. А в данный момент он был подавлен и потому искренен в своих изъявлениях благодарности.
— Пока у меня есть дом, я всегда буду рада приютить тебя, — сказала Дельфион. — И Главкона тоже, разумеется.
Хармид, в избытке скромности, настоял на том, чтобы ему отвели самую маленькую каморку в дальнем конце дома, и только всех обеспокоил этим: комнатку занимал единственный в доме раб, которого пришлось выдворить оттуда, и так как для него не нашлось другого помещения, в конце концов над кухней соорудили еще одну комнату, с наружной лестницей. Однако все это прошло мимо внимания Хармида. Он черпал утешение лишь в том унижении, которому подвергалась его душа.
— Навязался я вам на шею, старый лодырь, обуза для всех, фигляр, которого едва терпят, — говорил он с грустной улыбкой. — Для людей вроде меня, презирающих деньги, нет больше места в мире. Может быть, свинопас Деметры
[71] умрет от чесотки, и тогда ты сможешь устроить меня на его место. Самое подходящее занятие для отверженного Изгнанника. Ведь ты знаешь, что ни пунийцы, ни коренные жители не едят свинины, так что все свиньи в стране принадлежат нашей эллинской богине. Не забудь замолвить за меня словечко, когда освободится место…
Говоря так, он потуплял глаза, голос у него начинал дрожать, и он выглядел старым и несчастным. Однако в другое время он забывал свою роль, особенно за трапезой или когда шутил с девушками, и становился беспечнее и веселее, чем был прежде. В такие минуты даже казалось, что он сбросил тяжесть с плеч и чувствовал себя легче, чем когда-либо, а спустя некоторое время он вспоминал о своем горе и снова впадал в уныние, испытывая столь неподдельное удовлетворение от разыгрываемой роли покинутого старца, что это вряд ли было притворством. Когда у девушек бывали гости, он держался в стороне.
В доме стало спокойнее. Сблизившись с Бараком, Дельфион перестала принимать других и устраивать пиршества. Единственными посетителями дома были люди, поддерживавшие более или менее постоянные отношения с кем-нибудь из девушек.
У Дельфион вошло в привычку, незаметно выйдя из боковой калитки сада, бродить по городу после наступления темноты. Она больше не боялась мрака. Близилось полнолуние, и бледный молочный свет луны омывал улицы и оштукатуренные стены домов. В портовом квартале лунный свет сливался с огнями домов и кабачков. Мир был не менее светел, чем днем, но это был другой мир. Ее часто окликали, но она уже привыкла не обращать на это внимания.
Однажды ночью она стояла в тени у входа в кабачок, глядя на сидевших за столами. Она и раньше заглядывала во многие кабачки, но на этот раз один из посетителей заинтересовал ее. На нем была грубая одежда моряка, в руках он сжимал войлочную шапку. Это был человек мощного телосложения,
уже не молодой — его виски посеребрила седина. Но и не старый; ему, вероятно, было немногим более тридцати, и он, видно, уже многое перенес в жизни. У него было греческое лицо, ясно очерченное, с прямым носом; губы, когда-то полные и мягкие, как будто затвердели после схваток с судьбой, глаза — насмешливые и дружелюбные. Что-то в нем привлекало ее. Ей вдруг представилось, будто вся ее жизнь рушится, и она спросила себя, хватит ли у нее сил начать жизнь снова. Лицо моряка, повернутое к улице, к ночи, словно спрашивало ее об этом. Ей казалось, что он видит ее, хотя она знала, что это невозможно. Она смутилась и покраснела, как молодая девушка.
Дельфион вошла в кабачок, но не осмелилась сесть к столу моряка, хотя место напротив него было свободно. Она не решилась даже сесть лицом к нему за другой стол. Она прошла на заднюю половину кабачка и села там, не зная даже, заметил ли он ее. Ей принесли скверного вина, и пока она пила, ей стало ясно, что если моряк ее и не заметил, то трое сидевших между ним и ею мужчин, безусловно, обратили на нее внимание. Они перешептывались, подталкивали друг друга локтями и улыбались ей. Один из них поманил ее пальцем. Она покачала головой и отвернулась. Но через некоторое время он встал и подсел к ее столу.
— Ты одна, красотка? — сказал он, крутя пальцами бороду. Нехорошо быть одной.
Дельфион не испугалась бы, встреть она его в другом месте и в другой обстановке. Но оттого, что греческий моряк сидел так близко, оттого, что он наверняка услышал бы ее, если бы она подала голос, Дельфион совсем растерялась. Она пробормотала, что зашла мимоходом, и поднесла к губам стакан с кислым вином. В замешательстве она почувствовала, что все в кабачке уставились на нее, все, кроме греческого моряка, спокойно сидевшего спиной к ней. От лампады в нише шел горячий запах прогорклого масла — она, вероятно, месяцами не чистилась.
— Только пальмовое вино здесь годится для такой красотки, — сказал подсевший к ней мужчина и положил руку на ее руку.
Вошел пьяный человек в кожаном плаще и запел нетвердым голосом:
Эй, Барабан, приди, эй, Барабан, приди,
Эй, Барабан, приди, Сын Мириам!
Приди и насладись барабанным боем, Сын Мириам!
Главный барабанщик, мы молим о прощеньи…
Он тяжело сел на скамью и крикнул:
— Я пришел из-за гор. Я трижды умирал. Сколько стоит вино в этой вонючей дыре?
Дельфион принесли пальмового вина, и она не посмела отказаться. Она хотела лишь одного — не привлечь внимание греческого моряка; лучше покориться чему угодно, только б он не обернулся и не посмотрел на нее. Она поцарапала ногтем по кувшину — местное подражание кампанской керамике с отслаивающимся дешевым черным лаком. Длинная полоска лака отскочила под ее ногтем, и она оглянулась — не заметил ли хозяин. Золотая прядь упала ей на глаза. Человек, сидевший рядом, издал смачный звук поцелуя.
— Я буду любить тебя грозовой любовью, — сказал он. Только теперь Дельфион разглядела его. Это был смуглый человек с рассеченной верхней губой; должно быть, он неделю не брился: щетина покрывала его шею и скулы.
Певец со спутанными волосами все тянул и тянул:
Мы знаем, что бить в Барабан трудно.
Мы молим о прощеньи.
Сын Мириам, Маленький барабан следует за Отцом барабанов,
Сын Мириам, Барабан, перетянутый пополам, как оса,
следует за Отцом барабанов.
Мы молим о прощеньи.
Сын Мириам, Круглый барабан следует за Отцом барабанов…
Он стал пальцами выбивать такт на столе. С улицы донесся чей-то хриплый хохот. К Дельфион, качаясь, подошла неряшливо одетая женщина, схватила ее за волосы и потянула ее голову назад. Сосед Дельфион ударил женщину по лицу, она вцепилась в него ногтями и пронзительно закричала. Дельфион встала и хотела незаметно выйти из-за стола. Но другие двое преградили ей путь.
— Нет! Нет! — вскричала она исступленно, забыв на мгновение свой страх перед греческим моряком.
Краем глаза она увидела, что моряк вскочил. Он перепрыгнул через стол и ударом в ухо сшиб с ног одного из пристававших к Дельфион. Повернувшись к другому, он рассмеялся громко и радостно и так хватил его под подбородок, что, казалось, у несчастного голова скатится с плеч.
— Еще кто? — крикнул грек.
Пьяный все еще барабанил пальцами по столу:
Сын Мириам, мы молим о прощеньи.
Слушайте, мир распадается на части… Барабаны…
Какая-то девица кинула в Дельфион стаканом, он разбился о стену у самой ее головы. Моряк схватил Дельфион и вынес из кабачка. Он быстро побежал по улице, все еще держа ее и ласково смеясь. Завернув за угол, он остановился и мгновение стоял молча. Затем осторожно поставил ее на ноги.
— Куда тебя отвести? — спросил он. — Я пьян, но тебе нечего бояться.
— Я не боюсь.
Наступило молчание. Луна блестела над крышами домов. Откуда-то из мрака доносился плач ребенка.
— Все же я пьян, — повторил моряк с настойчивостью, доказывавшей, что он говорит правду.
— Какое это имеет значение?
— Ах, да… Какое это имеет значение? — спросил он, прислонясь спиной к стене. — Почему твои волосы такие золотистые? Ты знаешь, что они золотистые далее при луне? Кто ты?
— Меня зовут Дельфион.
Он нетерпеливо махнул рукой:
— Не все ли равно, как тебя зовут? Повторяю, я пьян…
— Мне некуда сейчас идти. Возьми меня к себе.
— Там есть кровать, — сказал он. — Да, там есть кровать. Разумеется, говоря по правде, там есть кровать.
Он взглянул на небо, затем повернулся к ней и взял ее под руку.
— Мы оба эллины. Скитальцы. Ты почти такая же высокая ростом, как я. А ты знаешь город Корону у Мессенского залива? Я оттуда. Прости меня, если я говорю бессвязно и не то, что надо. Это моя первая прогулка в полночь с богиней. Ее милостивое обращение, ее стан, ее платье, словно огненная дымка, тепло струится и мерцает… Как это говорится в стихах? Золотой месяц мерцает на ее груди… Нет, это все-таки не ты…
Не держат ноги… Упаду вот-вот…
Когда б со стаей алкионов вольных
Беспечно я парил над пеной вод,
Я не знавал ни горя, ни забот
И птицей бирюзовою привольно
Весной стремился в радостный полет.
Когда я думаю о Короне, я вижу бело-зеленый блеск моря и старого бога из смоковницы с жиденькой бородкой. Мудрый и добрый, он смотрит на море… Не называй мне своего имени, я сам хочу его вспомнить… Уже десять лет я не был на родине, и все же я часто видел ее отблеск, когда плавал по заливу в Левктры
[72]. А сейчас мне кажется, что отчий дом здесь, за углом.
Дельфион пыталась разобраться в своих чувствах. Ей казалось, что она на грани самого важного решения своей жизни; а страх все продолжал замедлять его принятие. Хотелось не сопротивляться, не думать, поддаться силам, которые, она чувствовала, притягивают ее к этому человеку, и в то же время сохранить возможность возвращения к старой жизни как надежному убежищу на случай, если ее постигнет разочарование. Но другая часть, ее существа взывала к перемене, к полному обновлению. И тогда первый голос отвечал: «Ты просто зачарована могучим телом и зовом родины. Не доверяй этому чувству — оно через день или ночь, через неделю или месяц оставит тебя подавленной и опустошенной. Ты погибнешь, сломленная, потерянная и всеми презираемая».
Поглощенная тем, что происходило у нее в душе, Дельфион не смотрела, куда они идут; едва ли она даже слышала бессвязные, ласковые слова человека, державшего ее под руку. Он остановился перед высоким домом, свирепо крикнул что-то мужчине, вышедшему, покачиваясь, из тени открытой двери, и потянул Дельфион внутрь — по коридору и вверх по скрипучим ступеням. Он на ощупь считал двери, пока не дошел до седьмой, и открыл ее.
В комнате было темно, лишь полоса лунного света пробивалась сквозь задернутые оконные занавески. Он подошел к окну и сорвал занавеску. «Лунного света для любви и радости!» — рассмеялся он. Комнату теперь заливали бледные лунные лучи. В ней были только кровать, стул и вешалка.
— Вот кровать!
Он снял с вешалки толстый плащ и бросил его на пол перед дверью.
— Ложе для кентавра! — Он коротко расхохотался, но сразу овладел собой, ударяя лишь кулаками по груди от полноты чувств. — В такую ночь веришь в Геракла… и в Елену, скользящую по неровной дороге судьбы и умиротворяющую даже злых стариков…
Он стоял и глядел, как она раздевается и ложится в постель.
— Здесь есть место и для тебя.
— Я спал на более жестком ложе, чем этот пол, — ответил он и лег на пол, не раздеваясь. Некоторое время она тихо лежала на спине, стараясь обдумать свое положение, уверенная, что не уснет. Рядом слышалось его глубокое, ровное дыхание. Вскоре и она уснула крепким сном без сновидений.
Утром она проснулась и увидела над собою его глаза. Он стоял у кровати. Несколько мгновений они спокойно и пристально вглядывались друг в друга, и воспоминание о прошедшей ночи хлынуло между ними мягким и ясным потоком. Казалось, прошли годы — так глубоко ушли корни их близости; цветы колебались и трепетали на ветвях их сливающихся мыслей. Хотя он до сих пор даже не ласкал ее и не произнес ни слова любви, она чувствовала, что безраздельно принадлежит ему, как и он принадлежит ей.
Кто-то свистел в коридоре; где-то поблизости варили овсяную кашу. Все было хорошо. Те, кто когда-либо знал полное счастье, приобщились его тайны и уже не могут быть побеждены. Я не могу теперь умереть, — подумала Дельфион, — и ей хотелось жить, хотелось, как никогда раньше.
Его суровое смуглое лицо осветилось мягкой улыбкой. Через его левый висок шел шрам, ночью она этого не заметила. Она раскрыла объятия, он наклонился и поцеловал ее. Некоторое время они лежали неподвижно. Ей приятно было чувствовать рядом с собой тяжесть его отдыхающего тела.
— Ты мне мил, — сказала она, откидывая локон с его лба.
— Ты тоже мне мила! — Он встал и ласково отвел ее руки. — Но не мила эта комната.
— Какую же ты хотел бы комнату?
Он раздумывал минуту.
— Дня два назад я был на озере. Я хотел бы взять тебя в один из домиков там на берегу, в нескольких милях к западу от города. Такой домик можно снять. Ты можешь поехать со мной?
— На сколько?
— На неделю. Потом я возвращаюсь в Элладу.
— Да, могу.
Он весь бурлил от избытка жизненных сил; его тело как будто дрожало от нашедшей выход энергии. Дельфион показалось, что он стал выше, сильнее и мускулистее. Его лицо похорошело от наплыва чувств. Он нагнулся, поднял ее высоко над головой, словно принося в жертву богам любви и радости, и опустил на пол. Она стояла обнаженная, он не сводил с нее глаз. Он коснулся ее рта, ее груди, ее колен, затем отступил назад.
— Оденься, — сказал он прерывающимся от нежности голосом. — Уедем на озеро, только там я осмелюсь обнять тебя.
Она хотела отправиться сразу же. Ей ненавистны были мысли о доме, о девушках и вообще о всех делах, связанных с ее хозяйством. Но нельзя было бросить все на произвол судьбы. Надо заставить себя вернуться туда.
— Я встречусь с тобой в полдень у храма Деметры, — сказала Дельфион.
Он взял ее за плечи и глубоко заглянул в глаза, проверяя ее. После этого он успокоился. Он знал, что она придет. Отстранив ее немного от себя, он прижался лицом к ее лицу. Его суровый и страстный поцелуй заставил ее дрогнуть, задохнуться от полного счастья.
Вернувшись домой, Дельфион сразу созвала своих девушек, сказала им, что уезжает на неделю к друзьям, и назначила Пардалиску и Клеобулу ведать всеми делами по дому. Заодно она решила собрать несколько платьев и туалетных принадлежностей, чтобы взять с собой, и поднялась в свою комнату. Вскоре к ней зашел Хармид.
— Я слышал от девушек, что мы лишимся тебя на неделю или больше?
— Да, — ответила Дельфион, продолжая укладываться.
— Как печально для нас! Но я рад, что захватил тебя. Можно мне сказать тебе несколько слов наедине?
— Конечно!
Дельфион кивнула помогавшей ей девушке. Та вышла, и Хармид плотно прикрыл за нею дверь.
— Когда человека постиг такой удар, какой обрушился на меня, такое жестокое открытие подлости и полной развращенности мира, — сказал он, снова впадая в роль нищего старика, — он более не считает себя вправе рисковать. Самое тяжелое в моих переживаниях то, что они лишили меня веры в собратьев, заставили мыслить на языке этого чудовищного извратителя всех ценностей — золота…
Собрав все свое терпение, Дельфион ждала, когда он доберется до сути дела, и продолжала укладывать вещи.
— Конечно.
— Я знаю, что мои замечания не стоят того, чтобы их слушали, хотя они исходят из глубины моего кровоточащего сердца, — продолжал Хармид с большим удовлетворением. — Я всего только бедный, старый, дряхлый эстет, разорившийся из-за доброты своей души. Даже Главков против меня… Ну ладно, не буду тебе надоедать рассказами о своих бедах. У меня к тебе маленькая просьба, но для меня это дело не маленькое. Как тебе известно, я лишился всех своих предметов искусства, составлявших прежде мою коллекцию на родине, — коллекцию, возбуждавшую зависть и алчность многих куда более знаменитых любителей искусства, чем я. Теперь все потеряно, расхищено, растеклось по рукам этих свиней римлян. Так вот, как я уже говорил, от всех этих предметов у меня осталось всего несколько, случайно оказавшихся со мной благодаря тем чувствам, которые меня с ними связывают.
Хармид вытащил из кармана три вещички: перстень со скарабеем и два гравированных овала из ляпис-лазури.
— Они принадлежали моей матери. Будь так добра, спрячь их. У тебя, несомненно, есть где-нибудь тайное местечко, где ты хранишь свои ценности.
— Разумеется, — сказала Дельфион. Она взяла вещички и, так как торопилась, попросила его: — Помоги мне.
Дельфион держала свои драгоценности в шкатулке из кедра, спрятанной в верхней части стены над ее кроватью, в углублении за балкой. Обычно она принимала все меры предосторожности, когда снимала шкатулку: запирала дверь на замок, чтобы никто не вошел, а затем пододвигала к стене сундук и ставила на него табурет.
— Принеси тот столик. Он выдержит мой вес. — Она бросила на столик старое платье. Хармид подал ей руку, помог взобраться на столик и поддерживал ее, пока она, стоя на цыпочках, дотянулась до шкатулки. Ей удалось приподнять немного крышку и бросить внутрь перстень и камни; затем она спрыгнула на пол.
— А теперь поставь столик на место. Брось это платье на пол. Я не то что не доверяю девушкам, но лучше не вводить их в соблазн.
— Ты благоразумна не по возрасту, — пробормотал Хармид. — Поражаюсь твоей житейской мудрости. Ах, если бы у меня было ее хоть немного, я теперь не был бы всеми презираемым нахлебником, бродячим рассказчиком избитых анекдотов. Но это неважно. Ты сняла бремя с моего сердца. Теперь я знаю, что по крайней мере эти единственные реликвии более счастливой жизни в безопасности от все оскверняющего мира. — Слезы блеснули на его все еще красивых ресницах. — Можно старику поцеловать тебя, мое любимое дитя? В знак глубокой благодарности! — Он целомудренно поцеловал ее в лоб и в губы. — Мне как-то стало легче на душе. Мир, может быть, не так уж низок. Помни всегда, мое очаровательное дитя, что ты скрасила последние часы несчастного, но не вовсе недостойного человека…
Дельфион кончила собирать свои вещи.
— Я рада, что сослужила тебе службу. Проси Клеобулу обо всем, что захочешь. Не стесняйся и ни в чем не ограничивай себя и Главкона… Я вернусь через неделю.
Она окинула комнату прощальным взглядом. Все казалось ей нереальным. И в то же время трезвая, деловая сторона ее натуры безошибочно подсказала ей, как Пардалиска сумеет воспользоваться ее отсутствием.
— Присматривай за Пардалиской, — сказала она Хармиду напоследок и сошла вниз.
7
Герсаккон снова почувствовал выросшую между ним и Динархом преграду. В общении между ними слова потеряли силу и не вызывали ответного отклика. Жизнь Герсаккона опять стала блужданием в потемках. Однако его вера, что это больше, чем слепое повторение пережитого, не ослабела; он просто винил себя в том, что ему не удавалось понять сущность бытия. По временам он поднимался над своими терзаниями и начинал воспринимать город как единое целое, как поток темной и сверкающей мощи, в котором полные глубокого смысла перемены были созвучны именам богов. Я стремлюсь к Логосу
[73], — решил он.
Герсаккон совсем не считал, что политическая борьба отображена и сосредоточена в Ганнибале безотносительно к его собственным духовным и религиозным сомнениям, однако он знал, что не мог бы принять участие в борьбе только из-за возникновения обыденных конфликтов. Он считал борьбу необходимым и все же несовершенным средством. Несовершенным не потому, что она была не закончена, но потому, что ей не хватало одного главного условия. Какого? Этот-то вопрос и мучил его. Был ли это только упущенный стратегический момент, не постигнутая социальная перспектива? Или это был орган, не развитый до состояния активного действия? (Но если так, почему это меня терзает?) Дитя во чреве матери имеет зачатки глаз, но не обладает зрением и не страдает от этого, движимое всей своей волей, всем существом к тому мигу решающего изменения, когда глаза станут видеть. Или это были лишь его собственные неуравновешенность и несовершенство?
Как только он доходил до этого тупика, куда заводили его общие вопросы, он обнаруживал, что отброшен назад, к своим личным проблемам. Перед ним возникал образ Дельфион, в ее глазах то таилась злорадная измена, то была глубокая страсть. Внезапно вернулась давняя мысль: я должен узнать зло, чтобы преодолеть его; я должен умереть, чтобы возродиться. Чары стали более могучими, и он сознавал, что в душе призывает все образы жестокости и насилия. Он посещал храмы и наблюдал жертвоприношения. Холодный ужас, требующий мужества, чтобы увидеть и познать все, чередовался с судорожным признанием поражения, в котором знать — означало страдать. В сменяющихся образах он видел себя одновременно жрецом и жертвой, убийцей и убиенным, ножом и агнцем. Чувство беспощадной жестокости вздымалось в нем как доля чувства бесконечной жалости. Он не мог отделить одно от другого, и как двуединое это было для него действительностью. Жертва разрезала надвое и воссоединила вселенную.
Некоторое время он думал стать жрецом, чтобы самому иметь в руках жертвенный нож. Может быть, таким путем обретет он мир. Его сновидения наполнились кошмарами льющейся потоками крови, бесконечных преследований, объятий, переходивших в смертельную схватку. Однажды вечером он столкнулся в темном проходе своего дома с одной из молодых рабынь. Она прижалась к стене. Он увидел страх в ее глазах. На него напало слепое безумие, и он обеими руками схватил ее за горло. Девушка не вскрикнула, и, может быть, это спасло его. Казалось, он стоял бесконечно долго, сжимая большими пальцами ее горло, не в силах отпустить ее; вся его воля растворилась в усилии не нажать сильнее. Возможно, это продолжалось всего несколько секунд. Он отпустил ее и пошел дальше. Его сновидения стали еще более страшными. Он знал теперь, почему боялся объятий Дельфион.
Внезапно вся его ненависть обратилась против Барака. Он почувствовал, что Барак — это и есть преграда на его пути. Злые голоса нашептывали ему, что испытание его смирения заключается в его подчинении животному импульсу убийства, который правит человеческим обществом. Он видел, что это общество не что иное, как организация для убийства, и, чтобы избежать хаоса, оно ловко отводило и направляло страсть к убийству в определенные, общепризнанные каналы. Таким образом люди были в состоянии спасаться от правды о своем мире. Они убивали, они покоряли нежные тела женщин, чтобы совершать над ними насилие, они проливали кровь невинных, зверей и птиц, которыми они пресыщали свои грешные тела, и сжигали мозг безумием. Принесение в жертву животного стало главным отображением человеческой жизни, ибо только в этом заключалась истина.
Таким образом для заурядных людей смогла восторжествовать ложь. Исполненные злой воли к удовлетворению алчности и отстаиванию своих притязаний, они могли убивать, насиловать и жить в роскоши, насыщаясь кровью зарезанных ими невинных. Но для Герсаккона завеса была сорвана. Он не мог создать взаимосвязь, как это делали другие, однако острая тоска по миру, томившая его день и ночь, как будто требовала, чтобы он воссоздал распадающуюся связь или умер. Но как он мог воссоздать ее теперь, когда завеса спала? Единственно только, шептали ему голоса, убийством. Тогда он будет как все другие люди и в душе его будет мир.
8
Он стоял спиной к ней; он не знал, какой дорогой она придет. Ей нравилась широкая мощь его спины. Он не замечал, что она тут, пока она не толкнула его тихонько. Он обернулся и сошел со ступеней храма, где ожидал ее, глядя поверх голов прохожих. Она дала монету мальчику, несшему ее сумку, и Диний — это было его имя — легко поднял сумку, и его восторженная улыбка превратила суровое спокойствие его лица в пылкую нежность. Они направились к ближайшим городским воротам, наняли там коляску и поехали к Южному озеру. Они почти не разговаривали. Слова были излишни, и это тоже делало ее счастливой. Так мало нужно слов, чтобы понять друг друга; и его сдержанное «ты мне нравишься» трогало сердце сильнее, чем самое горячее признание.
У причала было много лодок, сдававшихся напрокат, и Диний сам захотел грести. Дельфион стояла на берегу, наслаждаясь ветром, солнечным светом, шорохом воды в камышах. Поодаль виднелись роскошные загородные виллы Тэнии с прекрасными садами, спускающимися к берегу озера, голубятни, статуи, домики лодочников и пристани вдоль всего берега. Перед нею расстилалась бескрайняя гладь озера, усеянная увеселительными судами и рыбачьими лодками. Она почувствовала вдруг отвращение к затворнической жизни, какую до сих пор вела; теперь она хотела, чтобы ее жизнь ничто не стесняло, она жаждала безграничных просторов света и воды.
— Пойдем! — позвал ее Диний. Он получил лодку, оставил залог и навел справки о сдаваемых внаем летних домиках. Бросив сумку в лодку, он обнял Дельфион за талию, осторожно приподняв, перенес ее в лодку, к восхищению лодочников, и сел на весла. Лодочники проводили их веселыми прощальными криками.
Она сидела на носу, держа руку в воде, а Диний умело работал веслами. Приятно было смотреть, как с ритмичной легкостью раскачивалось его тело — назад, а затем снова вперед, к ней. Да, он всего только несколько раз поцеловал ее, а ей казалось, словно она принадлежит ему давным-давно. Он называл ей различных водяных птиц, выпархивавших из тростников, и каждое название казалось новым знаком земли, новым выражением ее восхищения богатством вселенной. Все это было и раньше, но раньше она жила как в тюрьме и ее интересы были другие. Она едва могла вспомнить, что прежде являлось движущей силой ее жизни. Но что бы это ни было, теперь только настоящее имеет для нее значение. Она зачерпнула рукой воды, словно желая завладеть всеми столь изменчиво-яркими ее оттенками, ее переливами и журчанием. И не было грусти утраты, когда вода убегала между ее пальцами. Кругом было очень тихо; здесь всегда будет тихо. Единственно важным теперь было сохранить эту свободную связь между своим телом и далекими горизонтами света и воды.
Диний выгреб далеко на середину озера, где они могли бы почувствовать себя совсем наедине — только светлая водная ширь вокруг. Он на минуту перестал грести и потянулся к ней, а она к нему. Лишь губы их соприкасались. Так они сидели, слившись в поцелуе, рот ко рту. Ей показалось, словно это их свадебный обряд; он женится на ней среди ветра, воды и света, вдали от всех, в слегка покачивающейся лодке. Снова на нее снизошел покой оттого, что не надо было ничего говорить и объяснять.
Она откинулась назад, и он снова взялся за весла. Обогнув густые заросли камыша, он повел лодку к берегу. Как говорили лодочники, здесь в деревне жил торговец, сдававший внаем летние домики.
— Ты умеешь плавать? — спросил Диний, привязывая лодку.
Дельфион отрицательно покачала головой.
— Тогда выходи! — Он поднял ее и поставил на мостик. — Жди меня на берегу, дорогая.
Махнув ей рукой, он быстро зашагал по дороге, а Дельфион пошла вдоль берега. С правой стороны виднелись три домика. Она надеялась, что один из них, с башенкой, не сдан; он как будто пустовал. Она разглядела в саду кусты роз. Какая-то водяная птица, безусловно не из тех, которые называл ей Диний, выплыла из-за камышей, глянула на нее и взлетела в воздух. Дельфион нарвала полевых цветов. Вскоре появился Диний.
— Я нашел этого плута! — воскликнул он. — Сейчас он придет.
Диний обнял ее; они сидели на мостике причала и болтали ногами, ожидая хозяина. Наконец тот появился, громыхая связкой огромных ключей. К радости Дельфион, домик с башенкой был свободен, и Диний, поторговавшись, снял его. В домике было две комнаты — одна внизу, другая наверху — и башенка, почти пришедшая в ветхость. Получив деньги, хозяин стал рассказывать длинную и мрачную историю о прежнем жильце, который как-то раз устроил в доме пирушку, полез на башенку, чтобы полюбоваться полночным видом, и сломал себе шею. Комнаты были скудно обставлены и хранили следы частых попоек. На заднем дворе был маленький очаг.
Когда от хозяина удалось отделаться, Дельфион спросила с беспокойством:
— А что же мы будем есть?
— Я купил еду и вино в деревне, — ответил Диний. — Женщина скоро принесет все. — Они помолчали, а потом он взял ее за подбородок и сказал: — Я думаю, мы достаточно долго ждали, а?
В ответ она лишь положила руку ему на плечо и, нагнувшись, принялась развязывать ремешки сандалий.
— Я хочу обмыть ноги в озере, — улыбнулась она.
Но он не мог больше ждать.
9
Барак получил бы огромное удовольствие от путешествия, если бы поехал на полгода раньше. В то время он испытал большое разочарование, оттого что поездка в Гадир была отложена на неопределенный срок; ему всегда хотелось увидеть греческие города в Сицилии, и прежде всего Сиракузы. Даже в нынешнем состоянии его духа бывали минуты, когда он в разъездах, беседах и делах забывал обо всем. Он не упускал случая изучать искусство кораблевождения, разговаривал с моряками и знал теперь о канатах, парусах, якорях, пробоинах в судах и о морских чудовищах столько же, сколько знали они. Он узнал многое о предсказании погоды, об опасностях, таящихся в море, если, например, свистеть или бросить за борт свои отрезанные волосы. Он даже научился вести судно по Полярной звезде и обсуждал рыночные цены со своими спутниками — купцами. Он играл в бабки и в кости и часто стал выигрывать, после того как вывел на чистую воду хитрого торговца бронзовыми изделиями из Тарента. Но ничто не могло спасти его от периодических приступов отчаянной ревности, когда он представлял себе Дельфион изменяющей ему с молодыми патрициями, у которых не было цербера в образе старого отца. «Беда с женщинами та, — поведал ему как-то ловкач из Тарента, рассказывая одну из своих бесчисленных историй о том, как женщины умирали от любви к нему, — что если они верны, то не могут как следует воспламенить мужчину, а от тех, кто это может, разумеется, нельзя ожидать верности, лишь только повернешься к ним спиной». Это ужасно, но это так, — подумал Барак и с трудом подавил готовый вырваться у него стон. «Другая беда заключается в том, — продолжал всезнайка из Тарента, — что мужчина всячески старается сделать из своей возлюбленной виртуоза любви, и чем больше он в этом преуспевает, тем более может быть уверен в ее измене». Барак не мог его больше слушать. Он ушел на нос корабля и, чтобы забыться, стал себя гипнотизировать, кивая головой в такт качающейся вверх и вниз палубе. Забывшись, он запутался в каких-то снастях и едва не свалился за борт.
В Сиракузах было то же самое. Мгновение приятного возбуждения, свободы от мучительных страхов и их неизменное возвращение.
Сиракузы имели две гавани, как и Кар-Хадашт. Город был расположен на полуострове и застроен прочными каменными домами. Барак стремился изучить способы кирпичной кладки, применявшиеся в Сиракузах, и выяснить, более ли они совершенны, чем те, которые практиковались на его родине. Но все, что осталось в его памяти об этой исследовательской экспедиции в Сиракузах, были плавающая в водоеме Аретузы рыба и отражение в воде желтоволосой девушки, напомнившей ему Дельфион и заставившей сильнее забиться его сердце. Все же Сиракузы произвели на него сильное впечатление. Городу была присуща какая-то устойчивость; казалось, он возник на основе более слаженной общественной жизни, чем Кар-Хадашт. Тем не менее, — думал Барак, — наследие Сиракуз не имеет особенно большой ценности, а в Кар-Хадаште остались источники молодости, которые могут дать поразительные плоды.
Барак восхищался дверьми храма Афины из золота и слоновой кости, внутри храма он с удовольствием созерцал стенную живопись, хотя некоторые батальные картины вызвали у него раздражение. Он бродил по городу, глазея на храмы и укрепления, поднимался на холмы, чтобы любоваться панорамой, и не переставая считал по пальцам дни, остающиеся до отплытия домой. Данное ему поручение было несложно. Он должен был разыскать виллу важного римского купца и, удостоверившись, что разговаривает с самим купцом, передать пакет, который Озмилк повесил ему на шею и запечатал собственной рукой. Римлянин принял Барака очень любезно, но он дурно говорил по-гречески, и беседа не клеилась. Однако он казался весьма расположенным к Озмилку и «добрым гражданам» Кар-Хадашта, то есть к противникам Ганнибала, и, подчеркивая каждое слово, просил Барака передать отцу, чтобы тот не унывал. Барак предполагал, что в пакете был крупный вексель, а также несколько драгоценных камней. Относительно камней он не сомневался, так как тщательно прощупал пакет. Однако осторожный римлянин так и не открыл его в присутствии гостя.
Барак был приглашен на обед, и за трапезой все много говорили, много пили и уединялись с уступчивыми флейтистками. Но они большей частью говорили по-латыни, и поэтому Барак чувствовал себя стесненно. Ему казалось, что если он позволит себе что-нибудь с одной из флейтисток, Дельфион сразу же об этом узнает и он потеряет последнюю надежду.
Наконец наступил день отплытия. С гнетущим чувством пустоты и безразличия Барак смотрел, как на северо-западе исчезают из виду очертания города. Вначале сознание того, что корабль с каждым часом сокращает расстояние между ним и Дельфион, давало ему какое-то утешение. А через некоторое время мысль, что он все приближается к ней, делала разлуку еще более невыносимой, и ему казалось, что судно движется нестерпимо медленно. Налетел шквал, и Барак решил, что настал его последний час. Он принес клятвы Танит и написал эти клятвы на клочке бумаги, чтобы быть уверенным, что богиня их услышит. После этого, вконец измученный морской болезнью, он уже не обращал внимания на происходящее вокруг и о последних днях путешествия не помнил ничего, кроме того, что его тошнило и он испытывал страшную слабость.
Ему стало лучше, когда на горизонте появилась земля, и он был готов поверить в любое доброе предзнаменование. Он еще раз взглянул на бумажку с написанными на ней клятвами, чтобы богиня знала: он о них не забыл. У него появилась надежда, что с Дельфион все будет хорошо, и он даже стал сожалеть, что так плохо использовал возможности веселого времяпрепровождения в Сиракузах. У него было там несколько приглашений, от которых он отказался, и он почти ничего не узнал о применяемых в этом городе методах производства. Теперь Барак старался наверстать потерянное время: он обсуждал проблемы мировой торговли зерном с купцом из Византии, направлявшимся в Лизос, на Атлантическом побережье; а также с одним фракийцем, видимо чрезвычайно интересовавшимся золотом. Фракиец был весьма сдержан на язык, невзирая на все попытки Барака вызвать его на откровенный разговор.
Когда корабль приблизился в портовым укреплениям Кар-Хадашта, у Барака поднялось настроение. Он стал строить планы, как бы сразу же, не заезжая домой, отправиться к Дельфион. Только заглянуть к Дельфион на несколько минут — это принесет ему успокоение, и не беда, если и придется вести себя благоразумно и отложить любовное свидание на завтра. Ему даже взбрела в голову сумасшедшая идея, что Дельфион узнала о прибытии корабля и будет встречать его на пристани.
Сердце у него упало, когда он увидел на пристани не Дельфион, а Магарсана, домоправителя, ожидающего прибытия корабля.
— Последние три дня я приходил сюда каждое утро, — пояснил Магарсан. — Господин твой отец с нетерпением ждет тебя.
Барак что-то пробормотал о том, что ему сначала необходимо повидать старого друга, всего лишь на несколько минут, но Магарсан не стал его слушать.
— Господин твой отец желает видеть тебя немедленно!
Барак не успел больше ничего придумать; его втолкнули в коляску, и она загромыхала по дороге к дому.
Отец оказал ему необычайную, но не оцененную сыном честь, выйдя навстречу к самому порогу, чтобы приветствовать его. Он схватил сына за руку и ввел его в дом.
— Сначала о письме, Ты вручил его? Что тебе велели передать мне?
Барак, запинаясь, передал ему слова римлянина, и Озмилк некоторое время что-то соображал, выискивая в них какой-то скрытый предательский смысл. Он велел Бараку повторить слова римлянина и в конце концов решил, что все в порядке.
— Ты хорошо себя показал, мой сын, — сказал он не без гордости.
Бараку приятна была похвала отца, и он осмелился промолвить:
— Во время плавания мы попали в шторм. Позволь мне сходить в бани и отдохнуть.
— Завтра! — твердо сказал Озмилк. Он передал Барака Магарсану, который препроводил его наверх, в спальню, где уже были разложены его праздничные одежды. Молодой раб помог ему переодеться; вскоре снова появился Магарсан и повел его вниз. Барак чувствовал себя словно пленник. Однако ни слова не было сказано о Дельфион или о долгах, сделанных им в лавках ювелиров и золотых дел мастеров. Озмилк и его жена ждали в приемном зале, облаченные в богато вышитые одежды, на голове у Озмилка был конический головной убор, который он надевал только по праздникам. Барак стал позади родителей, а Магарсан позади него, и так, в сопровождении десятка рабов, они вышли из дому. Барак был слишком подавлен, чтобы о чем-либо спрашивать даже у Магарсана. Он сел во вторую коляску с Магарсаном и мрачно стал смотреть в окно. Какое бы это могло быть празднество? Его терзал страх, как бы Дельфион не узнала о его прибытии и не подумала, что если он к ней сразу не явился, значит, он ее забыл. Барак представил в своем воображении печальную картину: до сегодняшнего дня Дельфион не подпускала к себе какого-то настойчивого поклонника, но теперь, узнав, что Барак приехал домой и не повидал ее, она со злости отдается другому.
Коляски катили по одной из главных дорог Магары, среди великолепных садов, разделенных вечнозелеными изгородями или каменными стенами и орошаемых каналами. Вдруг коляски остановились.
— Где мы? — спросил Барак.
— У дома Бостара, — ответил Магарсан.
Выйдя из коляски, Барак увидел Бостара, его жену и дочь, которые вышли встретить семью Озмилка. Бостар был одним из богачей Кар-Хадашта. У него были капиталовложения в испанские серебряные рудники и торговый флот, хотя сам он теперь в значительной степени отошел от дел. К удивлению Барака, жена и дочь Бостара, очень толстая девочка лет одиннадцати, сели в его коляску, и к ним присоединилась также его мать. Магарсан пересел в первую коляску.
Тут только Барак заметил, что в первой коляске находится маленькая девочка лет трех; но была ли она там все время или ее только теперь туда посадили, он понятия не имел. Он учтиво вызвался уступить свое место женщинам, но ему ведено было остаться, а дочку Бостара, которую звали Элишат, посадили рядом с ним. Она застенчиво ему улыбнулась.
Коляски снова двинулись в путь. Барак был так изумлен поведением Элишат, что не мог даже думать о Дельфион. Девочка прижималась к нему, хотя ее мать сидела напротив, а когда он отодвинулся, насколько мог, в угол коляски, Элишат снова к нему прильнула.
— Ты любишь фаршированных сонь? — спросила она.
Звук собственного голоса так смутил ее, что она захихикала, а ее мать, вместо того чтобы сделать замечание этой дурочке, добродушно улыбнулась. Но Барак до того отупел от мысли о своей несчастной любви, что никак не мог принять причину такого странного поведения Элишат. Мать Барака нагнулась к нему, подмигивая и кусая губы:
— Мы так рады, что ты снова с нами!
Без всякой нужды она поправила складки его одежды.
Коляски мчались теперь по большой дороге к холмам. Барак догадался, что они направляются к расположенному в ложбине храму Ваала. Пыль поднималась столбом, в закрытой коляске было нечем дышать. Элишат была сильно надушена и напомажена, вокруг нее непрестанно жужжали мухи. Барак увидел, как губы его матери снова зашевелились, словно она собиралась что-то сказать; он молился, чтобы коляска скорее остановилась. Ему хотелось отделаться от этих женщин. Трудно было поверить, что эти три существа, сидевшие в коляске, были одного пола с Дельфион.
Наконец коляски остановились. Барак поспешно вылез и помог женщинам выйти. Только сейчас он догадался, что празднество посвящено осенним жертвоприношениям Ваалу. Он слышал, что в прошлом в Кар-Хадаште, как и в Финикии среди ханаанеев, довольно часты были человеческие, жертвоприношения Ваалу. Но уже давным-давно государство приняло меры к ограничению таких жертвоприношений до двух в год, хотя во времена больших бедствий — поражения в войне, засухи или чумы — жрецы требовали принесения в жертву большого числа первенцев. Но все это было в прошлом, задолго до того, как родился Барак. Даже на эти два ежегодных жертвоприношения теперь смотрели как на пережиток варварства, и многие предлагали вместо людей приносить в жертву баранов или телят. Барак даже предполагал, что в последнее время людей всегда заменяли животными, — после Замы он ни разу не присутствовал при этом обряде.
— Как чудесно! — сказала Элишат Бараку, когда все общество двинулось к двери храма. Магарсан взял на себя заботу о болезненной на вид маленькой девочке, находившейся в первой коляске. Он вел ее за руку впереди всех и говорил о чем-то с двумя жрецами. Жрецы низко поклонились Ормилку, который остановился побеседовать с ними; остальные проследовали вперед.
Храм Ваала представлял собой довольно внушительное прямоугольное строение из камня с размытым дождями фронтоном и головами чудовищ на желобах. Внутри храма стоял смешанный запах бойни и литейной мастерской. Здесь не делали обычных воскурений фимиама и ладана, чтобы забить запах крови. В глубине виднелась бронзовая статуя бога, сидящего на троне, — грубо отлитая фигура, во мраке храма выглядевшая особенно зловещей. Вздрагивающий, мерцающий свет поднимался кверху из лона бога, придавая его лицу мрачное, демоническое выражение.
Храм был уже почти полон, но для Озмилка и сопровождающих его, по-видимому, были оставлены места. Барабанная дробь, сначала медленная и глухая, стала частой и громкой, и зазвенели кимвалы. За завесой в глубине храма женщина запела странно резким голосом в такт с барабанной дробью. Когда она монотонно тянула бесконечно повторяемую фразу, слегка подымая и понижая голос на полутонах, а затем резко переходя на высокие ноты, казалось, будто сердце перестает биться. Вступили другие голоса и большие кимвалы, звенящие, как молот о наковальню, но не звучали ни флейты, ни рожки. Огонь бросал тусклый отблеск на лицо Ваала. Будто кровь стекала у него но лицу, выливаясь из темной впадины широкого рта.
Пение перешло в вой и вопли, резало ухо, сталкиваясь в дисгармонии с шумом ударных инструментов. На дверь опустилась черная занавесь, закрыв дневной свет. Теперь свет лился только из лона Ваала. Из его чресел вырывались языки пламени. Вдруг среди лязга ударных инструментов и завываний певцов к Ваалу приблизился жрец с младенцем на руках. Рядом шла мать. Жрец положил младенца в бронзовые руки бога, а мать успокаивала ребенка: богу не понравится, если он будет плакать. Затем жрец отступил назад, за алтарем включили механизм, бронзовые руки подняли младенца, и он скатился в утробу бога. Под грохот и вопли, которым пронзительно вторили флейты, из чресел бога вырвалось пламя и дитя возвратилось к Отцу.
Звон и стенания было затихли, но затем поднялись вновь, завихрились. Теперь жрец нес на руках девочку лет трех. Барак сначала не узнал ее — она была без одежды, но потом он увидел, что Озмилк сопровождает жреца. Пока совершалось первое жертвоприношение, у девочки были завязаны глаза, но она знала, что произойдет что-то страшное. Ее быстро подняли и положили в бронзовые руки, Озмилк прикоснулся к ней, и через несколько секунд она исчезла в огненном лоне.
— Кто эта девочка? — спросил Барак Магарсана, как только шум начал стихать.
— Она была удочерена господином Озмилком месяц назад, с гордостью сообщил Магарсан. — Он купил ее у бедных родителей, чтобы удочерить и получить награду от бога, принеся ему в жертву члена своей семьи.
Мгновение Барак ничего не чувствовал; он отупел от всего пережитого. Все это показалось ему отвратительным — нелепое зрелище, рассчитанное на низменные инстинкты толпы. Он все еще был слаб после морской болезни и хотел выбраться на свежий воздух. Он чувствовал, что задыхается под гнетом отцовской воли, как в удушливом воздухе храма, и возмущался всем на свете. Люди правы, когда говорят, что это безобразие пора прекратить. Это правящие семьи, закосневшие в консерватизме, сохраняли ужасный обряд; это они приносили в жертву детей из собственной семьи — добровольно или по жребию. Чувство покорности, во власти которого Барак находился с той минуты, как Магарсан взял его под свою опеку, сменилось гневом и возмущением. А что это за чепуха с Элишат? Почему они навязывают ее ему? Теперь он понял: это заговор, чтобы его женить.
Девочка придвинулась к нему и шепнула:
— Как было красиво, правда? — Она хихикала и
похлопывала пальцами по одной из маленьких золотых спиралей, которыми были заколоты ее волосы.
Барак промолчал. Если он ответит, то не удержится и выскажет все, что у него на душе, и навлечет на себя непоправимое несчастье. Сознание этого вызывало в нем ярость и ощущение физической слабости. Так эту Элишат хотят выдать за него замуж? Он разглядывал ее с омерзением. Ее маленькая рыхлая фигура станет еще рыхлее. Он представил себе ее короткие толстые ноги, ее бесформенное туловище… Что ж, может быть, все это не так страшно, если женитьба увеличит его состояние и даст ему больше свободы, чтобы встречаться с Дельфион. Ведь жену можно игнорировать, поселить в отдаленной части дома и забыть о ее существовании.
С двери подняли занавесь. Когда народ стал выходить, Барак увидел невдалеке от себя Герсаккона, который пристально глядел на него. Барак был потрясен, он задрожал от страха, не понимая его причины, — возможно, то была всего лишь случайная игра света, однако глаза Герсаккона показались ему такими странными! И тут же он потерял Герсаккона из виду.
Барак видел, как пыжится его отец от важности и самодовольства, и в нем росло отвращение к нему. Озмилк, по-видимому, убедился, что все идет хорошо; принесение девочки в жертву Молоху
[74], Царю, было последним испытанием и вселило в него уверенность в том, что в мире действуют непреложные законы и боги, как всегда, на стороне имущих людей, добрых людей. Теперь он, Озмилк, находился в особых отношениях с высшими силами, покровительствующими городу, и потому спокойно глядел в будущее.
Вернувшись домой, Озмилк после обеда заговорил с Бараком о брачном договоре. Он уже заранее обсудил главные пункты с Бостаром; приданое за Элишат тот даст богатое. Девочка была двоюродной сестрой Барака, и это делало союз еще более благоприятным (браки между братьями и сестрами когда-то были обычным явлением как среди финикиян, так и среди египтян; но в последнее время если они и не были запрещены, то совершались лишь в редких случаях, когда отвечали имущественным интересам). Часть земель, отдаваемых за Элишат, прилегала к главным владениям Озмилка, и он уже строил планы переустройства своих имений на более рациональных началах.
— Обширные зерновые хозяйства, обрабатываемые рабами, восполнят то, что мы потеряли, лишившись Сардинии… — сказал он.
Барак слушал и угрюмо соглашался. Он не намерен был восставать против женитьбы или чего бы то ни было, пока мог рассчитывать на возможность продолжать свои отношения с Дельфион.
Он уже начал думать, что Озмилк так ничего и не знает о Дельфион или же решил закрыть на это глаза, но вдруг грянул гром.
— Твоя женитьба будет означать, что теперь ты будешь почти сам себе хозяин, — произнес Озмилк медленно. — Я намерен передать в твои руки больше капиталов и возложить на тебя большую ответственность… Но прежде чем это сделать, я хочу получить уверенность, что ты вполне возмужал и покончил с мальчишескими безрассудствами и мотовством. Во многих отношениях я тобою доволен. Я лучше знаю твои способности, чем ты думаешь… — Он остановился и вперил в Барака тяжелый, холодный взгляд, опустив одно веко ниже другого. — Но есть нечто, чем я недоволен. Однако я оставлю это без последствий, если буду уверен, что отныне с этим покончено навсегда. Верю, что во время поездки в Сицилию ты имел достаточно времени обдумать свое поведение… освободиться из ловушки, в которую тебя заманила коварная женщина.
Барак остолбенел. Он смотрел прямо в глаза отцу. Его первым побуждением было принять спокойно-невинный вид, но это ему не удалось, и он только упорно таращил глаза; его челюсть отвисла.
— Нет… Нет, — пробормотал он наконец, запинаясь. — То есть… я… — Его ум оцепенел от испуга.
— Не станем ворошить прошлое, — сказал Озмилк, полный сознания своего великодушия. — Обратимся к настоящему и будущему. Я буду считать, что ты понял необходимость не иметь больше ничего общего с этой чужеземкой. До меня дошли твои многочисленные счета. Я наводил справки в твое отсутствие. Может быть, оно и к лучшему, что тебя здесь не было, ибо я был изумлен, увидев, как сильно эта тварь запутала тебя в свои сети и как жадно она поглощала твое состояние — вернее, мое.
Несправедливость обвинений, возводимых на Дельфион, так взволновала Барака, что он запротестовал:
— Ты ошибаешься, достопочтенный отец! Если я заблуждался, то вина лежит только на мне. Она никогда ни о чем меня не просила.
— Но брала то, что ты ей давал? — съязвил Озмилк.
— Ты несправедлив к ней! — вскричал Барак, не находя слов, чтобы выразить свою убежденность в порядочности Дельфион. — Она не такая, как ты думаешь…
— Ты хочешь сказать, мой сын, — саркастически усмехнулся Озмилк, — что она не просто чужестранная шлюха, приехавшая сюда, чтобы жить за счет глупцов и развратников Кар-Хадашта?
Барак не знал, что ответить. Отец продолжал говорить, и он слушал; но, осмелившись возразить отцу, он почувствовал себя увереннее. Нет, он не намерен полностью сдаваться. Он готов подчиниться отцовской власти, но есть вещи, которых он не потерпит. Он дождался, когда отец замолчал, и упрямо сказал:
— Я буду тебе послушен во всем, кроме этого, достопочтенный отец. Я женюсь на Элишат. Буду следовать твоему руководству во всем, что касается дел и государства. Не попрошу больше, чем ты сам мне дашь. Но я не могу отказаться от этой женщины. Я не логу жить без нее, — закончил он, и в его голосе зазвучали одновременно мольба и вызов.
Стиснув зубы, Озмилк схватил Барака за руку.
— Ты сделаешь то, что тебе приказано. Слышишь? Или я закую тебя в цепи. Слышишь?
Барак умолк, но не сдался. Он был испуган, но внутреннее его сопротивление лишь окрепло. В нем медленно поднималась ненависть к отцу.
— Достопочтенный господин… — невнятно произнесли его губы. Он чувствовал, как у него подергиваются мускулы лица.
Приняв его замешательство за изъявление стыда и покорности, Озмилк отпустил руку сына и отвернулся.
— Мы еще поговорим об этом завтра утром. Надеюсь, ты будешь в лучшем расположении духа. — И он неторопливым шагом ушел к себе.
Оставшись один, Барак начал ходить взад и вперед по комнате. Он был не в силах думать о беседе с отцом и ее возможных последствиях. Сейчас имело значение лишь одно: как выбраться ночью из дому и пойти к Дельфион? Он был целиком погружен в свои мысли и не заметил прихода матери. Когда она притронулась к его руке, неслышно приблизившись по толстому шерстяному ковру, он вздрогнул и сделал инстинктивное движение, как бы готовясь защищаться от удара; его мускулы напряглись. На мгновение возникло чувство радости: он представил себе, будто поверг отца наземь.
— Чего тебе надо? — грубо спросил он.
— Мой дорогой сын, — прошептала она, — единственный плод моего чрева, не отнятый смертью… Зачем ты сердишь этого доброго и великого человека, твоего отца? Разве он не был всегда полон любви и терпимости к тебе? Как сможешь ты держать ответ перед богами с таким ужасным грехом на душе, как сыновняя непочтительность? Я буду молиться Танит о ниспослании тебе прощения и об очищении твоего сердца. Какое безумие нашло на тебя?
Невозможность объяснить ей все усилила его раздражение.
— Не трогай меня, мама, — сказал он, оттолкнув ее руку. — Ты не поймешь. Я люблю ее.
— Это моя вина, — продолжала она уговаривать его. — Мне следовало попросить моего достопочтенного супруга купить тебе несколько наложниц, когда я увидела, что ты достиг зрелости. Нельзя было ожидать, что он сам об этом позаботится, будучи столь обремененным делами. Разве Э-лишат тебе не нравится? Помни, она принесет тебе приданое, на которое направлены все помыслы твоего отца. А если она не в твоем вкусе, ты сможешь купить себе сколько угодно наложниц… Оставь только эту обольстительницу, которая думает лишь о том, как бы вытянуть из тебя золото.
— Ты несправедлива к ней! — вскричал Барак.
Когда приводились другие доводы, он чувствовал, что слабеет, но несправедливость по отношению к Дельфион была невыносима, она задевала его за живое. Он считал, что если не опровергнет наговоры, то будет проклят богом и осужден людьми. И как ни странно, если, встречаясь с Дельфион, он полагал необходимым произвести на нее впечатление своими подарками, то теперь знал, что эти дары не имели никакого отношения к его любви. В его чувстве к Дельфион было нечто такое, что полностью отрицало мир этих людей — его родителей и им подобных, — которые видели в Дельфион лишь распутницу, обирающую молодого глупца.
— Я не могу быть несправедливой к ней, — проговорила его мать, впервые выказывая чувство собственного достоинства. — Даже если бы я плюнула ей в лицо или вырвала у нее глаза, то и тогда я, жена раб Озмилка, не была бы несправедливой к такой женщине.
Барак отпрянул от нее. Страшная злоба к родителям вспыхнула в нем.
— Оставь меня! — вскричал он, не помня себя от гнева.
Мать бросила на него умоляющий взгляд и вышла. Барак снова принялся шагать по комнате, а затем поднялся в свою спальню и отослал слугу. Но он не разделся. Он подождал еще с час, неслышно спустился вниз и осторожно пошел через приемный зал, в котором горел один только мраморный светильник. Когда он приблизился к входной двери, перед ним выросла фигура привратника с кошкой на плече. Барак почувствовал запах дыни, которую тот ел.
— Я выйду на несколько минут, — сказал Барак. — Отопри дверь. Потихоньку, чтобы никого не разбудить.
— Прости меня, молодой господин, — сказал привратник, выплюнув кусочек дынной корки; кошка на его плече зевнула и спрыгнула на пол, царапнув когтями его тунику. — Я получил распоряжение никого не выпускать.
Барак достал золотую монету.
— Всего только на несколько минут. Мне нездоровится, и я хочу пройтись по воздуху.
Раб с жадностью поглядел на монету.
— Не могу, молодой господин, — прошептал он. — Мне строго приказано. Они распнут меня…
— Никто не узнает. Я сейчас вернусь.
Раб смотрел, как Барак шарит в кармане, ища новые монеты. Он умоляюще протянул руки.
— Не предлагай мне денег, молодой господин, я не смею их брать. Меня бросят на съедение воронам, если я выпущу тебя. — Он повысил голос. — Уходи и не искушай меня, или я закричу! Да, я закричу!
Барак отступил. Он поднялся к себе и попробовал заставить себя заснуть. Но как только его нервное напряжение несколько ослабло, начал мучить ревнивый страх, гнетущее сознание трусости и утраты. Он снова сошел вниз, решив толкнуться в боковые выходы. На одних дверях висел замок — нечего было и пытаться открыть их. Он пошел к задним дверям, которые оказались запертыми только на засовы. Но не успел Барак отодвинуть первый из трех засовов, как откуда-то прибежал раб.
— Нет, нет, молодой господин! Тебе нельзя выходить!
— Замолчи и отправляйся спать, — зашипел на него Барак, отодвигая второй засов.
Раб схватил его за руку, и Барак попытался отбросить его в сторону. Всхлипывая и издавая сдавленные возгласы, раб исступленно боролся с Бараком. На тесной площадке Барак не мог справиться со своим противником. Испуганный раб повис на нем сзади и обхватил рукой его шею. Раздался быстрый топот ног. Появилось еще несколько рабов.
— Пусти меня, — прохрипел Барак. Рука раба больно сжимала ему горло. Через минуту еще три раба прибежали по коридору, один из них с фонарем.
— Он не должен выходить, — всхлипывал первый раб. — Особое распоряжение…
Им не хотелось быть грубыми с молодым господином. Они сбились в кучку и глядели на Барака, предоставляя первому рабу справиться с ним.
— Пусти! — с трудом выговорил Барак. — Ты меня задушишь.
Сзади раздался спокойный голос Магарсана.
— Попроси молодого господина не отказать в любезности подняться в комнату отца — он желает говорить с ним.
Раб, державший Барака, отпустил его, а сам упал на пол, издавая стоны и моля о прощении за то, что осмелился совершить насилие над господином. Барак, как в тумане, переступил через него и протиснулся мимо остальных рабов. Ему было больно дышать. Магарсан со смиренной настойчивостью взял его за руку и повел к главной лестнице. Постучавшись в дверь спальни и услышав хриплый приказ войти, Барак встал возле отцовской постели и взглянул в красное, взбешенное лицо, которое его больше не страшило.
— Что все это значит? — заорал Озмилк. — Ты пытаешься подкупить привратника и хочешь улизнуть через задний вход, как трусливый вор? Так-то ты платишь мне за доброту? Какой отец стал бы терпеть такое поведение сына? А я даже не упрекнул тебя. Напротив, хотел выгодно женить тебя и собирался передать в твои руки важные дела. Я думал, мне удалось пробудить все лучшее, что есть в твоей душе. Но нет. Единственная твоя благодарность — попытка обмануть меня… Ты слышишь? Я этого не потерплю!
— Да, слышу, — ответил Барак отнюдь не кротко.
— Что ты можешь сказать в свое оправдание?
Барак помолчал, затем сказал упрямо:
— Я хочу выйти из дому.
Озмилка до того потрясло столь наглое неповиновение, что он лишился дара речи. Когда он снова заговорил, его голос звучал глухо:
— Выйти из дому, да? Пойти к той шлюхе, да? Да кто ты такой, чтобы бунтовать против меня? — Он свирепо засмеялся. — Я тебя в бараний рог согну. Послушай! — Он сел в постели. Лампада бросала мерцающий свет на его поросшую седеющими волосами грудь; этот свет вспыхивал злобной усмешкой на причудливой глянцевитой маске, висевшей над изголовьем кровати. — Если бы ты повиновался мне, я оставил бы все как было. Но теперь я покажу тебе всю полноту моей власти. Я взыщу все до последнего шекеля, до последней капли крови. Ты слышишь?
— Да, я слышу, — сказал Барак невнятно. Озмилк решил, что он наконец испугался.
— Послушай. Я уничтожу эту твою девку. Ее дом будет сожжен дотла. Она будет публично опозорена. В темную ночь ее лицо будет изуродовано. Слышишь?
Барак прислушивался к отзвукам этого голоса, полного торжествующей ярости, и они замирали в его душе. Казалось, он впервые увидел подлинное лицо мира.
— Нет, ты этого не сделаешь, — сказал он тихо. — Конечно, не сделаешь. Ты ее не знаешь…
Озмилк презрительно рассмеялся.
— Я могу это сделать и сделаю. Думаешь, теперь новое правосудие вершится в Кар-Хадаште, с тех пор как этот демагог Ганнибал взял верх? Нет, даже в государстве Ганнибала есть возможности для богатого человека справиться с потаскухой. Скажу тебе больше. Дни Ганнибала сочтены. — Он поднял руку с растопыренными пальцами. — Я могу по пальцам сосчитать оставшиеся у него дни. Только благодаря этой демагогии и греховному разрыву старинных уз стало возможно то, что дети смеют быть непочтительными и нечестивыми, как посмел ты. Я сокрушу Ганнибала, и в день его крушения у этой твоей твари будут вырваны глаза. Ты слышишь?
Барак приблизился к кровати, склонив голову.
— Отец, — произнес он. Затем медленно поднял голову и посмотрел отцу прямо в глаза. Он вытянул руку с мольбой. Он молил о том, чтобы мир вокруг него не разлетелся вдребезги, чтобы он не видел, как все, что он считал достойным почитания, выставляется в качестве прикрытия алчности, ненависти и кровожадности. Но Озмилк подумал, что сын пошел на попятный. Он разразился грубым довольным смехом, от которого тряслись его живот и голова. Барак подошел совсем близко. И вдруг лицо отца стало для него невыносимо. В нем поднялся страстный протест. Вытянув руку, будто умоляя подтвердить, что в мире существуют порядочность и доброта, он вдруг ударил отца по лицу.
Мгновение он стоял пораженный ужасом. Им овладело усвоенное с детства благоговение перед отцовской властью. Казалось, на него слепо давит гигантская рука, повергая ниц, требуя, чтобы он ползал по полу, моля о прощении. И все же он был рад. Он знал, что этот удар рассек его жизнь надвое, и был рад.
Озмилк пришел в себя от потрясения. Он закричал, зовя Магарсана, и тот сразу появился в дверях.
— Созови рабов! — взревел Озмилк, обратив полные бешенства глаза на Барака. — Да будет проклята рука, поднявшаяся на отца! Ты отрекся от своего наследства. Ты отверг мое благословение. Я отлучаю тебя от моего рода и имущества. Я призываю священных предков преследовать тебя смертью и разорением, голодом и чумой. Пусть будет проклята рука, ударившая отца!
Барак содрогнулся от этих слов, но не потерял мужества. Ему хотелось сказать, что у отца тоже есть обязанности, что отец первый порвал родственные узы и потому возражавший ему сын уже не был виноват и его не постигнут месть и проклятье. Но он не мог говорить. Его силы иссякли, и он был способен только на упорное молчание. Ничто не сломит этого упорства. Он не опустил глаз.
— Запереть его наверху, в его комнате! — крикнул Озмилк вошедшим рабам. — Не прячьтесь там друг за друга! Приказываю обращаться с ним как можно грубее. Если он убежит, вы будете распяты, слышите?
Рабы слышали достаточно ясно. Они схватили Барака. Он не сопротивлялся, когда ему завели руки за спину. Он спокойно и упрямо смотрел на Озмилка.
Если приложить ухо к щели в двери, можно было слышать дыхание рабов. Единственное окошко в комнате было слишком мало, чтобы он мог пролезть в него. Подойдя к углублению в стене, Барак снял два плаща и связал их концы вместе. Он встал на столик и перебросил один конец через перекладину под потолком. Затем связал свободные концы. Без особого труда он поднялся по плащам вверх и залез на перекладину. Комната находилась в боковой части дома, и потолок шел здесь наклонно. Барак начал ковырять штукатурку, досадуя, что не захватил с собой для этого какой-нибудь острый предмет. К счастью, внизу стояла кровать, и куски штукатурки неслышно падали на нее. За дверью заговорили рабы, и Барак перестал работать, пока их голоса не удалились. Вскоре в потолке образовалась дыра, он мог просунуть туда руку и нащупать рейки. Теперь он осмелел, содрал несколько больших кусков штукатурки и осторожно сбросил их на кровать. С рейками было труднее. Он боялся, что, когда начнет их ломать, шум привлечет внимание стороживших его рабов.
Но выбора не было. Он уже очистил от штукатурки довольно большую площадь потолка. С другой стороны реек уже можно было прощупать цилиндрические черепицы кровли, которая спускалась к плоской крыше террасы. Он сообразил, что если даже будет срывать рейки и черепицы, не боясь шума, то успеет выбраться, прежде чем его схватят. Подтянув вверх плащи и обернув их вокруг перекладины, чтобы рабы не могли ими воспользоваться, Барак сделал глубокий вдох и стал яростно сдирать рейки. Он услышал голоса рабов и звук открываемой двери и кинул вниз оторванные рейки. Рабы громко орали. Кто-то крикнул: «Я сбегаю за лестницей!» Собрав все силы, Барак выбил две черепицы, и они покатились по крыше. Затем еще две. Протиснув в дыру плечи, он вдохнул благословенную ночную прохладу, словно впитывал в себя завоеванную свободу. Он сунул в дыру руку и вылез наружу. Через минуту, исцарапанный, в изодранной одежде, он катился вниз по крыше. Больно стукнулся пятками о водосточный желоб. Раздался треск, но желоб выдержал, а если бы не выдержал, Барак покатился бы на тонкую кровлю летней террасы. Он быстро перебрался на левую сторону крыши. Рабы уже выбегали на двор, нельзя было терять времени. Обхватив обеими руками конец желоба, Барак повис на нем и прыгнул.
Падение вызвало у него тошноту. Ему показалось, что он проваливается в бесконечную темную пустоту. Вдруг он ударился о землю. Вначале он подумал, что покалечился. Но после того, как прошел первый приступ боли, он понял, что цел, может двигать ногами, и мир перестал качаться. Он повернулся и побежал вверх по дороге.
10
Хармид услышал внизу голоса и прокрался на площадку лестницы, где можно было подслушивать. Клеобула говорила: «Она уехала, ее не будет раньше утра… Разумеется, она не знала, что ты так скоро вернешься, и, конечно, не уехала бы, если бы знала…» Мужской голос взволнованно перебил ее: «Но где она? Ты наверняка знаешь, что она приедет завтра?» Хармид поднял брови и усмехнулся. Добродушные люди, вроде Клеобулы, размышлял он, причиняют бесконечно много вреда тем, что они так милы и неспособны огорчать других; они постоянно пробуждают надежды, которые потом оказываются жестоко обманутыми. А кто же этот мужчина? О, разумеется, этот молокосос Барак, этот тщеславный и самоуверенный щенок, который мнит себя солидным человеком высшего круга, а влюбился, как обезумевший юнец.
Пытаясь унять разволновавшегося Барака, Клеобула, нежно воркуя, провела его в сад. Иного и нельзя было ожидать от этой мягкосердечной дурочки, которой суждено умереть с голоду под забором, после того как она отдаст последний медяк нищему, припрятавшему под каменной плитой очага кругленькую сумму. Люди поразительно неоригинальны в своих способах самоуничтожения.
Хармид подождал, пока не замерли последние отголоски воркования и горьких сетований, и вернулся к своим делам. Прежде всего он удостоверился, что спрятал в рукаве экземпляр «Александры» Ликофрона
[75] и затем внимательно прислушался к звукам, доносящимся снизу, и быстро прокрался в спальню Дельфион. Момент был подходящий по многим причинам, а главным образом потому, что Пардалиски не было дома. Эта проклятая девка любила забавляться в комнате Дельфион, примеряя ее одежды, разглядывая себя в ее лучшее серебряное зеркало — то самое, с ручкой в виде сатира. Пардалиска мешала Хармиду больше всех, а теперь ее не будет дома несколько часов. Маленькая рабыня-негритянка недавно убрала комнату, и сейчас сюда никто не войдет.
Но Хармид не хотел рисковать. У него наготове было объяснение. Он вынул из рукава свиток и закинул его за изголовье кровати. Если его здесь обнаружат, он сумеет разыграть страстного любителя литературы, разыскивающего свиток, одолженный им госпоже: «Ах, вот он, за изголовьем. Я так и предполагал, что она читала в постели и свиток скатился на пол. Между прочим, я всегда нахожу книги, которые считал пропавшими, как раз за изголовьем своей кровати…» Лучше всего быть готовым ко всякой неожиданности.
Что это, чьи-то шаги или просто скрипнула половица? Хармид остановился, и его лицо покрылось мертвенной бледностью. Но звуки не повторились, и на его губах снова заиграла слабая улыбка, а глаза были холодные и тусклые, как дымчатые топазы. Он зашатался под тяжестью поднятого им сундука, но сумел передвинуть его без стука. Найдя табурет, он поставил его на сундук. Из-под хитона он вытащил внушительных размеров мешок. Если кто-нибудь вдруг войдет, он бросит мешок за кровать.
Он взгромоздился на табурет. Да, можно достать рукой до ящика. Осторожно, быстро он стал перекладывать из ящика монеты и драгоценности, всовывая руку внутрь мешка, чтобы не слышен был звон металла. Мешок становился все тяжелее, и вот его уже нельзя было держать на весу. Ему удалось опустить его на табурет, правда, придавив им ноги (но что значит небольшое неудобство в таком деле?). Мешок все больше наполнялся. Он не мог и думать о том, чтобы оставить в ящике хоть одну золотую монету, хоть одно кольцо или серьгу. Женщина с ее уменьем приспосабливаться, еще довольно молодая, в два счета заработает столько же, а такой прекраснодушный ценитель искусства, как он, не может ведь запятнать свою особу, зарабатывая деньги каким бы то ни было способом, даже способом, излюбленным женщинами. Он захихикал, обшаривая рукой дно опустошенного ящика, и нащупал последнюю монету.
Быстро опустив крышку, он сошел вниз, с трудом стащил мешок на пол и поставил табурет на прежнее место. Теперь ничто не могло вызвать подозрений. Если кто-либо из девушек случайно заглянет сюда и увидит сдвинутый сундук, то подумает, что его передвинула рабыня, подметавшая комнату. Хармид слишком устал, чтобы ставить сундук на место. Гораздо важнее было немедленно уйти из комнаты и унести мешок с ценностями.
Он дотащил мешок до середины комнаты, и тут ему пришлось остановиться. Мешок был удивительно тяжел, и хотя этот факт весьма ободрял его душу финансиста, физических сил у него не хватало. Сделав усилие, Хармид поволок мешок к двери. Снизу опять раздались голоса — одна из девушек пришла с улицы, она бежала вверх по лестнице. С огромным трудом, едва не вывихнув руку, Хармид потащил мешок к кровати и быстро накрыл его покрывалом. Но девушка прошла мимо, зовя кого-то снизу. Он услышал шум отворяемой и захлопнувшейся двери, и через минуту девушка снова побежала вниз. Он немного подождал, потом открыл дверь и вытащил мешок из комнаты. С сильно бьющимся сердцем он стал прислушиваться. Только из сада слабо доносились чьи-то голоса. Он затворил дверь комнаты Дельфион и из последних сил поволок свой груз по коридору.
Теперь кто-то пробежал по комнате внизу и поднимался по лестнице. О том, чтобы попытаться отступить назад, в спальню Дельфион, не могло быть и речи. Также немыслимо было быстро дотащить эту неимоверную тяжесть до своей комнаты — он все равно не успел бы. Его ум лихорадочно искал выхода и не находил. Может, спрятать мешок позади себя? Сесть на него? Сказать, что купил маленькую статую, оказавшуюся страшно тяжелой? Все эти выдумки казались глупыми. Пот выступил у него на лице.
На площадке лестницы появился Главкон. Ему было строго-настрого приказано идти гулять и не возвращаться ранее чем через час.
— Я оставил мяч в комнате, — сказал он. — Лик хочет играть в мяч! — Увидев мешок, он забыл о своем проступке, снедаемый любопытством: — А что такое в этом мешке? Подарок для меня?
Чувство облегчения снова сменилось у Хармида испугом.
— Тс-с! — зашипел он, вспомнив, что рядом в комнате лежала Парикомпса — у нее болела голова. Он сжал кулак и в бешенстве замахал им перед носом Главкона.
— Что я сделал дурного? — капризно спросил Главкон. — Что там, в мешке?
Хармид шлепнул Главкона по голове, и тут же пришел в ужас от рева, которым тот разразился. На шум могли сбежаться девушки. И действительно, Парикомпса крикнула приглушенным голосом из своей комнаты.
— Кто там?
Хармид опять сжал кулаки, теперь вне себя от страха и злости.
— Замолчи, — шепнул он. — Я куплю тебе все, что хочешь.
— Все? — вскричал Главков в совершенном благоговении перед щедростью хозяина. — Правда? Все, что я хочу?
Хармид снова поволок мешок по коридору. Но Главкон, видя, что он почти падает от изнеможения, не мог больше сдержать любопытства. Он забыл, что ему велено вести себя тихо. Он радостно смеялся и бежал за Хармидом.
— О-о, какой он тяжелый…
Хармид потерял всякую надежду утихомирить мальчишку. Снизу доносились голоса; Парикомпса в своей комнате сердито жаловалась на шум. Ничего не оставалось делать, как продолжать тащить мешок. Он все тащил и тащил под радостные крики Главкона. Его сердце бешено колотилось и болезненно сжималось, руки, казалось, вышли из суставов, он весь обливался потом. Последним усилием он протиснул мешок в свою комнату — и как раз вовремя: в дверях соседней комнаты с искаженным от боли лицом, в халате появилась Парикомпса.
— Кто это так ужасно шумит? Ухают, бухают, когда я всем говорила, что я больна…
Хармид впопыхах забыл, с каким грохотом он бросил мешок на пол; у него не хватило сил опустить его осторожно.
— Вот этот бессердечный малый тут расшумелся, — сказал он, свирепо схватив Главкона за руку. — Он все прыгал и скакал, хотя я велел ему вести себя тихо, потому что тебе нездоровится, бедная ты моя крошка!
Парикомпса ответила ему слабой улыбкой, почти успокоенная, но Главкон возмутился столь явной несправедливостью своего господина.
— Я шумел? Еще чего! — с негодованием воскликнул он. — Это он. Он… — Но прежде чем мальчик успел произнести еще хоть слово, кара постигла его в самой ощутительной форме — он получил здоровую затрещину, и его швырнули в комнату. Он растянулся на полу и заревел.
— Я наказал его не только потому, что он был нетерпимо груб со мной, но и потому, что он нарушил твой покой, хотя я ему запрещал это. Ну а теперь иди приляг снова, моя прелесть, и завтра увидишь, прав или не прав был твой преданный поклонник, обанкротившийся Хармид, говоря, что твоя мигрень пройдет и что по меньшей мере десяток звезд покинет небесный свод для эмпиреев твоих глаз.
Выдумка была плоха, но с испугу он ничего лучшего не мог изобрести. Да эта глупышка и не способна отличить изящный и оригинальный комплимент от избитой фразы. Действительно, она вскинула на него ресницы и удалилась с милой гримаской. Будь она проклята…
И Хармид затворил за собой дверь с видом человека, у которого самое тяжелое уже позади.
— Негодный мальчишка, — сказал он спокойным, медоточивым голосом, чувствуя, что почти оправился от пережитого страха, — неблагодарный сорванец, что ты можешь сказать в оправдание своих чудовищных проступков?
— Ты сказал, что дашь мне все, что я захочу, — ответил Главкон, садясь на полу и размазывая по щекам грязные слезы. — А потом начинаешь наговаривать на меня. А потом бьешь меня по голове. — Он опять громко заревел в знак протеста против такой несправедливости мира.
— Прекрати этот отвратительный вой, — сказал Хармид. — Или эти идиотки рядом подумают, что я тебя истязаю, тогда как на самом деле ты все время терзаешь меня.
— А ты дашь мне… то, что сказал? — спросил Главкон, забыв про свои слезы. — Ты сказал: все, что я захочу, — напомнил он Хармиду с обличающей обстоятельностью. — Когда я прибежал наверх и увидел тебя с мешком, ты сказал, я получу все, что захочу. Да, ты сказал. Ты сказал — все. Я слышал, как ты сказал. Ты сказал — все, да, сказал. Я тебя не спрашивал — ты сам сказал. Ты сказал — все, что я захочу. Я только повторил это после тебя. Ты сказал — все, что я захочу.
— Святым именем девяти поэтов-лириков
[76] прошу — замолчи! — сказал Хармид. — Твой язык, как всегда, страдает повторами. Да, я дам тебе все, что захочешь, если ты пообещаешь не говорить ни слова об этом мешке. Понял? Ни слова о мешке.
Он осторожно положил мешок в платяной шкаф и накрыл плащом и несколькими туниками.
— В этом мешке сидит домовой, он даст нам много денег, если мы будем достаточно ловкими. Но домовой терпеть не может, когда маленькие мальчики упоминают о нем или о мешке. Понял?
Главков слушал с широко открытыми глазами. Но Хармид не хотел рисковать ничем — он не спустит с мальчишки глаз, пока они не будут наконец на борту корабля. Он все уже заранее устроил. Судно отплывает через день. Правда, Хармиду хотелось бы уехать поскорее, но это было невозможно: другое судно в Грецию отправляется еще на четыре дня позже. Три корабля отплыли на прошлой неделе, но с ними Хармид не успел уехать. Он хотел сесть на корабль, направляющийся прямо в Грецию. Плыть вдоль побережья в какой-нибудь из других пунических городов было явно нецелесообразно.
— Нет, ты не пойдешь вниз играть в мяч, — сказал он. — Ты останешься здесь со мной и будешь сторожить домового, понял?
11
Неделя прошла, и день и ночь были наполнены вариациями все той же темы любви. И красными стаями фламинго, летящими в солнечный закат. Диний научил ее плавать. Теперь она могла благополучно доплыть до конца пристани и достигала деревянной лесенки как раз вовремя, чтобы схватиться за нее рукой.
— Надеюсь, озерная вода полезна, — говорила она. — Я столько ее наглоталась!
Потом они лежали на поросшем травой берегу, в искрящейся золотыми бликами тени кустов роз. Они часами гуляли по проселочным дорогам, то пыльно-знойным, без единого деревца по обочинам, то вьющимся вверх, в горы, среди сгущающейся зелени, где меж мшистых камней шумел родник.
— Неужели родник всегда был здесь? — спрашивала она, целуя Диния сквозь завесу из своих распущенных волос.
И все-таки поцелуи и прикосновение его крепких рук лишь отчасти помогали ей утвердиться на этой вновь открытой ею земле. Скорее, его слова делали землю реальной. Он говорил немного, но его слова всегда были исполнены особой значимости. Его рассказы, его замечания рождались направленной к ясной цели деятельностью, дышали суровой и непорочной силой. Хотя он не рассказал ей историю своей жизни, ей думалось, что она ясно представляет себе ее во всех ее внутренних связях.
Он много пережил с того дня, как ушел из Короны, где оставил жену и двоих ребятишек. Отец его был крестьянин. И они жили вместе еще с тремя братьями и сестрой. И вот однажды он взял и ушел, потому что, казалось, это была единственная возможность вырваться из оков той жизни, где тяжелый труд так скудно вознаграждался истощенной землей. Он был моряком, старателем на приисках и ловцом губок, работал на уборке урожая и имел мастерскую по выделке кож. В конце концов он вступил в армию Набиса, вождя Спарты, который успешно отразил нашествие римлян и реакционного союза греческих государств. Диний был страстно предан Набису, и Дельфион заразилась его пылкостью. Он красочно обрисовал ей развитие Спарты на протяжении последних трех-четырех поколений. Рассказал, как завоевательные походы Александра Великого, вовлекая в свою орбиту всю Грецию, в короткий срок привели к резкому снижению жизненного уровня и заработков населения, к накоплению огромных денежных богатств и земельных владений в руках немногих. Как цари Спарты, стремясь восстановить в стране родовое братство, приходили в жестокое столкновение с созданными ими же мнимородовыми формами, которые были изобретены в целях сохранения расового господства и олигархии. Как в этой борьбе погиб Агис
[77], а затем Клеомен
[78] и как наконец Набис возобновил борьбу. Борьба все время углублялась. При Агисе это была яркая, но пустая мечта, обращенная к милому прошлому. При Клеомене мечта спустилась на землю, но все еще не осознала полностью своего назначения. При Набисе задача была выполнена. В Спарте нет больше рабов. Он уничтожил рабство. Он уничтожил расовые различия. Он уничтожил право угнетать человека.
Слова замирали в пьянящих абстракциях. Она не представляла себе, как этот строй можно претворить в жизнь, какими были бы его отдельные черты. Но она понимала, что возлюбленный говорит о путях жизни, в которой изменено самое существенное, в которой человеческое достоинство из мечты стало реальностью, в которой свобода стала чем-то большим, нежели пустой звук и фальшивая фраза, — приведенной в действие мечтой. Дельфион не только была увлечена любовью и поддавалась влиянию любимого; ей был близок духовный мир Диния, в ее душе находила отклик и его страсть. Она не могла отделить одно от другого, и это делало ее ответное чувство еще более полным, словно она сама прошла через битву за освобождение человечества, в которой участвовал Диний.
Лишь в одном Дельфион не могла разделять уверенность Диния — в том, что Набис победит и что скоро весь мир последует за ним по пути ко всеобщему братству. Она от всего сердца, от всей души готова была признать, что движение, возглавляемое Набисом, — реальность, но для нее это было лишь преходящее, временное утверждение человеческого достоинства, свободы и любви, ибо человеческое достоинство, свобода и любовь не могут надолго восторжествовать в мире пагубных страстей и алчности, которые очень скоро начнут разъедать и уничтожать эти великие завоевания. Несомненно, мечта возвратится, чтобы вновь вдохновлять людей, однако ей не хотелось серьезно размышлять об этом. Единственной истиной была та истина, которая осуществляется при жизни людей, сейчас. И поэтому у нее были минуты, когда сознание своего полного приобщения к делу, которому посвятил себя ее возлюбленный, навевало на нее глубокую грусть, словно музыка, слишком нежная, слишком замирающе нежная, чтобы ее долго можно было выносить. Дельфион могла продолжать жить, лишь сжимая его в объятиях, лишь будучи уверенной в реальности его сильного, гибкого тела. Всю ее поглотила мука желания.
О себе она рассказывала правдиво, но не очень подробно, а он внимательно слушал ее, но ни о чем не спрашивал. Они никогда не говорили о будущем. Она знала, что он прибыл в Кар-Хадашт с какой-то тайной миссией. О Ганнибале он говорил почти с таким же восхищением, как и о Набисе.
— За последние три-четыре столетия Эллада более бурно развивалась, чем другие страны. Поэтому наша проблема — это проблема авангарда. Перед Ганнибалом стоит не такой сложный вопрос. И он правильно решает его. Между нами и им нет серьезных расхождений.
И Диний туманно намекнул, что он, вероятнее всего, вернется в Кар-Хадашт ранней весной. Набис очень интересуется деятельностью Ганнибала как шофета.
Дальше этого разговор о будущем у них не пошел. Утром их последнего дня на озере, когда Диний отвозил ее обратно, они договорились снова увидеться в тот же вечер. И все разговоры о будущем были отложены до этого часа. У него были еще дела в городе, которые нельзя было откладывать. Дельфион хотела было позвать его к себе, но у нее язык не повернулся сказать ему об этом. В ней все усиливалось нежелание вообще возвращаться домой. Они решили снова встретиться у храма Деметры.
Как только Дельфион пришла домой, Клеобула стремительно бросилась ей навстречу.
— Ах, как ты загорела! И будто стала выше ростом!
Так казалось потому, что она похудела. О, какой усталой и разбитой чувствовала она себя в те первые дни на озере; ее ноги были стерты в кровь от ходьбы. Но жизненные силы все прибывали в ней. Она словно помолодела. Рассеянно поцеловав Клеобулу, Дельфион спросила, что нового у девушек. Клеобула рассказала, что Пардалиска завела роман с одним золотых дел мастером. Он вдовец, и Пардалиска хозяйничает у него в доме.
— Ах, чуть не забыла! Барак вернулся. Он только что был здесь, спрашивал о тебе. Он сам не свой. Прибежал сюда вчера утром. Никогда не видела, чтобы кто-нибудь так сходил с ума. Мне пришлось долго уговаривать его, прежде чем он успокоился. Ведь он очень славный, правда? — закончила добродушная Клеобула, заметив, что выражение лица Дельфион не предвещает ничего хорошего для Барака.
Дельфион совсем забыла о нем.
— Если он снова придет, скажи ему, что я еще не вернулась. Скажи, я прислала записку, дескать, буду лишь завтра утром.
Это по крайней мере даст ей время подумать, как ей быть с ним.
— Он ужасно расстроен из-за тебя, — сказала Клеобула, выполняя данное ею Бараку обещание замолвить за него словечко. — Я считаю, что он славный. Он гораздо приятнее всех других наших гостей. И он действительно тебя любит.
— Да, он хороший, — рассеянно сказала Дельфион. — А как все остальные?
— Ах, Парикомпса хворала. Не так чтобы очень — головные боли, ведь они часто мучают ее. Кроме того, она кого-то ревнует к Ампелиске. Хармид уехал сегодня рано утром. Сказал, что погостит неделю-другую у приятеля. Он позвал двух рабов, чтобы вынести свои вещи. Это нас поразило. Ведь у него почти ничего не было, когда он переезжал к нам, верно?
Дельфион несколько удивила новость о Хармиде — в его внезапном отъезде было что-то странное. Но нельзя же, право, забивать себе голову делами этого Хармида. Наверно, наговорил с три короба какому-нибудь греческому купцу и напросился к нему в гости; дня через два он снова появится с ворохом злобных историй и будет рассказывать, как он поставил на место этого выскочку. От всего этого Дельфион вдруг почувствовала себя глубоко несчастной. Она ненавидела жизнь, в которую вернулась, и поняла, что больше не сможет принадлежать ни Бараку, ни кому-либо другому. Все мужчины ей были отвратительны, кроме Диния. А что, думала она с грустью, если она переоценивает свое чувство и через некоторое время забудет его? Но, во всяком случае, теперь она ни о ком больше и не помышляет. Она не вынесла бы сейчас даже прикосновения другого мужчины. Отныне ей придется быть только хозяйкой дома. Барак, конечно, будет ей надоедать. Может быть, лучше всего попросить его взять обратно свои подарки или хотя бы часть их. В ее мысли уже вошло что-то из привычного уклада ее прежней жизни, потребность найти какую-то точку опоры. Но где могла быть эта Опора (вне того идеального мира, о котором говорил Диний), как не в деньгах и не во всем том, что с ними связано? Нет, она не хочет возвращать Бараку его подарки.
Дельфион стала подниматься по лестнице, велев Клеобуле приготовить ей ванну. Как только она вошла в спальню, она сразу почувствовала что-то необычное в комнате. Это, несомненно, объяснялось ее недельным отсутствием, глубокими душевными переменами, происшедшими в ней. Может ли комната казаться ей привычной, если она сама так сильно изменилась? Ведь ее жилище отражало многие черты ее характера, ее наклонности. Однако чувство беспокойства в ней усиливалось. Но лишь когда она села и вытянула ноги, чтобы маленькая негритянка сняла с нее сандалии, она заметила, что изменилось в комнате.
— Как попал сюда этот сундук?
Негритянка этого не знала и только сверкнула зубами в ласковой улыбке. Мысли Дельфион снова вернулись к вопросам практической жизни. В глубине ее существа происходил какой-то переворот: одни силы расшатывали старые основы, другие этому противодействовали. Ее былые страхи и спокойная осторожность, так хорошо служившая ей раньше, боролись между собой, чтобы восстановить старое равновесие на новой основе. Она стала думать о том, что в ближайшие полгода будет усиленно трудиться, отпустит своих девушек, дав каждой маленький капитал, и через одного из банкиров купит усадьбу в Афинах или Коринфе. Тогда она будет знать, что имеет нечто надежное. И она снова сможет установить связь с Динием, даже если ему не удастся приехать весной в Кар-Хадашт… Однако другая, обновленная часть ее существа глумилась над этими планами. Планы всегда оказываются нереальными. Если она снова вернется к своей старой жизни, ее засосет рутина, она покатится вниз. Будут возникать все новые непредвиденные расходы, мечты об обеспеченной уединенной жизни станут все более несбыточными. Она никогда больше не увидит Диния. О, ее сердце изнывало от тоски при этой мысли. Все что угодно, только не это!
Вошла Клеобула.
— Я вот о чем хотела спросить тебя: можно, я скажу Бараку, что ты прислала записку специально на тот случай, если он вернется? Он так несчастен…
Дельфион надоело слушать о Бараке, но она была тронута добротой Клеобулы.
— Говори, что хочешь. Но без особых нежностей.
— Дело не только в его личных чувствах. Он беспокоится о тебе. Он не сказал ничего определенного, только намекнул на какую-то опасность… Я так и не
разобралась толком. Дескать, тебе угрожает какая-то опасность. Я сама испугалась. Он намекал так туманно, но он ужасно страдал.
— Он хотел лишь разжалобить тебя, чтобы добиться встречи со мной, — довольно резко сказала Дельфион. — Пусть кто-либо из девушек поговорит с ним в следующий раз, если он тебя так расстраивает.
— Нет, я сама поговорю с ним. Он не расстраивает меня. Мне только жаль его.
Клеобула вышла. Едва за нею закрылась дверь, Дельфион потеряла всякую уверенность в том, что Барак просто пытается напустить на себя многозначительную таинственность. Она почувствовала подстерегающую ее опасность. На мгновение в ней даже поднялся протест против Диния и того отважного борющегося мира, который он представлял. Ей снова захотелось погрузиться в мечту, в образы вечного сотворения, смерти и обновления, изображаемые в мимах плодородия. И вдруг она похолодела от страха. Ее мысли снова вернулись к сундуку. Почему он стоит не на обычном месте? Ей захотелось сунуть руку в ящик, где хранились ее сокровища. Одно прикосновение к золоту и драгоценностям спасет ее от этого наступающего на нее потока, снова замкнет ее в себе, вызовет обратное течение.
Ощущение опасности усилилось, как только она принесла табурет и поставила его на сундук. И, взобравшись на него и подняв крышку ящика, она не удивилась, обнаружив, что он пуст. Просто разум ее отметил, что ее предчувствие оправдалось, что страхи подтвердились. На миг она даже испытала облегчение: теперь хоть известно, откуда нанесен удар. Неизвестность страшнее всего. Дельфион слезла, осторожно поставила табурет на место и снова села на кровать.
Маленькая негритянка просунула в дверь свое улыбающееся личико и сказала, что ванна готова.
— Сейчас спущусь, — сказала Дельфион, чувствуя во всем теле страшную вялость. Ей захотелось смеяться. В ее мозгу вихрилась какая-то пустота, ее нервы напряглись, а рот дергался в судорожной улыбке, словно она была своим собственным убийцей, смеющимся над ловким ударом. Она была вне себя.
Но что-то надо было делать. Все ее существо возмущалось, негодовало, требовало немедленно сообщить властям, пуститься в погоню за грабителем… Кто же взял деньги и драгоценности? Пардалиска? Барак? Клеобула? Мысли текли медленно, догадки ускользали бесследно. Она вздохнула и встала. Ага, янтарное ожерелье на туалетном столике не тронули. У нее явилось желание выбросить его из окна. Нет, она не могла бы начать все сызнова. У нее вдруг возникло чувство удивительной свободы; она стала легкой и счастливой, словно превратилась в птицу, как нимфа в легенде.
И тут она поняла, кто взял ее вещи. Хармид, кто же еще! Как могла она быть так преступно неосторожной и показать ему, где хранит свои ценности, когда он явился с этой неправдоподобной историей насчет подарка своей матери? Впрочем, она только облегчила ему задачу. Имея в своем распоряжении неделю, такой тип все равно открыл бы ее тайник. И она ведь знала, что он собой представляет. Она пыталась вспомнить, чем были заняты ее мысли в тот момент, когда она выдала ему свое потайное место. Как это она тогда не разгадала его хитрых уловок!
Ощущение легкости все усиливалось. Со всеми этими ценностями, связывавшими ее по рукам и ногам, она никогда бы не вырвалась отсюда — теперь она это знала. Она находила бы все новые отговорки, а затем окончательно опустилась бы, живя лишь бледным отблеском своих воспоминаний. Как страшно! Теперь конец, возможно, ближе, но это будет достойный конец.
Он ждал ее на ступенях храма, стоя к ней спиной: он не знал, с какой стороны она придет. В следующий раз он будет знать, — подумала она; с этих пор он всегда будет знать. Но она не торопилась заговорить. На душе было тепло и радостно. Они пошли по направлению к докам, затем поднялись к бойницам большой крепостной стены Кар-Хадашта, через которую никогда еще не проходил враг. Теперь уже стражники в латах не отмеривали шаги на участках стены между башнями, огромные хлебные запасы не заполняли складские помещения, тысячи лошадей и слонов не топали ногами в подземных стойлах. Приятно было стоять наверху, на этих громадных каменных глыбах, и смотреть, как солнце садится за темнеющие фиолетовые горы.
— У меня сегодня была масса хлопот, — наконец произнесла она. И рассказала ему о своих делах.
Она дала вольную девушкам. Чтобы избежать каких-либо недоразумений впоследствии, она выполнила все формальности у стряпчего, а затем у верховной жрицы храма Деметры. Она передала дом и все оставшееся имущество Клеобуле и решила возвратиться в Элладу, в Спарту.
— Надеюсь, ты сможешь уговорить своего капитана взять меня с собой?
Дельфион не сказала, что хочет ехать к нему. Она не навязывалась Динию. И действительно, не он играл главную роль в ее решении, пусть даже она не приняла бы этого решения без него. Если б он сейчас умер, — подумала она, — я все равно уехала бы в Спарту. Но он не должен умирать! Ощущение краткости их будущего, краткости времени, отпущенного на цветение их любви и на счастье в стране Набиса, наполняло ее душу глубокой грустью; но даже эта грусть была частью красоты, которую она чувствовала во всем этом, восторга, захватившего ее с той минуты, когда она увидела себя свободной, не обремененной необходимостью строить свое благополучие на богатстве. Теперь жизнь была вся в течении, вся в движении и переменах. И где-то глубоко-глубоко таилось это грустное и приятное ощущение чудесного соучастия.
— Кончился наш праздник, — только и сказал он.
Она была полна благодарности за то, что они понимали друг друга с полуслова.
— Знаю, знаю! — воскликнула она. — Разве я недостойна тебя?
В ответ он заключил ее в объятия, и она разразилась безудержными рыданиями. Не нужно было ничего объяснять. Она приходит к нему не для любовных приключений, она не заявляет на него никаких прав. Он не останется ее возлюбленным, если допустит, чтобы какие-нибудь ее желания помешали ему служить делу Набиса. Единственное, о чем она просила, — это позволить ей тоже служить этому делу, знать, что оба они борются ради одной цели. А их любовь — это нечто другое, но все же связанное с делом их жизни. Это весеннее благоухание, которое переживет много зим, много смертей. Она плакала в его объятиях о том грустном и прекрасном, чем стала жизнь, безгранично желанная, но но одному слову подчиняемая той цели, которая должна выдержать все — и грустное и прекрасное.
Она плакала, как ребенок, а затем утихла на его груди. Они стояли высоко на укреплениях, где камни, нагретые полуденным солнцем, были еще теплы. Внизу под ними обычным чередом шла суетливая жизнь города; ее глухой рокот поднимался к их ногам. Темно-фиолетовая дымка гор расплывалась на западе.
— Да, у капитана найдется для тебя место, — сказал Диний.
Капитан поворчал немного, но в конце концов маленькая каюта нашлась. Дельфион и Диний допоздна сидели на носу корабля на свернутых в бухты канатах и тихо разговаривали под плеск и шелест воды. Небо было звездное. Дельфион рассказала о своей пропаже, не приуменьшая роли, которую это событие сыграло в ее решении порвать со своей старой жизнью.
— Я признательна этому ужасному Хармиду, — сказала она. — Его подлость оказала мне самую большую помощь, какую я когда-либо получала.
Диний понял ее. Он не придавал меньшее значение ее решению оттого, что она получила толчок извне. Он мысленно вернулся к тому времени, когда ушел из дому, и пытался вспомнить свое душевное состояние в тот час.
— Должно быть, была тысяча незначительных причин. Отец все больше озлоблялся из-за непосильных тягот. На первых порах это заставляло меня больше налегать на работу. Я много думал над тем, как спасти семью от нищеты, но мало-помалу обстоятельства брали надо мной верх. Жена была славная женщина, но невестка ее испортила… Не знаю, как это случилось. Однажды я увидел, как она прогнала от дверей нищего старика. Я тогда ничего не сказал, но никогда не мог ей этого простить. Я чуть не погиб от всего этого. Однажды я менял рубашку (я пришел с поля) и слышал, как жена распекала во дворе рабыню — довольно тупую фракийскую девушку. Кудахтали куры… Я вышел из дому и побрел к морю, хотя брат ждал меня в винограднике… Мы с ним поссорились из-за покупки второго вола… Трудно возвращаться к тем временам, это все равно что развязывать узел, который ты хитро завязал неделю назад, а теперь не знаешь, как развязать… В тот год в городской совет были избраны одни лишь кандидаты Скепарниона, богатого землевладельца… Я искупался в море и уже не мог вернуться ко всем этим раздорам… Я лежал на скале под палящим солнцем и вдруг увидел, что совсем близко проходит какое-то судно. Ни о чем не думая, я бросился в воду и поплыл к кораблю. И был принят на борт…
Время от времени из воды, отливающей серебром и подернутой рябью, выпрыгивали рыбы. Звезды были как яркие капли, прилипшие к рангоутам и реям. Со стороны берега неясно вырисовывались темные массы товарных складов и Эмпория. Подхваченный внезапной волной, корабль качнулся и натянул якорные цепи. Что-то пробежало по пристани. Ночь издала глубокий вздох.
Пассажир из соседней каюты специально распорядился, чтобы его не беспокоили, пока корабль не выйдет в море. С ним, видимо, был слуга: до Дельфион доносились их голоса. О распоряжении соседа ей рассказал матрос, принесший ей хлеба и меда к завтраку. Она лениво подумала, не убежал ли этот человек от жены или кредиторов. Или, быть может, он политический изгнанник, а то и просто чудак. В суете отплытия она скоро забыла о нем.
Своим девушкам Дельфион сказала, не вдаваясь в какие-либо подробности, что уезжает из Кар-Хадашта. Она не хотела прощальных слез на пристани. Достаточно и того, что было, когда она прощалась с домом: в последнюю минуту Клеобула дала волю своему горю, умоляя взять ее с собой, и все девушки последовали ее примеру, позабыв свою радость по поводу полученной свободы; они окружили ее, говоря, что не хотят расставаться со своей любимой Дельфион.
Корабль снялся с якоря на заре. Дельфион стояла поодаль от сходен, чтобы не мешать снующим взад и вперед матросам. Она была спокойна, хотя и приятно взволнована. Корабль отталкивали от пристани баграми, и затем с помощью весел он был выведен через узкий выход из гавани в открытое море, Кар-Хадашт вытеснялся из памяти Дельфион быстро сменяющимися картинами: громада Эмпория, качнувшаяся в сторону и затем слившаяся с быстро промелькнувшей большой крепостной стеной, несколько лачуг под пальмами, роскошные виллы, выгнутая линия кладбища, тамариски и неровная полоса скал, красная черепичная крыша, потом снова суровые скалы и земля, все уменьшающаяся за гривами пенистых волн, вздымаемых свежим ветром. Диний прошел мимо и на миг положил руку на ее руку. Ее жизнь горела пламенем бурного нравственного очищения.
Кто-то поднимался по трапу. Она догадалась, что это был пассажир, распорядившийся не беспокоить его до выхода корабля в море. Она с любопытством обернулась и увидела Хармида, выходящего на палубу. Держа за руку Главкона, он весело болтал и потому не заметил Дельфион, пока не подошел к ней вплотную. К этому времени она успела разобраться в своих чувствах и совладать с собой; готовое прорваться наружу негодование, твердое намерение разоблачить и наказать негодяя и столь же сильное желание дать себе волю и разразиться громким хохотом сменились презрением. Хармид был ей смешон. В конце концов, стоит ли уличать его? Ведь это бы значило быть неблагодарной за ту новую жизнь, которую она избрала. Если она разоблачит его, то получит обратно свои деньги и драгоценности, а уже одна мысль об этом бремени мертвящего благополучия наполняла ее ужасом, казалась кощунством.
— Доброе утро, Хармид! — сказала она.
Если бы она хотела отплатить ему, то мертвенная бледность, покрывшая лицо Хармида, была бы для нее достаточным отмщением. Он прижался к стенке и чуть не упал, когда судно зарылось носом в воду, а затем сделало рывок вперед, выходя в открытое море. Он не в силах был произнести ни слова, только раскрыл рот и издал какой-то невнятный звук. Дельфион невольно почувствовала какую-то холодную жалость к нему.
— Я решила вернуться в Элладу, — продолжала она. — Я отдала дом и все, что там было, девушкам. Мне так жаль, что и твои ценные фамильные вещи достанутся им. Что ты будешь делать без них? Как было бессердечно с моей стороны забыть о них!
Она видела, как борются в его душе чувства недоверия и облегчения.
— Ты все… отдала? Мне самому представилась такая возможность… Ради Главкона… Я воспользовался. Я не мог проститься с тобой, так как тебя не было. Ты знаешь, я не забочусь о себе. Я свое прожил. Но мальчик так молод. Я не мог вынести мысли, что его жизнь будет исковеркана… А ты не заглядывала в ящик?..
— Я, собственно говоря, должна поблагодарить тебя за свое решение, — сказала она. — Это все вышло из-за тебя…
На его лице снова проступила серая бледность.
— Не вертись так, — страдальчески сказал он Главкону. — Стой спокойно. Боюсь, у меня начинается морская болезнь.
— А у нас в мешке домовой, — сообщил Главков, подпрыгивая на одной логе.
Дельфион потрепала его по голове и вновь обратилась к Хармиду:
— Видишь ли, я решилась все бросить лишь благодаря твоим ученым рассуждениям о презренной природе денег и вообще имущества. Благодаря тебе я поняла, что человек, у которого есть хоть капля чувства собственного достоинства, должен отказаться от денег и всех ценностей…
Хармид испуганно таращил на нее глаза. Что это, тонкая ирония или она просто сошла с ума? Во всяком случае, она не требует назад своих сокровищ, а это главное. Но одно было ясно: ему предстоит не слишком веселое путешествие. Может быть, она только ждет, когда они приплывут в ближайший греческий порт, и тогда велит его задержать? И как ему спрятать свою добычу тут, на корабле? Вдруг какой-нибудь олух-матрос найдет ее? Он застонал.
— Отведи-ка своего хозяина в каюту, — сказала Дельфион Главкону. — У него, кажется, начинается приступ морской болезни.
Она повернулась и пошла к корме, где возле рулевого стоял Диний и ветер трепал его красный шарф. Это ненадолго в таком мире, — подумала она, — мысленно приобщая их любовь к борьбе Набиса. Но это будет ярко, сильно и нежно, и музыка будет струиться развевающимися по ветру буйными знаменами, а затем копья сомкнутся.
12
В минуты экстаза, как и в минуты тяжелого уныния, он достигал такого состояния, когда все явления, даже самые маловажные, представлялись насыщенными зловещим смыслом. Он был готов на все, лишь бы отделаться от гнета беспощадных голосов, звучащих в его душе. Нерешенные вопросы его личной жизни, казалось, сосредоточились на Дельфион и Бараке. Она заманила его в ловушку, заставив свести ее с Бараком. В их связи он чувствовал коренное зло — сведение объятия к его составным началам: неприкрытой силе и насилию. Когда он думал о них, то видел насилуемое и насилующее начала, слившиеся в безумном кошмаре. Он стал посещать те места, где мог встретить Барака, чтобы поддержать свою ненависть и приблизить момент решения.
Он увидел Барака, одичавшего, растрепанного, на улице, недалеко от дома Дельфион. Барак его не заметил и прошел мимо с опущенными глазами. Что-то в его диком виде заставило Герсаккона сказать себе: час близок. Он долго следовал за ним, а потом вдруг потерял его из виду на шумной улице, где мебельщики мастерили носилки и кровати из кедрового дерева, идущие на экспорт. Но его не оставляло чувство, что встреча с Бараком предопределена, и он не сомневался, что скоро снова встретит его.
Он пошел домой, вынул нож из ящика, где хранил оружие. Нож был тонкий, кривой, с острым лезвием, и вид его вызвал у Герсаккона тошноту. Он направился в район доков, желая удостовериться, что кабак, однажды привлекший его внимание, все такой же смрадный и зловещий. Кабак был прежним.
Он вернулся на улицу, где находился дом Дельфион, и менее чем через час увидел приближавшегося Барака. На его лице было то же дикое выражение обреченности. На этот раз Барак заметил Герсаккона. Он как будто хотел остановиться и заговорить, но лишь безнадежно махнул рукой и прошел мимо. Герсаккон дал ему пройти. Он чувствовал, что час еще не наступил, хотя был близок.
На другое утро он ждал на том же месте и вскоре снова увидел идущего Барака. Час настал. Барак, казалось, был в состоянии крайнего изнеможения; волосы прямыми прядями свисали ему на лицо, глаза были как у объятого ужасом животного, на губах выступила пена. Он не видел Герсаккона. Герсаккон пошел за ним. Так они шли около часа. Не оглядываясь, Барак бесцельно брел вперед. Потом, свернув с широкой, обсаженной тополями и украшенной статуями улицы на боковую дорогу, он внезапно обернулся и, сделав быстрый прыжок, схватил Герсаккона за руку:
— Зачем ты идешь за мной?
Узнав Герсаккона, он отпустил его и повторил вопрос более спокойным голосом. Герсаккон ответил:
— Я увидел смерть на твоем лице. И последовал за тобой.
Барак рассмеялся резким, неестественным смехом, провел рукой по лицу и уставился на свою ладонь, словно ожидал увидеть на ней смятую маску смерти или кровавое пятно.
— Ну? — сказал он с угрозой.
— Пойдем выпьем вина и поговорим, — предложил Герсаккон, взяв его за руку.
Барак не ответил и не отнял руки. Герсаккон молча повел Барака в район доков. Барак будто потерял всякий интерес к окружающему. Герсаккон не спрашивал себя о причине такого состояния Барака, ибо считал, что оно вызвано воздействием бога на жертву, которая должна изображать успение и богоявление.
Они миновали небольшой храм, и Герсаккон вдохнул запах запекшейся крови; его не мог заглушить даже аромат воскурений. Божество жило в запахе горелого мяса и крови. Все остальное было лишь декоративным фоном. Прижатый к боку нож в кожаном чехле он ощущал как жезл, в котором чудом сохранился весь великолепный трепет жизненных сил весны.
Кабак, куда они пришли, находился снаружи крепостной стены, на небольшой пустоши между торговыми доками и прекрасными садами; вдали, к северу, виднелось кладбище. Герсаккон избрал этот кабак потому, что прямо над водой здесь был балкон, пахнувший разъеденным соленой водой деревом. Герсаккон провел Барака через переднюю комнату, где пили вино матросы со своими женщинами.
— Балкон свободен? — спросил Герсаккон прислуживавшего раба.
Нет, там сидели двое мужчин. Герсаккон сунул слуге несколько монет, приказав пересадить этих людей в другое место. Когда те ушли, он вместе с Бараком вышел на балкон.
— Здесь нам будет удобно, — сказал Герсаккон.
Барак огляделся вокруг.
— Да? — спросил он, рассеянно взглянув поверх воды на горы.
Герсаккон снова увидел в его глазах это безвольное оцепенение обреченной жертвы и ощутил ответное давление ножа на боку. Когда стемнеет, он вонзит нож в сердце или в горло Барака — он еще не решил куда, хотя это было важно, а затем сбросит тело в воду. К тому времени в кабаке будет шумно, все перепьются, и когда он будет уходить, никто не обратит внимания, прошел Барак впереди него или нет. Он ощущал Барака как какую-то давящую на него ношу, которую он должен сбросить, чтобы выпрямиться, как затмевающую жизнь завесу, которую он должен сорвать, для того чтобы вступить в реальный мир. Мысль, что он потом будет выходить через шумный, пьяный кабак, давала ему бесконечное облегчение и радость, ощущение завершенности. Казалось, сразу переменятся все течения жизни, мир будет вывернут наизнанку. В один миг волшебной, грозовой силы удар приведет центр и окружность жизни к стремительному слиянию, а потом центр растянется в свободную окружность действия, и все, что сейчас душит и разрывает его на части, будет удержано в центре.
Единственное, что осталось сделать, — это определить, когда и куда нанести удар. Последнее — куда нанести удар — его особенно волновало. Барак сидел на деревянной скамье с мягким сиденьем, а Герсаккон на складном стуле. Их разделял грязный колченогий кленовый стол, весь испещренный вырезанными именами и знаками завсегдатаев. Слуга принес большую бутыль лучшего сицилийского вина. Они процедили вино через грязную полотняную тряпочку и разбавили его водой.
Барак выпил и постепенно стал возвращаться к жизни, беспокойно осматриваясь и мотая головой. Наконец он повернулся к Герсаккону:
— Зачем ты привел меня сюда? — В его голосе не было подозрения, он задал свой вопрос лишь потому, что в нем опять стал пробуждаться интерес к окружающему. — В конце концов, друзья мы с тобой или нет? Право, не знаю. Ты все снова и снова входишь в мою жизнь, и я не знаю, проклинать мне тебя или благословлять. — Не получив ответа, он простер к Герсаккону руки. — Ну, да это и не важно. Скажи мне, как по-твоему, допустимо ли, чтобы сын ударил отца по лицу? По лицу, по нижней части лица. А впрочем, все равно по какой.
— Должно быть, серьезное дело — быть отцом, — сказал Герсаккон, подавшись вперед, взволнованный возникшей у него новой мыслью. Он покачал головой. — Я думаю, мне было бы страшно уснуть, если бы я был отцом. Но ты спрашиваешь не об этом. Мне кажется, когда придется держать ответ перед судом смерти, наше сердце будет обвинять нас и никакие уловки, с помощью которых мы обычно пытаемся заглушить голос совести, не помогут. По моему мнению, впрочем ничего не стоящему и противоречащему всеобщему мнению, не ударить отца такое же проклятое дело, как и ударить его. Начать с того, что родство ложно и сомнительно… Один мой друг, которого я очень уважаю, считает, что сын с богословской точки зрения, как эманация, существует вне времени и, следовательно, так же стар, как и его отец. Это интересное умозаключение, ведущее, может быть, — если оно будет правильно понято, — к миру, в котором закон становится свободой. С другой точки зрения, это, может быть, просто безумие.
Барак выпил еще вина и откинулся назад, судорожно мотнув головой. Герсаккон принял предзнаменование. Он поразит жертву в горло. Теперь, когда у него не оставалось больше сомнений, он почувствовал прилив симпатии к Бараку. Он перегнулся через стол и погладил его руку. Барак посмотрел на руку Герсаккона и насупился.
— Ну вот мы и встретились, — произнес он наконец. — Я хочу сказать, ты как раз тот, кого я хотел увидеть. — Он посмотрел на Герсаккона с мольбой. — Ты много помогал мне, и у меня нет никого, к кому я мог бы снова обратиться. Если ты мне не поможешь, к утру я буду мертв.
Эти слова обдали Герсаккона холодом. Неужели бог ведет с ним нечестную игру? У него было такое чувство, точно произошло какое-то недоразумение, точно он чего-то не понял, и чтобы вновь обрести уверенность, он дотронулся до туники, под которой был нож.
— Почему?
— Потому, что она оставила меня! — вскричал Барак. — Она уехала! — Он спрятал лицо в руки и зарыдал. — Я почти ничего не ел эти три дня. Я чувствую, что схожу с ума. Ты слышишь? Из-за нее я ударил отца по лицу. Я отверг его благословение и отрекся от наследства — все ради нее. Я отказался от всего и сделал это с радостью. И единственным ответом для меня была весть, что она уехала, не оставив мне ни слова на прощанье. И у меня нет пути назад.
В Герсакконе поднялась бешеная ненависть к Бараку, ибо все шло не так, все шло наперекор. Все взаимосвязи, которые он так старательно создал в своем уме, рухнули. Барак больше не соответствовал образу жертвы, или, вернее, если он и был жертвой, то удар уже был нанесен, нанесен кем-то другим, а не им, Герсакконом. Герсаккон встал и, подойдя к ограде балкона, стукнул кулаком по перилам. Один из прутьев ограды переломился пополам. Неужели для него не было выхода? Он вернулся к столу и мягко сказал:
— Хорошо. Расскажи мне все. Я спасу тебя. — Но, не ожидая, когда Барак заговорит, притронулся к его руке и подошел к двери, чтобы заказать еду. Когда принесли лепешки и котлеты, он заставил Барака поесть.
Покончив с едой, Барак начал рассказывать. Сначала он запинался и порою, казалось, не мог найти нужных слов. Но мало-помалу он собрался с мыслями, его рассказ стал более связным. Было очевидно, что он многое понял только сейчас, когда рассказывал. Он остановился, пораженный этой новой ясностью, осветившей его переживания.
— Да, это было так, — сказал он.
Самое странное заключалось в том, что боль словно стала проходить, как будто именно его исповедь создала непреодолимую преграду между ним и Дельфион, а не ее отъезд. Он жадно смотрел в глаза Герсаккону, страстно ища в них то, что придало бы ему силы. Теперь, когда он мог сказать Герсаккону: «Она ушла!», сознание невозвратимости того, что было, покрыло все. Глаза и голос Герсаккона стояли между ним и прошлым, как будто тщательно исполненный обряд жертвоприношения и очищения отделил враждебных мертвых от живых и снова сделал жизнь возможной. Иначе бремя страха и раскаяния, преследующие людей призраки страшной кары совсем придавили бы их к оскверненной земле. Герсаккон, застывший в суровом внимании, был похож на жреца, отвращающего кару, жреца, претворенного силой обряда в бога для знаменательного мига. Из глубин его глаз лился странный свет, багровый, а затем таинственный темно-фиолетовый.
— Она уехала.
Медленно всплывало другое значение. Хлеб жизни по-новому усваивался Бараком. Любовь к женщине обернулась этим прикосновением друга и решимостью не дать отцу восторжествовать над собой. Необоримая ненависть к отцу превращалась в нем в новую любовь к жизни, в новое отношение к хлебу жизни. Нет, он не умрет.
— Не будет он смеяться надо мной!
Барак судорожно схватил глиняную чашку и изломал ее в руках, а черепки кинул в воду. Он скупо оплакал утраченную любовь и снова преисполнился решимости. Помня об угрозах отца по адресу Дельфион, он все время испытывал страх перед грозящей ей опасностью. Ему представлялось ее лицо, обезображенное наемниками Озмилка, и он в бессильном раскаянии винил себя за то, что навлек на нее несчастье. Поэтому ее отъезд принес ему облегчение, избавил его от кошмара.
— А теперь — как же теперь быть?
Он знал: он должен остаться верным ненависти к тому, что заслуживает лишь ненависти. Начало темнеть. В кабаке кто-то играл на лютне. Решение словно оживало, вырисовываясь столь же ясно, как стоявшая перед ним бутыль в соломенной плетенке.
— Я должен кое-что сказать Ганнибалу. Измена…
Слово было произнесено. Теперь он обрел новую надежду. Стало ясно, что именно давало ему право сидеть тут, быть исцеленным дружеской рукой и дымчатым вином, глядеть на огоньки корабля далеко в море. Это Ганнибал удержал руку Озмилка, иначе Дельфион не удалось бы так легко выбраться отсюда. Это Ганнибал все еще связывал руки Озмилку. Барак хорошо знал отца. Озмилк, несомненно, сказал себе: «Пусть мой проклятый сын пока покуролесит — эта женщина все равно прогонит его, когда у него кончатся деньги. А там и Ганнибал будет сокрушен, и тогда придет время и для оскорбленного отца заявить свои права, отомстить этой чужестранке, ставшей причиной моего горя». Барак почувствовал себя вдруг счастливым. Он понял, где его место. Он еще далеко не погиб.
— Отведи меня к Ганнибалу.
Герсаккон взял Барака к себе, предоставил ему комнату и предложил жить у него, сколько ему угодно. Утром он повел его к Ганнибалу, которому вкратце рассказал о разрыве Барака с отцом. Он оставил юношу наедине с Ганнибалом, и Барак сообщил Ганнибалу все, что ему было известно о заговоре, замышляемом олигархами вместе с Римом.
Герсаккон понял, что вся эта история с Бараком имела для него глубокий смысл. Она избавила его от мании преследования. Человек, вокруг которого он плел паутину своих фантазий, на поверку оказался всего лишь страдающим братом. Но вновь обретя ясность рассудка, Герсаккон все же чувствовал: что-то надо еще сделать, дабы полностью уничтожить в себе этот мучительный страх остаться наедине с женщиной, страх, охвативший его с невероятной силой после того, как он сжал руками горло молодой рабыни.
Оказавшись возле храма Танит и подняв глаза на один из многочисленных знаков богини, начертанных и выбитых на стелах и на вырезанных во исполнение обета деревянных табличках, он вдруг понял, что ему нужно. Он прошел через окружавшую храм галерею, мимо стены с нишами, где находились вычурные часовенки, ко входу в помещение жриц. Он стоял с минуту, глядя на девушек в голубых одеяниях, кидавших хлебные крошки ленивым рыбам, плавающим в водоеме с позолоченными стенками, и затем сказал привратнику-евнуху, что хочет видеть верховную жрицу. Он предстал перед уже немолодой женщиной с явно негритянскими чертами лица, в бледно-розовой тунике, перехваченной золоченым поясом и собранной складками под грудью, и в широкой обрядовой юбке Исиды, украшенной голубыми, золотыми и красными изображениями сложенных птичьих крыльев. С ее ушей свисали удлиненные конусы, прикрепленные к дискам и заканчивавшиеся маленькими шариками. Он объяснил ей причину своего прихода. Она слушала его, серьезная, темноглазая, и его слова падали будто во внимающую ему и все более затихающую лесную чащу; она облегчала его бремя и давала ему успокоение, медленно склоняя голову. Он внес положенную плату, и она позвала жрицу. Жрица была в накидке, состоящей из множества оборок, у нее были удлиненные, раскосые глаза и широкие бедра. Она взяла Герсаккона за руку и повела его внутрь мимо покоя, где было, ложе Змеи для причастий, которые давали жрицам их обновленную девственность. Знойное благоухание цветов трепетало, как барабанная дробь. Налево были кельи, куда входили храмовые блудницы, нагие, лишь с металлическими браслетами на ногах, украшенными изображениями полумесяца и бычьей головы. Но жрица проследовала дальше по проходу, в который свет попадал через слюдяные оконца, в маленький покой, где богиней был черный камень между двумя рогами освящения
[79]. Здесь стоял запах морских водорослей и молока. Жрица зажгла фарфоровую курильницу, стоящую в углублении каменного пола. Она скинула одежды и окурилась ладаном, стоя над курильницей. Затем взяла зеленой краски и начертала Знак Танит на сокровенных частях своего тела, на пупке и на очень длинных блестящих коричневых сосках грушевидных грудей. Повязав вокруг своей талии шкуру со свисающим сзади коровьим хвостом, она накрыла лицо маской небесной коровы. Потом она приняла положение, предписанное обрядом изгнания духов, и спела песню, которая звучала как мычание коровы в ночи и сначала казалась страшной, а потом навевала покой. По ее телу пробегала легкая дрожь, словно тени летних облаков по земле, словно ветер, волнующий поле спелой пшеницы, словно рябь на морской глади. Страх перед неотвратимым насилием, преследовавший Герсаккона, стал проходить и исчез совсем, когда он почувствовал, что сливается со вселенной, сочетаясь с богиней, которая молвила: «Я — истина, я полна милосердия».
13
Сотовый воск был так хорош в этом году, что он сможет продать его торговому агенту какого-нибудь купца из Александрии для приготовления лекарств или красок. Он только что вернулся из поселка, сплошь состоявшего из глинобитных лачуг, где договорился с вождем племени о найме людей для работы на виноградниках. Вернувшись, он на минутку забежал домой повидаться с женой. Раб вкатывал в кухню большую амфору с тополевыми опилками. Девушки-рабыни расставляли ряды банок для консервирования гранатов. Одна из них тихо напевала:
Пойдем поутру в виноградник…
Жена возилась по хозяйству, высоко заколов рукава бронзовыми застежками. Наслаждаясь этой картиной мирного труда, он забыл, зачем пришел, и решил налить себе кружку ячменного пива, но не успел выпить ее и до половины, как вдруг в дом влетел его младший сын и взволнованно крикнул:
— Где отец? Он еще не вернулся из деревни?
Азрубал вышел из тени и сказал, смеясь:
— Что случилось? Уж не боднул ли тебя старый козел? Или горные львы забрались к нам с юга?
— Горит роща у подножия Холма Одного Дерева!
Азрубал поставил кружку на стол и кинулся к выходу.
— Я не видал дыма! — воскликнул он.
Но теперь он его увидел и бросился в конюшню, крикнув сыну, чтобы тот послал всех к роще, даже девушек. Если огонь перекинется через холмы и побежит вниз по склону, поросшему сухим колючим кустарником, он быстро доберется до главной плантации олив. Азрубал не стал ждать, пока оседлают лошадь, вскочил ей на спину и поскакал в направлении серовато-коричневых и черных клубов дыма.
Поделом мне, — думал он, — за мою самонадеянность. Благосостояние одурманивает разум человека, оно как жирная, влажная почва, в которой сгниют корни любого ценного фруктового дерева. Он промчался мимо ямы, где хранился урожай пшеницы (здесь она по крайней мере была в безопасности от огня и мышей), и поскакал дальше по тропе, огибающей нижнюю часть виноградника, где лозы со зреющими кистями уцелели под знойными ветрами и гнули оберегавшие их подпорки. Азрубал надеялся, что трое рабов, копавших ямы для посадки саженцев олив, заметив первые клубы дыма, сообразили побежать к холму и начать борьбу с пожаром.
Да, они были там. Вот они ломают сучья вечнозеленого дуба. Потом они исчезли из поля его зрения. Теперь ясно был виден огонь, полоса всепожирающего красного пламени, из которого валит дым. Он проклинал себя за то, что не захватил с собой огниво. Удастся ли ему объехать бушующее пламя и выхватить из огня горящую головню? Тогда можно было бы поджечь кустарник с другой стороны и задержать огненный вал. Рабы натянули на лица туники, борясь с огнем на главном направлении пожара. Вдоль всей линии огня багровые языки пламени неудержимо устремлялись вперед, разлетаясь брызгами искр над пучками травы. Попадая на молодое деревцо, искры с шипением взбегали вверх по веткам, листья дымились, пламя бахромой обвивало ветви и ползло ввысь с угрожающим шипением и яростным треском. Когда же подоспеет подмога?
Трое рабов отступали перед огненной стеной. Под покровом грязно-желтого дыма были видны красно-золотые столбы горящих стволов молодых деревцев. Из-под куста стремглав выскочили несколько зайцев и ящериц и пронеслись чуть не по ногам Азрубала. Тут он услышал крики рабов, делавших ему знаки подняться к ним. Он со злостью взглянул на головню и бросил ее. Если сын сейчас же не приведет людей из усадьбы, то через несколько минут не будет никакой надежды справиться с пожаром.
Он поспешил наверх, где стояли рабы, и с изумлением увидел, что кустарник на склоне холма горел ярким пламенем. В чем дело? Неужели огонь обошел их и стал наступать сбоку? Но тут он увидел вдали фигуры каких-то людей, направлявших огонь в нужную сторону.
— Бегите вниз, помогите им — крикнул Азрубал.
Рабы припустили во всю прыть. Азрубал стоял между двумя стенами огня, глядя вниз, на подножие холма. Жар стал невыносим, это была настоящая огненная буря. Вокруг словно раздавались глухие удары грома. Азрубал решил обогнуть полосу огня и присоединиться к людям, у которых хватило соображения принести с собой огниво. Но кто они? Это не могли быть его старшие сыновья: один пас овец в горах, другой был в Кар-Хадаште.
Из клуба дыма показался человек.
— Ах, это ты, Махарбал! — воскликнул Азрубал, и старая вражда по привычке заговорила в нем.
— Это мы запалили кусты с обратной стороны. И как раз вовремя. Мне сказал о пожаре один из моих рабов, я был вон там внизу, на пасеке. Счастье для тебя, что я всегда ношу огниво в сумке.
Трудно было Азрубалу признаться в своей недальновидности, но он это сделал.
— А я старый дурак, — пробормотал он. — Так мне и надо. Спасибо, сосед.
Они спустились с окутанного дымом склона и посмотрели на почерневший холм, где прежде рос кустарник. Рабы Махарбала — их было человек десять — с помощью трех рабов Азрубала вытаптывали остатки огня на дальнем склоне холма. Опасность миновала. Огонь уже не мог перекинуться через выгоревшее пространство.
— Славная работа! — сказал Азрубал, уже не сдерживая своей радости. — После такой работы не мешало бы выпить. У меня есть недурное ячменное пиво, я как раз начал было его пить, когда услышал о пожаре. Как насчет того, чтобы смочить горло, сосед?
Кто бы мог подумать, что Махарбал когда-нибудь гостем войдет в его дом? Но, черт возьми, из-за чего же мы с ним воевали? — спросил он себя. Человек не может обойтись без соседей. Никто не может жить в одиночестве! — И ему показалось, что он открыл удивительную, еще не известную никому истину.
Махарбал улыбался:
— Век живи — век учись, а?
Тут Азрубал увидел выбежавшего из-за гребня холма сына:
— Слишком поздно! — крикнул он, сложив ладони рупором. — Веди всех домой! Нечего терять попусту время! И так два часа пропало даром… — И он повернулся к Махарбалу: — Пойдем, сосед, выпьем пива!
Идя рядом с Махарбалом и обсуждая недавние попытки ввести новые породы овец вместо обычной — с длинным толстым хвостом, Азрубал чувствовал глубокое удовлетворение и благодатный покой от земли, от чередования времен трудового года — полевые работы с июля до ноября: сев, затем рыхление и подрезка виноградных лоз, а потом сенокос и сбор урожая, после чего снова сев, — от стука копыт о землю, от привычных звуков голосов и ответных голосов. Все правильно вращалось в своем кругу, в надлежащий момент расцветало новым цветом, свежим, как цвет сеянца, который между двумя весенними ливнями пробился наружу, к солнцу, — хрупкий, упорный зеленый стебелек, еще несущий на себе крошечную крупинку покоренной земли.
Часть шестая
«Кульминация»
1
Год близился к концу. Постепенно и планомерно проводились реформы во всех областях общественной и хозяйственной жизни. Результаты их очень скоро сказались в улучшении всеобщего благосостояния Кар-Хадашта. Правящие семьи, казалось, окончательно сложили оружие. На выборах они не сделали никаких попыток выставить своих кандидатов, и оба демократических деятеля, которые должны были продолжать осуществление реформ, были избраны без малейшего сопротивления со стороны олигархии. Затем грянул первый гром. Массинисса, царь Нумидии, внезапно совершил набег на границы Кар-Хадашта и потребовал значительную часть территории республики. Тут ничего нельзя было поделать. Договор с Римом был составлен настолько хитроумно, что он полностью уничтожил свободу действий Кар-Хадашта. Предоставленные Массиниссе права были очень туманно определены: он мог претендовать на любые земли, принадлежавшие ему до известного времени или принадлежавшие его «предкам». А так как Кар-Хадашт был лишен армии и военно-морского флота, а также права вооружаться и оказывать сопротивление действиям Массиниссы, оставалось только послать в Рим бессильный протест.
Набег Массиниссы поверг город в глубокое уныние, но в домах правящих семей втайне ликовали. Теперь пусть этот хвастун Ганнибал покажет, что он может сделать! Едва только люди начали успокаиваться, теша себя надеждой, что по крайней мере самое худшее позади, как нумидийцы совершили еще один набег на республику. Снова от Кар-Хадашта была отторгнута большая часть территории. Второй дипломатический протест был отправлен в Рим, где сенат все еще «изучал» первый.
Наконец начали приходить сообщения из Рима. Даже не думая выражать Массиниссе какое-либо недовольство, Рим дал Кар-Хадашту высокомерный и уклончивый ответ, в котором намекалось, что Кар-Хадашт сам во всем виноват. Рим отнюдь не доволен ходом событий в Кар-Хадаште. Нет, Рим даже склонен думать, что злоумышленники плетут там сети интриг и ведут город к гибели. Однако Рим, руководствуясь своей беспристрастной благожелательностью, посылает в Кар-Хадашт трех арбитров, которые на месте во всем разберутся. Разумеется, если Кар-Хадашт стал жертвой какой-нибудь несправедливости, арбитры примут необходимые меры. Разумеется. Между тем Массинисса отгрыз на юге еще несколько кусков от республики.
Первые месяцы нового года проходили в мучительном, все усиливающемся страхе перед нашествием извне. Мог ли Кар-Хадашт защитить себя, не имея оружия, кораблей и обученной армии? Город был словно парализован. Принятые реформы проводились в жизнь, но о дальнейших преобразованиях нельзя было и думать. Всеобщее воодушевление, питавшее до сих пор жизненные силы города, было задушено, подавлено. Богатые начали открыто насмехаться и издеваться над Ганнибалом. Число их приверженцев росло. Люди ворчали и ждали, чтобы их подбодрили, а это мог сделать только Ганнибал.
И так встречал Кар-Хадашт новую весну. Но этой весной ни у кого не билось радостно сердце в груди при пробуждении Мелькарта.
2
Барак был принят в число домочадцев Ганнибала. Здесь он был огражден от ярости отца, по крайней мере на некоторое время. Всеми фибрами своей непокорной и страстно преданной души он привязался к Ганнибалу, и Ганнибал отвечал ему расположением. Барак пытался поддерживать дружеские отношения с Герсакконом, но хотя между ними не было размолвок, Герсаккон становился все более уклончивым и отчужденным, и Барак отказался от дальнейших попыток.
Герсаккон обрел некоторый покой. После перелома в отношениях с Бараком и посещения храма Танит он почувствовал, что одна из грозивших ему опасностей устранена. Но теперь, когда его страх перед женщинами исчез, тяга к ним тоже исчезла. Бесконечная жалость переполняла его душу. Он возобновил свои споры с Динархом. Придя однажды к философу, он увидел, что дверь в его комнату взломана. У входа стоял стражник, собравшиеся женщины отвечали на его вопросы. Динарх бежал, но, по всей видимости, вовсе не потому, что выдвинутые против него обвинения могли привести его на скамью подсудимых. Одна из женщин сказала, что он соблазнил молодую девушку, а другая добавила, что это случилось с молчаливого согласия матери и только отец девушки, узнав обо всем, устроил скандал. Третья заявила, что Динарх выманивал деньги у женщин — предсказывал им судьбу, выставляя себя пророком, и продавал амулеты бездетным. В общем, все это показалось Герсаккону довольно грязной и неинтересной историей, а версий было столько, что по меньшей мере некоторые из них могли оказаться правдой. Но одно было несомненно: Динарх бежал. Впрочем, и это могло быть просто философским выражением чувства юмора. Стражник обыскивал помещение в надежде найти приспособления для чеканки фальшивых монет, однако Герсаккон не видел для этого никаких оснований,
кроме разве свойственной стражникам уверенности во всеобщности преступных инстинктов. За небольшую мзду стражник разрешил Герсаккону войти в комнату, а сам стал бдительно следить за странным поведением этого назойливого человека. На стене был прикреплен кусок папируса с греческой надписью: «Ищите и обрящете». У Герсаккона появилось такое ощущение, словно эти слова были оставлены нарочно для него, а вовсе не в насмешку над полицией. Что ж, по крайней мере ему ясно одно: Динарх — шарлатан, и, конечно, нельзя больше серьезно относиться к догматам веры, которые он проповедовал.
Ищите и обрящете. Эти слова запали ему в душу, вызывая в памяти все его споры с исчезнувшим философом. Динарх, несомненно, хорошо разбирался в сущности тайных религий, даже если он добывал средства к жизни, используя легковерие женщин и их болезни. Главным пунктом в его спорах с Динархом был вопрос о подлинной природе мифа и обряда. Во время их последней встречи Динарх высказался более определенно, как будто зная, что это их последний спор: «Да, это верно. Он здесь в это самое мгновение». Динарх приблизился вплотную к Герсаккону и прошептал: «А что, если я бог? Что, если ты сам бог?» Герсаккон отпрянул от него. Не потому, что он испугался богохульства, но его испугала мысль, что эти слова могут оказаться правдой. Он понимал, в каком смысле Динарх это сказал. Но тотчас же он снова заспорил про себя. Да, верно — «в некотором смысле». Однако он-то искал прежде всего Истину.
Истину. Путь, Сияние. А не идеи, которые были верны «в некотором смысле».
Он вышел из ворот и направился к холмам. Он достиг первого склона уже к ночи. Далеко внизу он видел мерцание и отблеск огней, море, совсем темное у горизонта. Повсюду вокруг него струилась чуждая жизнь природы, которая, однако, была ему ближе, чем его собственное дыхание, ибо природа — это было также и его собственное тело. Не раскатами грома, а тихим голосом, словно шелест брызг водопада среди папоротников, пришло к нему откровение. Он обрел веру, лежа лицом в землю, в тоскливом одиночестве холмов.
3
Демократы проводили бесчисленные совещания, беспорядочные и ожесточенные, рьяно споря и упрекая друг друга. Можно было придумать все, что угодно, но нельзя было придумать, как сказать Массиниссе «Стой!». Воззвав к массам, можно было бы творить чудеса, можно было бы делать все, что угодно, но только не оружие. А его надо было изготовить вовремя, чтобы спасти Кар-Хадашт, если римляне нападут на него на том основании, что он нарушил договор. Все доводы и уверения, как бы ни были они разумны и возвышенны, разбивались об эти две простые истины. Массинисса отхватил еще один кусок территории республики. Было совершенно ясно, что эти грабительские и провокационные действия разработаны в сговоре с Римом и что Рим действует в сговоре с правящими семьями самого Кар-Хадашта. Если город окажет сопротивление, он будет сокрушен за нарушение договора. Если он не окажет сопротивления, он вообще исчезнет с лица земли. Выполнять договор или нарушить его одинаково гибельно. Богатые, после того как они год ходили с вытянутыми физиономиями, теперь громко издевались над трудностями демократов и снова были полны спеси. Осведомители и шпионы вылезли из своих нор и шныряли по городу с лисьими мордами и хищными глазами.
И вот пришла весть, что в Африке высадились римские арбитры. Все повторяли звучные имена трех послов, как будто они могли дать ключ к разгадке происходящего: Гней Сервилий, Марк Клавдий Марцелл, Квинт Теренций Куллеон. Несколько безумных оптимистов стали поговаривать о том, что послы, возможно, прибыли для восстановления справедливости и потому самое главное — объяснить им истинное положение вещей. Но каждый гражданин Кар-Хадашта, оптимист или неоптимист, почувствовал в приближающихся к городу римлянах ту силу, которая так или иначе решит его судьбу.
— Наши представители неоднократно сообщали, что Сципион возражал против вмешательства в наши внутренние дела, — сказал Карталон на совещании демократических руководителей, проведенном за день до ожидаемого прибытия римлян. Надежда на это была единственной поддержкой Карталону в последние месяцы.
Ганнибал жестко рассмеялся.
— Ну да, ему легко стать в благородную позу, ведь он заранее знает, что его все равно не послушают.
Карталон сопротивлялся, пытаясь найти что-нибудь успокоительное в создавшейся международной ситуации.
— Они связали себе руки на Востоке. Помимо того, я имею сведения, на мой взгляд верные, что в Испании скоро начнутся волнения. Они теперь не в таком положении, чтобы нападать. Мы не должны поддаваться их угрозам.
Ганнибал ответил с усталой усмешкой:
— Зато Массинисса готов к бою. По первому слову римлян он может опустошить все наши земли, вплоть до самых стен Кар-Хадашта…
Наступила гнетущая тишина. Массинисса был козырем в руках римлян. С помощью нумидийских войск им удалось нанести Ганнибалу поражение в битве при Заме. Молодой царь-воин, сильный, как его конь, сплачивал кочевников, и тем самым перевес сил в Северной Африке решительно складывался не в пользу Кар-Хадашта.
— Возможно, — нарушил молчание Ганнибал, — мы сделали промах сто лет назад. Мы привили кочевникам зачатки цивилизации, но не вовлекли их в сферу нашей политики. Теперь кочевники объединяются и сталкивают нас в море.
— Но варвары не могут быть приняты в гражданство, — запротестовал Балшамер, — если мы не хотим, чтобы город был затоплен инородцами и потерял свое своеобразие, свои святыни, свои связи с предками…
— А разве он уже не затоплен? — ответил Ганнибал. — И где это своеобразие и святыни? Мы пытались восстановить их на протяжении истекшего года не замкнутостью, но созданием стройной системы того, что составляет наши насущные нужды.
Сознание упущенных возможностей навеяло грусть на собравшихся в доме Ганнибала демократов. Все они ощущали, как держит их в своих тисках прошлое, эта неиспользованная сила, которая то казалась кошмаром и проклятием, запутанным узлом ошибок, уничтожающим все усилия настоящего, то прозрачным источником единства и гармонии, которые они отчаянно стремились восстановить.
Ганнибал заключил:
— Разве наши интересы не требуют союза, объединения с нумидийскими племенами? К этому есть только одна возможность — сделать их частью нас самих. Поглядите на наши пунические колонии. Ведь они в значительной мере ливийские по расе, но совершенно пунические по культуре. И все же…
На мгновение его одолела усталость. Неужели все человеческие усилия преследует парадокс ошибки? Прав ли он, перенося в прошлое проблемы настоящего? Почем знать, возможно, в былые времена, о которых он говорил, Кар-Хадашт и другие пунические города сохранили ядро своих сил именно благодаря ограничениям, которые позднее оказались для них гибельными? Защитный панцирь, спасавший от смерти, в свою очередь превратился в препятствие для нарождающихся новых форм жизни. Самый искренний молитвенный жест, длившийся один только удар сердца после вдохновенного мига, становится кощунством.
Намилим крепко сжал руки, встал и поклонился. Ганнибал сделал ему знак говорить.
— Я говорю не от себя… Я говорю от имени моей общины… — начал он в замешательстве. — И от Общества взаимопомощи моряков… Мы пытались создать всеобщую организацию… Наша резолюция получила также поддержку Общины гончаров… Я не могу сказать точно, сколько нас. Мы все еще, так сказать, нащупываем почву… Хочу сказать, что я послан делегатом от довольно большой части наших граждан. Наше мнение обо всем этом ясное: все потеряно, если не будет положен конец интригам правящих семей с Римом и царем Нумидии. Поэтому мы с завтрашнего дня объявляем открытую борьбу. Мы знаем, чем она может кончиться. Но любой другой путь — это верная гибель. Мы призываем Ганнибала организовать силы республики… вооружить народ… наладить производство оружия, постройку кораблей… захватить все торговые суда во внешней гавани, уплатив компенсацию иностранным владельцам, и для этого установить особый налог на наших богачей.
Лицо Ганнибала оставалось непроницаемым.
— Это безрассудно, — сказал он резко.
— Менее безрассудно, чем покориться, — ответил Намилим уже с уверенностью и сел.
Ганнибал оглядел остальных. Они беспокойно заерзали, затем несколько человек заговорили одновременно. Карталон нерешительно заявил, что, невзирая на все его сомнения, он поддержит предложение Намилима, если оно будет принято собравшимися. Балшамер разразился пламенной речью. Он начал с поддержки революционной войны, а кончил утверждением, что ситуация еще не созрела. Другие ораторы, представлявшие интересы мелких производителей, считали, что сначала надо выслушать посланцев Рима. Один из выступавших предложил отправить посольство к Массиниссе и пригласить его на совещание, чтобы раз и навсегда установить границы государств. Все более и более выявлялось расхождение во мнениях, и споры возникали уже по маловажным вопросам, например о том, захватил ли уже Массинисса часть муниципальных земель города Хуллу
[80] или не захватил.
Совещание закончилось, хотя не было намечено никакого плана действий. В сущности, победило предложение колеблющейся части демократов — ничего не предпринимать, пока не выскажутся римские послы. Ганнибал не вмешивался более в дебаты. Он мрачно слушал. Один только раз, когда его глаза встретились с глазами Намилима, на его губах появилась слабая улыбка, но сразу же исчезла, как только он отвел взгляд.
Когда все разошлись, Ганнибал сказал Бараку и Келбилиму, что намерен отправиться в город. Затем он вошел в свою молельню, где имел обыкновение беседовать с Мелькартом.
Все наносное, что мешало ему, теперь отпало, и он снова ощущал свою непреклонную стойкость, этот пробный камень ценностей. По какому пути идти? На совещании он воздержался от проявления инициативы, ему было важно узнать, как проявят себя его сограждане. В целом они его не разочаровали. Были общины, которые начинали колебаться, как только появилась опасность, и общины, где личные расчеты и прибыли, теперь, как и всегда, ставились выше общественных интересов. Но были и такие общины, где люди надежны, где для людей свобода и отчизна значили одно и то же. Эти люди пошли бы за ним в бой по первому зову.
Нумидия, а не Рим — вот главная проблема, — подумал он снова, — не Рим. — И он стал размышлять над предложением Намилима. Если решиться на открытую борьбу — тут не может быть полумер. Путь постепенных реформ, по которому он пошел, уже не будет удовлетворять — придется перейти к другим мерам: конфискации имущества, массовым ссылкам, разделу земли между бедняками — мерам, к которым прибегали руководители революционного движения в Греции. Тогда он значительно продвинулся бы по пути, которым идет Набис. У него не было возражений против такого шага. Он ликовал при мысли, какой ужас нагонит он на богатых, теперь глумящихся над демократией. Что его заботило — это вопрос, насколько стратегически действенным будет этот шаг. Даст ли он возможность пуническим общинам, разбросанным в Северной Африке, противостоять натиску Массиниссы? Или же период замешательства, неизбежный на первом этапе коренной общественной ломки, лишь облегчит Массиниссе его наступление? То, что в конечном счете Массинисса и Рим придут в столкновение, не имело значения для Ганнибала, ибо столкновение произойдет лишь после того, как Кар-Хадашт будет окончательно уничтожен. Со стратегической точки зрения он должен считаться с прочным блоком между Римом, Нумидией и богатыми семьями Кар-Хадашта, направленным против демократии Кар-Хадашта. То, что со временем в этом блоке выявятся непримиримые противоречия, его сейчас не занимало. Рим и нумидийский царь не хотели, чтобы Кар-Хадашт был сильным. То обстоятельство, что единственный путь к усилению Кар-Хадашта вел через демократическое движение, для них оказалось более или менее случайным. С другой стороны, богатые семьи безусловно хотели, чтобы Кар-Хадашт был сильным, но и служил для них средством увеличения богатства и власти. Однако силу, рожденную демократией, они ненавидели столь глубоко, что скорее готовы были увидеть свою родину похороненной под развалинами, чем допустить торжество нового строя. Мысль, что этим они сами роют себе могилу, не приходила им в голову. Они были ослеплены ненавистью и страхом…
О Мелькарт, где выбор? Он видел, что на какой бы путь он ни повернул, гибель Кар-Хадашта неизбежна. Казалось, можно было выбирать лишь одно из двух: немедленную гибель или гибель с отсрочкой.
Ему так хотелось кликнуть боевой клич, повести преданные ему общины Кар-Хадашта на открытый бой против чужой империи и против алчности собственных богачей; увидеть, как надвинутся грозовые тучи рока, когда люди пойдут в бой. Идти до конца с горящим городом, ставшим погребальным костром, городом людей, которые пошли навстречу смерти и восторжествовали над нею, умирая за свободу и братство. Его душу щемила болезненная жажда этой роковой битвы, открытого вызова той силе, которая может разграбить жилища, но не может сломить благородный дух побежденных.
И все же сила желания заставила его сомневаться в продиктованном ему решении. Какое он имеет право вести на гибель сотни тысяч людей для того только, чтобы они умерли той смертью, которой он сам хочет умереть? Зная, что одно его слово может вызвать чувство братства, он не мог не видеть ответственности, которой он не смеет злоупотреблять. Его решение должно основываться на реальном положении вещей. Была ли война совершенно безнадежной? Он не смеет сказать себе: «Гибель неизбежна, поэтому я пойду в огонь битвы и оставлю память о своем мужестве, которая будет ободрять людей в мрачные годы». А вдруг он ошибается относительно будущего? А вдруг оно таит в себе факторы, которые изменят баланс сил таким образом, как это пока невозможно предвидеть? Только в настоящем можно быть вполне уверенным. Если борьба сейчас безнадежна, то как вождь масс, которые верят в него, он не может призвать их к войне.
Но в тот момент, когда он решил отказаться бросить боевой клич, сердце у него упало. Что же произойдет? Богатые семьи погубят Кар-Хадашт своей продажностью. Обессилена будет родная земля. А он сам? Он, несомненно, будет выдан римлянам. И это так же несомненно вызовет взрыв возмущения и любви к нему народа. Борьба все равно разгорится.
Никогда еще он не сталкивался с такой трудной проблемой. Ему представилось, что он снова в Италии, во главе своей армии, что он дал заманить себя в ущелье и стоит перед выбором: либо сдаться, либо погибнуть в страшной резне.
Он решил не думать о выборе и закрыл глаза. Мир ускользал в легкой дымке, окутавшей очертания бога, а затем исчезли и сами очертания; они затухали в водовороте вечной сущности, и наконец осталась лишь вечность. То, что было законом в случайном и непрерывностью в изменении, связывало его тело с жизнью вне времени. Время расширялось, трепетало, вновь приобретало магическую форму. Его тело качнулось и отделилось от жеста бога. Он раздвинул занавеси и сказал громко:
— Я поднимаюсь в Бирсу.
С Бараком и Келбилимом, идущими за ним следом, он прошел под большой аркой Бирсы с ее тройными воротами и длинными бойницами. Несколько купцов беседовали на обширной площади, где некогда происходили священные игры. С одной стороны площади по фасаду храма поднимались террасами длинные пролеты лестницы, уставленной с обеих сторон статуями. Солнце сверкало на золотых и голубых стенных украшениях. Вокруг многочисленных часовенок для инкубации
[81] бродили больные, уплатившие за право спать в ограде храма: Эшмун посетит их в сновидении, которое жрец истолкует им утром, и они будут исцелены юным богом-спасителем.
Повернув направо, Ганнибал поднялся по массивной каменной лестнице на стену крепости. Он устремил взгляд вниз, на город, весь изрезанный расщелинами бурлящих улиц, на беспорядочное нагромождение домов внутри окружающей город высокой стены; на раскинувшиеся по ту сторону стены сады, красновато-коричневые от спелых гранатов, окаймленные кипарисами. Караван медленно приближался по главной дороге с юга. Корабль плыл мимо мыса, направляясь в гавань. Ганнибал жадно вглядывался в знакомую ему картину, словно искал в ней что-то, что ускользнуло от его взора. Не много покоя и счастья узнал он в этом городе и все же был спаян с ним. Сначала узами родовой гордости и большими земельными владениями. Затем эти узы укрепились — просто потому, что город стал главным оплотом военных сил, без которых он не мог бы начать наступление против Рима. Наконец, эти узы укреплялись преданностью к нему простого народа. Подчиняя себе мир, он всегда считал Кар-Хадашт своим основным опорным пунктом. А теперь он его потерял.
Ему казалось, что если бы он с самого начала понял значение этих уз, его жизнь сложилась бы по-другому. И он вдруг снова испытал это ослепляющее воздействие иллюзии. Ибо он не мог, идя по другому пути, стать тем, чем стал. И снова его пронзила эта страшная ирония, безнадежная преграда между сознанием и действием, как между двумя мирами, двигающимися с различной скоростью, но заключающими в себе в конечном счете один и тот же смысл. Поэтому человек и разрывается на части.
В его памяти всплыло воспоминание о первых его столкновениях с политиканами Кар-Хадашта после возвращения на родину. Как он прогнал с трибуны патриция, который высказывал глупые предложения о том, чтобы отказаться принять условия мира. Тогда он не понимал, почему пришел в такую ярость, но теперь знал, что он почувствовал в ораторе социального врага. Поступая так, он отрекался от своего сословия; он видел неспособность этого сословия действовать с прямотой и решительностью, свойственными духовно цельным людям. По той же причине он расхохотался в Сенате, когда все скорбели по поводу контрибуций. И когда они стали упрекать его, он ответил надменно:
«Если бы вы могли видеть мое сердце так же, как вы видите мое лицо, вы знали бы, что мой смех вырвался не из радостного сердца, но из сердца, обезумевшего от горя. И все же мой смех не столь безрассуден, как ваши слезы. Вам следовало плакать, когда у нас отобрали оружие и сожгли наши корабли. Но нет, вы безмолвствовали, видя, как грабят отчизну, а теперь вы сокрушаетесь, как будто наступил конец Кар-Хадагита, потому что вам приходится оплачивать часть контрибуции из собственной мошны. Боюсь, что вы очень скоро сочтете это наименьшим несчастьем из тех, которые вам еще предстоит пережить».
Его чуть не убили, когда он произнес эти слова. Как они теперь, должно быть, жалеют, что не умертвили его тогда. И теперь он должен дать своим врагам повод для торжества!
Но другого выхода не было. Он не мог предать людей, доверявших ему. Он не мог отдать их на растерзание.
После обеда он отпустил всех, кроме слуг. Он отдал несколько распоряжений на завтра и объявил, что будет отдыхать. Но оставшись наедине с Бараком и Келбилимом, он сказал:
— Я решил. Седлайте коней!
Келбилим поклонился и вышел. Через несколько минут он вернулся и доложил, что все готово. Ганнибал и Барак спустились за ним по переходу и вышли на двор позади дома. Под навесом стояли оседланные кони.
Взяв поводья, они тихо повели коней к изгороди, а затем вдоль маленькой речки. Вскоре они оказались на обсаженной терпентинными деревьями дороге и вскочили в седла. Поначалу они ехали небыстрой рысью, потом Ганнибал оглянулся на своих спутников и крикнул:
— Скорей!
Они понеслись во весь опор по большой дороге. Около полуночи взошла луна и залила всю местность серебром.
Незадолго до зари они добрались до деревни, где их ждала заранее приготовленная Келбилимом смена лошадей. При свете фонаря они поели хлеба и сыра; потом снова понеслись вперед. Они мчались весь день. Келбилим проделал этот путь несколько недель назад и все подготовил. Они скакали по пыльной дороге, пот ручьями катился по бокам лошадей, под их копытами потрескивала выжженная трава и чахлый колючий кустарник. Они неслись через поля, где рабы мотыжили землю, не распрямляя усталых спин, чтобы посмотреть им вслед; через деревни, где женщины выходили к дверям своих лачуг и звали детишек криками, напоминавшими крики грачей; по рощицам из колючего дуба, где бегали, лая, шакалы. Наконец, много раз сменив лошадей, они приехали в усадьбу, где кони ждали их у каменных кормушек, стоявших вокруг старого колодца. Тут они поели хлеба и фиников и помчались дальше — через заросли дикого вьюнка, прогромыхали вверх по каменистому холму, а потом снова понеслись по равнине. Губы у них растрескались и запеклись, веки воспалились, глаза затуманились от усталости, горло пересохло. Кости ломило, тела покрылись волдырями. Они не разговаривали.
Солнце клонилось к закату, когда они достигли гребня горы и увидели свои длинные тени, наклонно вытянувшиеся впереди их, а внизу — маленький морской порт, в котором только на судовые мачты светили еще последние солнечные лучи. Они проехали тяжелый путь — более двухсот пятидесяти миль. Теперь один из кораблей, стоящих там внизу, перевезет их на остров Керкину. Оттуда они смогут добраться до Тира.
— Мы отправимся к царю Антиоху, — сказал Ганнибал, внезапно почувствовав, что спутники вправе ожидать от него каких-нибудь разъяснений. — Я считаю, что только восточные царства с их крестьянским населением имеют достаточно сил, чтобы успешно противостоять Риму. Мы проведем ночь в моей маленькой усадьбе там внизу и на заре отплывем. И возможно, через несколько лет я снова высажусь на африканской земле во главе своих воинов.
Я выпью большую чашу молока, — думал Барак. И эта мысль была выражением бесконечной благодарности к жизни. — Большую чашу молока. Ее принесет мне молодая девушка с босыми ногами, и я осушу ее до дна, прежде чем соскочу с коня.
4
Герсаккон провел три недели в горах. Первую неделю он постился — ничего не ел и только пил воду из родника. У него было несколько монет в мешочке на поясе, но он выбросил их. Он бросил свою одежду, оставив на себе лишь рубашку, которую повязал вокруг бедер. За неделю поста его посетило много видений, он слышал много голосов и под конец увидел Звезду, упавшую с неба, и нашел брошенную Жемчужину.
Странные истины раскрывались ему в пении птиц. В эту неделю он ощущал весь мир как тонкую завесу, за которой колыхались призраки, прекрасные и страшные. Обвинения Динарха в шарлатанстве представлялись ему как искушение, как попытки уничтожить его веру, и он отверг их. Все, что говорил Динарх, воспринималось им теперь как непосредственное познание. Нельзя было отделять символ от действительности. И он в это поверил.
В конце первой недели он пришел к крестьянам в горы, они дали ему хлеба и фиников, но он съел очень мало. Прежде чем он заговорил, они поняли, что перед ними святой человек; а когда он заговорил, они приняли его слова как истины, в которых нельзя сомневаться, но которые и не нужно понимать. Достаточно было и того, что дух бога говорил и был услышан. Впрочем, присутствие пророка обязательно изгонит злых духов из деревни. Если бы его можно было уговорить поплевать на поля, которые вскоре будут засеивать, было бы еще лучше. Но некоторые женщины встревожились. Ибо он говорил им о необходимости раскаяться и войти в лучший мир, который может быть порожден только единением верующих, скреплением их узами, рожденными внутренним очищением каждого мужчины и каждой женщины наедине с Богом. Он объявил жертвоприношения источником зла. Многие крестьяне испугались, и его забросали камнями из-за стены.
Он сошел вниз, в город. За ним следовала крестьянка, которая не могла забыть его скорбных глаз. Он пошел к себе домой и освободил всех рабов. Взяв деньги, которые были в доме, он роздал их в кварталах бедняков. Ловцы губок и нищие долго шли за ним после того, как у него уже ничего не осталось, а потом пришли в ярость, повалили его наземь и топтали ногами. Крестьянка потеряла его на время из виду, но потом нашла его лежащим в грязи и укрыла в надежном месте. Три дня он был в лихорадке, затем очнулся, и ум его прояснился. Он вспоминал вслух, что делал и говорил, как будто смотрел на все со стороны. Но он не утратил своей веры. Только бред его прошел. Он все еще ощущал настоятельную потребность проповедовать людям братство и обличать жертвоприношения. Ему постоянно чудилось, что великая сила поддерживает его.
Он поднялся и вышел, крестьянка следовала за ним. Он почувствовал трепетную волну возбуждения, проносящуюся над городом; это взволновало и встревожило его, и в нем появилась еще более сильная потребность проповедовать. Это было наутро после исчезновения Ганнибала.
5
Сенат принимал прибывших римских послов. Уже разнеслась стоустая молва о Ганнибале. Одни говорили, что он исчез, что его убили, а то и похитили олигархи, другие — что он внезапно возвратится с могучей армией, собранной бог весть где. Слухи достигли Сената и вызвали смятение среди сенаторов, испугавшихся, что вдруг их ловкий ход будет отражен какой-нибудь невероятной неожиданностью, чем-то таким, что они совершенно упустили из виду. Одни только римские послы и их свита выказывали холодное безразличие.
У одного из послов лицо было сморщенное, как ядро грецкого ореха; у второго лицо было круглое, бритое, подбородок висел жирными складками, как толстая салфетка, повязанная в неизменной готовности к следующей трапезе; неопрятная борода третьего казалась пересыпанной мякиной. И у всех троих были неподвижные, холодные глаза. Они ступали уверенно, словно у них за спиной была большая армия, а не концилиум из тридцати человек.
Сенаторы Кар-Хадашта почтительно встали. Послы окинули присутствовавших ледяным взглядом. В угоду им заседание велось на греческом языке. Прервав речь председателя, человек с ореховым лицом поднялся и заявил:
— Отцы города, мы посланы сюда вашим союзником — римским Сенатом и народом, чтобы выразить вам серьезное неудовольствие: договор между нашими государствами не соблюдается вашей стороной с той доброй волей и честностью, которую мы со своей стороны всегда так строго блюдем. Вы позволили изменнику строить злонамеренные козни в вашем городе. Нам поручено представить вам документальные доказательства, что Ганнибал, сын Гамилькара, будучи суфетом
[82] вашего города, вошел в сношения с царем Антиохом с целью начать войну против римского Сената и народа. Будьте добры отвести возводимые на вас обвинения, приняв те меры наказания против изменника, какие представятся наиболее подходящими при данных обстоятельствах. Мы в Риме не имеем ни малейшего желания предписывать вам что-либо. Форму наказания изменника вам предоставляется выбрать по собственному усмотрению. Гм…
Сенат Кар-Хадашта немедленно постановил объявить Ганнибала изменником, конфисковать все его имущество, снести его дом до основания и предать его суду. Послы слушали с каменными лицами. Никто не произнес ни слова о Массиниссе. Каждый был слишком занят своими мыслями — как лучше подъехать к послам или к влиятельным членам их свиты, чтобы получить концессии, заключить торговые договоры, достать рекомендации, которые облегчат получение концессий, заключение торговых договоров и так далее.
Озмилк, например, размышлял о том, как бы ему побеседовать с глазу на глаз с Марком Клавдием Марцеллом, тем самым послом с жирным подбородком, и договориться с ним относительно своих пурпуровых промыслов, а также и о менее важных делах, таких, как морские перевозки железной руды из Испании или вывоз африканской пшеницы в Остию
[83] и Неаполь. Он уже имел предварительный разговор с одним из секретарей римской миссии и был очень доволен, что опередил Гербала в весьма важных делах. Гербал был слишком скуп, чтобы давать взятки с необходимым в таких случаях размахом. В продолжение их короткого политического перемирия Озмилку удалось добыть много ценных сведений о делах своего соперника. Быть может, еще несколько рано задираться перед ним, но он просто не мог отказать себе в удовольствии повернуться спиной к вечно сующему куда не нужно нос Гербалу. Перемирие кончилось, все снова пришло в нормальное состояние. Пусть этот гнилой Гербал бежит к двум кормилицам, которые своим молоком еще поддерживают в нем жизнь: его желудок ничего другого не переваривает. Я доведу его до разорения, — сказал себе Озмилк. — Я выкину его из фрахтового дела, отберу у него морские перевозки металла. Я снова завладею мировым рынком олова.
Однако другие патриции, как, например, Ганнон, все свое внимание уделяли политике. Они начали собирать банды из обитателей трущоб. Прошлой ночью эти банды были расставлены на ключевых позициях города — у товарных складов и других важных зданий. Шпионы постоянно осведомляли их о том, что делали демократы, и Ганнон был убежден, что несколько крепких ударов на главных магистралях города рассеют всякие сборища и предотвратят бунт или восстание. Самое главное — чтобы этот день прошел без особых потрясений. Когда будет устранена опасность взрыва, слепого бунта, бесперспективность положения демократов, несомненно, окажет свое парализующее воздействие. В худшем случае ему и его людям с помощью других патрициев и их приверженцев придется захватить Бирсу; там они смогут продержаться до тех пор, пока Массинисса не придет им на помощь, что он, разумеется, не преминет сделать со всей возможной поспешностью, так как опасность будет грозить и римским послам. По прибытии Массиниссы патриции сделают вылазку из Бирсы, в то время как нумидийцы атакуют одни из городских ворот. Это будет детской игрой — открыть ворота и впустить нумидийцев, а затем устроить резню, насиловать, жечь и грабить, чтобы хорошенько проучить проклятых демократов.
Да, все было прекрасно продумано. Ганнон встревожился, лишь узнав, что Ганнибал исчез. Но после того, как лучшие его шпионы доставили ему донесения, он решил, что Ганнибал просто бежал, бросив все на произвол судьбы. В эту минуту толпа зашумела на площади, и Ганнон вышел, чтобы еще раз взглянуть на оборонительные сооружения.
6
Герсаккон был в полном неведении о политических событиях, но по разговорам вокруг понял, что народ очень неспокоен и что совершается какое-то предательство. И снова внешний кризис начал растворяться в огне его крови, и он уже не мог различить внешнее и внутреннее смятение. Один миг, когда весь мир словно превратился в кристалл, медленно вращающийся и освещенный изнутри, он почувствовал, что ничто не может спасти мир, кроме духовного преображения, и что агония мира может кончиться только с нравственным возрождением каждого и с осуществлением доброй воли. Затем кристалл как будто треснул и раскололся на мириады быстро кружащихся форм жизни, которые были, однако, лишь тенями пламени единства, и он ощутил, что добрая воля, для проявления которой нужен мир людей, была лишь отражением в отдельной личности великого расширяющегося целого. И затем наступали мгновения, когда не было противоположности между обоими явлениями и гармония выражалась в его потребности взывать к братству и требовать немедленных действий. Все или ничего. Среднего пути не было. Средний путь — это иллюзия зла. В этом он не сомневался. Люди должны полностью отрешиться от своего нынешнего мира, от страхов, которые привязывают их к этому миру.
Он начал говорить перед народом, стоя у порога какого-нибудь дома, видя перед собой лишь расплывчатые очертания лиц.
— Я пришел к вам с призывом покаяться… Никогда не избавитесь вы от проклятия обетами и жертвоприношениями, обрядами, которые сковывают вас страхом, хоть вам и кажется, что они преграждают путь проклятию. Я пришел сказать вам о пагубности жертвоприношений, о пагубности пролития крови. Вы должны оставить этот мир. Вы должны родиться вновь.
В его проповеди было нечто неуловимо созвучное настроению и чаяниям окружавших его людей. Они вдруг почувствовали себя потерянными, лишенными своих руководителей, почувствовали угрозу, надвигающуюся на них со всех сторон. Где еще была надежда, как не в этом голосе, обещающем чудесные перемены, если только они будут верны сущности этого благочестия, которое их так глубоко взволновало?
— Где безопасность? Говорю вам, безопасность в опасности. Где надежность? Говорю вам, надежность в отказе от всего ради гласа единения. Где спасение? Говорю вам, спасение в отказе от жертвы крови.
Слушая его, они все понимали, что не в силах долее выносить свою жизнь. Мир братства возникал из их мучительных надежд, сбывался в голосе, призывавшем их не искать опоры в материальном, а доверять только голой человеческой сущности. Они трепетали и колебались, и у них вырывался вздох страстной тоски, и они кричали славу. Женщины утверждали, что видят бога в образе голубя или цветка, который сочетался с их жизнью, и они с пеной на губах бормотали голосами духов и падали ниц с горящими глазами под завесой распущенных волос. Из сознания, что все погибло, люди отнимали у себя последнюю отчаянную мечту о победе. Все было потеряно. Это был перелом жизни, ибо, когда достигнуты глубины глубин гибели, дальше уже некуда падать. После равноденствия нужды наступил взлет к изобилию.
Для Герсаккона главным было то, что его сомнения кончились навсегда и что вера вела его к полноте душевного взаимодействия, которого он жаждал. Ему не приходилось думать, чтобы находить слова. Жизнь была настолько упрощена и приведена к единой форме, что действие свободно вытекало из необходимости, что действие и слово были одно и то же. Казалось, ничто не может противостоять этой торжествующей гармонии, воплощенной в откликающихся на его зов мужчинах и женщинах вокруг него.
Он пошел по улице во главе бегущей за ним толпы. Как будто все бедняки Кар-Хадашта последовали за ним, выходя прямо из стен, появляясь из-под земли.
— Добрая весть, которую я принес вам, — только для бедных и обездоленных, для страждущих и голодных. Да будут прокляты богатые, да будут прокляты мужчины и женщины, что разжирели на крови своих собратьев. Да не останется никто из них живым на земле, которую они осквернили. Да выбросит их могила семь раз, да пожрут их трупы хищные звери…
Он был проникнут глубочайшей верой. Ничто не могло затемнить ясность его уверенности в том, что наступит миг полного обновления, когда с непобедимой силой и любовью встанет из этого смертного мира преображенное тело Нового Человека, Сына Человека, безжалостно изгоняя тех, кто держится суетности этого мира, и примет в свою радостную общность всех, у кого нет иных уз, чтобы поддержать себя, кроме уз братства. Его уверенность не поколебалась, когда испуганный главарь отряда, укрытого Ганноном в большом товарном складе, дал приказ к нападению. Пустив в ход дреколья, мечи и заостренные дубинки, отряд врезался в головную часть поющего гимны шествия. Герсаккон упал одним из первых и был растоптан ногами бандитов.
Крестьянка, следовавшая за ним во всех его пророческих странствиях, нашла его среди убитых и раненых. С помощью трех других женщин она сняла два трупа, лежавшие поперек его тела, и перенесла его в переднюю комнату одного из домов. Герсаккон был весь в ушибах и кровоподтеках, голова у него была проломлена. Когда женщины стали его оплакивать, он открыл глаза. В них в последний раз сверкнул огонь жизни, и он умер.
«Они не могут убить Бога. Он придет снова!»
Так сказала крестьянка. Она омыла его тело водой с настоем из трав. И после того как она вместе с другими женщинами тайком отнесла тело на кладбище и похоронила его, она вернулась к своей семье в горы.
7
— Несмотря ни на что, — сказал Ганнон своим друзьям, когда они беседовали после обеда, — день прошел хорошо. Только в одном месте произошли беспорядки, грозившие стать опасными: во главе толпы был какой-то безумный фанатик. Но, к счастью, один из моих отрядов оказался поблизости и подавил бунт в самом начале, не дал ему распространиться дальше. В общем, было много шума и произошло несколько уличных скандалов. Чернь была слишком неуверенна, она растерялась без вожаков. К ночи все укрылись в свои берлоги, как побитые собаки.
Гости, попивая греческое вино из изящных шестицветных бокалов александрийского стекла, что-то одобрительно бормотали, выражая свое восхищение политической проницательностью Ганнона.
— Мы нанесли несколько ударов, — продолжал Ганнон икая. Он положил на стол палочку, которой чистил ухо, и взял несколько бумаг. — Мы это сделали еще прошлой ночью, даже не зная точно, что предпримет Ганнибал. Я считал, что разумнее всего первыми нанести удар и убрать так называемых руководителей этой клики. Я послал несколько человек, переодетых кочевниками, поджечь усадьбу одного негодяя, по имени Азрубал, — он возбуждал недовольство в деревне. Налет прошел успешно. Как мне сказали, два сына этого подлеца убиты.
Он отпил от своего бокала и щелкнул пальцем по захватанным листкам папируса, который держал в руке.
— Не хочу надоедать вам подробностями. Это всего лишь подонки, получившие по заслугам… — Его взгляд задержался на нескольких именах: — Намилим, опасный бандит, главарь десятка заговоров; ему раскроили ломом череп. Кстати, его жена была изнасилована — но это уже в придачу. Балшамер сброшен в сточную трубу — шумливый эллинствующий дурак. Эсмуншилен… сожжен дом… Герон, стеклодел… бежал на прошлой неделе, вероятно в Лилибей
[84], его мастерская снесена с лица земли… И так далее. Менее важных преступников мы сможем наказать на досуге. Трибунал Сотни теперь, разумеется, будет восстановлен, как полагается. — Он хлопнул в свои жирные ладоши: — Пусть войдут танцовщицы! Живей! И уберите эту жаровню, а то кто-нибудь споткнется об нее.
Он рыгнул, вежливо прикрыв рот ладонью, и гости почувствовали по этой отрыжке, что политическое напряжение уменьшилось. Их улыбки отразили серебристый звон украшений на еще невидимых танцовщицах.
Перевод: М. Ермашева
Беглецы
Глава I. Побег
Старик сторож, сидевший у ворот, что-то бормотал себе под нос. Он боялся привидений. Потому-то ему и поручили это дело: раз он не может уснуть от страха, пусть себе сидит у входа с маленьким светильником, который гаснет от малейшего дуновенья. Управитель отказался дать ему фонарь, и старик коротал время в беседе со свирепого вида псом, нарисованным. на стене прямо против ворот. Чуть выше была надпись «Берегись собаки», которая не давала старику окончательно увериться, что перед ним живое существо, Впрочем, он рассчитывал на то, что привидения вообще подслеповаты и могут принять намалеванного пса за настоящего. Раз их так трудно увидеть, может быть, и они сами плохо видят.
Он часто делился этими соображениями с двумя молодыми рабами, недавно купленными и приведенными в дом его господином. Один из этих мальчиков, по имени Бренн, был похищен в Британии батавскими купцами. Батавы, застигнутые бурей, вынуждены были выбросить часть своего груза за борт и потому решили возместить убыток, торгуя невольниками. Другого мальчика звали Марон, и родом он был из Фракии. Старику сторожу велено было как можно старательнее учить по вечерам обоих мальчиков латинскому языку. Прошло года два, и его ученики сделали за это время немалые успехи.
Старик считал, что они славные ребята, но, пожалуй, немножко дикие. Между мальчиками завязалась тесная дружба, хотя сначала они так отчаянно дрались, что их можно было разнять, только вылив на них целое ведро воды.
Сейчас они уже ушли спать и сразу крепко заснули. А он проводил у ворот вторую половину ночи, худшую половину, после того, как его, зевая, разбудил чернокожий раб, стороживший с вечера. Счастливые эти ребята — так крепко спят!
Старик вел свою обычную беседу с изображением пса, который страшно скалил покрытые пеной челюсти.
Вдруг он услышал шаги и удивленно поднял глаза: по крытому проходу к нему шел Бренн. Старик безмятежно потянулся: он даже рад был знакомому лицу. Может быть, Бренну тоже не спится, и он не прочь будет потолковать.
— Марон заболел, — сказал Бренн. В его тихом голосе слышалась тревога. Это был высокий и стройный белокурый и голубоглазый паренек. Речь у него была неторопливая.
— А чем я ему помогу? — ответил старик, поднимаясь с место. — Жалко его, конечно; но с чего это он вздумал болеть? Я в его годы никогда не болел. И что только творится на белом свете!
Он не собирался покидать свой пост, но все же двинулся в сени, досадуя, что ничего не может сделать.
— Скажи ему, чтобы до утра подождал, — продолжал он. — До света не помрет. И дай ему на завтрак капустного отвара. Это от всего помогает, только что голову к плечам не приставит, раз уже она срублена. Да перед тем, как ему пить, ты не забудь прочитать заклинание.
В то же мгновение Бренн внезапно подошел к нему вплотную, крепко охватил его туловище, заведя ему руки за спину, и приподнял. А кто-то другой вынырнул сзади, из темноты, зажал ему рот. Сперва он пробовал отбиваться, но очень скоро перестал. Не бойся, — сказал Бренн. — Мы тебе ничего не сделаем. Мы только пойдем прогуляться.
Тут заговорил второй из нападавших, и старик узнал голос Марона.
— Надолго пойдем. Так что, пожалуй, заблудимся и не сможем вернуться. Пойти ночью гулять — самый верный способ сбиться с пути.
Бренн схватил несколько скрученных простынь, которые Марон держал наготове, и принялся связывать старика. Узлы он делал крепкие, но не настолько тугие, чтобы они причиняли боль. Потом он тряпками заткнул старику рот и еще обвязал, чтобы старик не смог вытолкнуть кляп изо рта.
— Ты уж прости, — сказал он. — Но если мы не сделаем все как следует, подумают, что ты с нами стакнулся, а мы вовсе не хотим, чтоб тебе попало. А лучше всего — послушайся нашего совета: бежим вместе.
Старик только в отчаянье таращил глаза, стараясь внушить им, что бежать совершенно бесполезно. Рабов всегда ловили или же находили мертвыми где-нибудь в болоте. И куда они могут убежать? От воинских отрядов, которые охотились за беглыми рабами, в Италии не спасали никакие уловки, а за пределами Италии повсюду хозяйничали те же римляне. Лучше уж покориться и знать, что хоть с голоду не
помрешь.
Мальчики кончили свое дело и осторожно положили сторожа на циновку. Затем они отодвинули затворы ворот и, стараясь не наделать шума, подняли засов. Ворота широко раскрылись, в лицо им пахнул свежий ветерок. Откуда-то донесся жалобный крик птицы.
Несмотря на кляп, старик делал попытку заговорить. Он хотел попросить мальчиков, чтобы они закрыли за собой ворота. А то еще с холмов прокрадется волк и разорвет его. И не такое бывало. На лбу его выступили капли пота. Вот он лежит, связанный, на полу, — а что, если появится призрак?
Но мальчики сами заперли за собой ворота и пошли по тропинке. Звезды светили очень слабо, но беглецы хорошо знали дорогу. Не оглядываясь на виллу, из которой бежали, мальчики торопливо шли вперед. Их хватятся только на рассвете, а до него оставалось еще несколько часов. Они нарочно решили бежать ночью. Хотя пришлось повозиться со стариком, но зато они выигрывали время, пока обнаружится их побег, и не было опасности, что кто-нибудь увидит, по какому направлению они ушли.
Мальчики шагали по мощеной аллее, обсаженной с обеих сторон кипарисами. Потом свернули вправо на проселочную дорогу, мимо большого четырехугольного строения, скотного двора, посредине которого был утиный пруд. Единственный выход со двора находился у помещения, где жил управитель. Но тот уже давно заперся, и все рабы спали в своих бараках.
Мальчики миновали скотный двор, тонувший в ночном мраке, и свернули на воловью тропу. Потом прошли полями, перешли речку по дощатой кладке и тихонько засмеялись, потому что Бренн едва не оступился и не угодил в воду. Речка журчала в темноте. Они стали подниматься на холм.
Теперь и идти и находить дорогу стало труднее. Они обогнули небольшую темную лощину и вышли на гребень холма. Положение несколько улучшилось, но тут им пришлось пробираться через колючий кустарник, а они не помнили, чтобы днем он здесь рос. Зато стало немного светлее, и они смогли держаться ближе к козьей тропе. Теперь мальчики находились высоко на холмах, и домов уже не было видно, — они скрывались внизу, за выступом скалы. Дул прохладный ветерок, и мальчики поплотнее закутались в шерстяные плащи.
Они были вполне счастливы, и от радости им хотелось немного побороться друг с другом, даже рискуя скатиться с холма. Светало, и они чувствовали себя сильными, способными противостоять всему и всем. Наконец-то они свободны, наконец-то они смогут присоединиться к Спартаку, который там, на юге, поднял восстание.
Начался небольшой спуск; они скользнули вдоль другого гребня, взобрались по каменистому склону и очутились в узкой ложбине. Здесь, под сенью невысоких деревьев, среди папоротников и колокольчиков, протекал ручеек.
Они остановились напиться. День уже занимался, можно было даже разглядеть свое отражение в небольшом водоеме с усеянным мелкими камешками дном. Они пробрались сквозь зеленую заросль и, приподняв покрытые густыми листьями ветви, очутились в неглубокой пещере, которую Марон обнаружил однажды, когда ему пришлось пасти на холмах коз; тогда пастух лежал в лихорадке, а все другие работники фермы находились на полевых работах.
Едва переводя дух, они уселись на сухом каменном краю пещеры и достали еду, которую им удалось с собой захватить: пять хлебцев, порядочный кусок сыра и добрую горсть маслин. Они разделили пополам один хлебец и съели его, прибавив немного сыра, а затем улеглись, намереваясь провести день в пещере. Безопаснее было переждать и идти только ночью, особенно, если ночи ясные и звезды светят достаточно ярко, чтобы указывать им путь на юг. Правда, при ночных переходах случается оступаться и падать, но уж тем хуже для их ног. Мальчики твердо решили не попасться. В конце долины находилась хижина, откуда их легко могли увидеть, если бы они сейчас пошли дальше.
Солнце уже поднялось, но в ложбину его лучи еще не проникали.
— Пойдем попьем еще, — сказал Марон, потягиваясь всем своим смуглым крепким телом и тряхнув курчавой головой. — До вечера нам еще захочется пить, а выходить потом нельзя будет.
Они выползли из-под куста и стали пить большими глотками холодную кристально-чистую воду, стараясь не оставлять следов на земле около источника. Почва повсюду была сухая и твердая, как камень. Чтобы освежиться, они вымыли лица и руки по самые плечи, а затем уползли обратно в пещеру, намереваясь спокойно пролежать там весь день.
Нелегко было лежать неподвижно, руки и ноги требовали движения; трудно было не разговаривать и не обсуждать планов и надежд на будущее. Но оба мальчика были дети и внуки охотников, людей, привыкших к одиночеству, молчанию и терпению. Они лежали на спине, заложив руки за голову. Их молодые сильные тела не так-то скоро, застынут и заноют на каменном полу пещеры.
Ими овладело то чувство радостного успокоения, которое бывает у охотника, когда он лежит в глубокой лесной чаще, забыв о том, что где-то шумит человеческая жизнь, уверенный в своих силах и почти слившийся с природой.
Время текло.
Хотя Бренн испытывал чувство полного покоя, словно жил мирной жизнью этих холмов, в его сознании было еще много других образов и представлений. В мозгу у него возникали целые картины — воспоминанье о его прежней жизни в Британии, о том, как его захватили в плен и продали, как он существовал здесь, на самнитской
[85] вилле, откуда сейчас убежал. Его господин был не злой человек: он обещал научить мальчиков разным вещам и освободить их лет через десять-двенадцать, если они будут хорошо учиться. Но какой от этого толк? Им все равно пришлось бы жить в Италии на положении рабов.
Потому у них и была одна мысль — бежать. И каждый раз, как до них доходили вести о подвигах великого вождя восставших рабов, Спартака, который сражался с римскими легионами, им страстно хотелось присоединиться к нему. Они молили судьбу, чтобы его войско приблизилось к местам, где они жили. Но оно никогда не вступало в холмистый Самниум, хотя однажды прошло уже через всю Италию. А сейчас Спартак воевал где-то на юге.
Но Бренн не только стремился попасть к Спартаку и биться под его знаменем, — он жаждал большего. После войны он хотел возвратиться на родину. Снова увидеть Британию — вот о чем он мечтал. Однажды он услышал, как его господин случайно упомянул о том, что из Гадеса
[86] в Испании отплывали в Западную Британию корабли за оловом и серебром. И Гадес стал тем местом, куда он рвался, хотя и понятия не имел, где оно находится. Но моряки, они-то, наверно, знают, — это ведь где-то на море.
Глава II. На вершине холма
Мальчики насторожились и совсем притихли, почти не дыша: они услышали чьи-то шаги. Бренн повернулся медленно, бесшумно, так, чтобы видеть сквозь листву куста, которая настолько хорошо скрывала отверстие пещеры, что казалось, будто за нею не дыра, а гладкая поверхность камня.
По склону холма к ним приближался человек, за ним шел другой. Они были вооружены. При виде прозрачного водоема у них вырвался радостный крик. Напившись из горсти, они оглядели ложбину и обследовали кусты вблизи небольшой рощицы. Бренн и Марон могли слышать, как они переговаривались между собой. Мальчики знали их — это были работники с виллы, которых, вероятно, выслали за ними в погоню, пообещав награду, если поймаю беглецов.
— Здесь негде спрятаться.
— Да, они вернее всего пошли на восток, к побережью, Надеются доплыть домой, к матке.
— Устал я от этой охоты. Давай отдохнем.
Они сели, развязали свои котомки и принялись торопливо и жадно есть. Затем поудобнее разлеглись на земле, вяло перебрасываясь словами. Бренн следил за ними сквозь густую листву, не спуская глаз, и внезапно ему показалось, что один из этих людей, рыжеволосый парень, подмигнул другому. Подмигнувший тотчас же заговорил как-то особенно громко.
— А что, если и нам с тобой пойти да пристать к Спартаку? Опостылело мне тянуть эту лямку на вилле.
Другой подскочил, словно изумившись, но сразу же опять улегся и ответил:
— Ладно. Бежим отсюда, как те мальчишки. Только у них одних и хватило ума.
— Хотел бы я знать, где они, чтобы можно было двинуться вместе.
Марон резким движением перевернулся. Он тоже слышал этот разговор и теперь вопросительно смотрел на Бренна. Выйти им из пещеры и показаться? Хорошо было бы, если бы к ним присоединились двое взрослых мужчин, которые лучше их знают местность и повадки жителей. Марон поднял было руку и дотронулся до куста, но еще не решительно, сам не зная, поднять ли ветку, позвать ли тех двоих. Но Бренну в их разговоре почуялось что-то деланное, и он был уверен, что заметил, как один из них подмигнул. И почему это, подумал он, они теперь замолчали, словно чего-то ожидая?
Бренн схватил Марона за руку и покачал головой. Марон был смущен, но не стал спорить с Бренном. Он опять откатился в свой угол и с некоторым сомнением смотрел на Бренна. Тот прижал палец к губам.
Наконец один из мужчин прервал молчание.
— Зачем ты это сделал?
Рыжий засмеялся.
— Сам не знаю. Я что-то почуял. Знаешь, как бывает, когда тебе кажется, что сзади на тебя смотрят. По спине словно дрожь пробегает. Говорят, это значит, что кто-то прошел по тому месту, где тебя зароют, когда помрешь. На этот счет я ничего не скажу, но только я почуял, что на меня смотрят. Я подумал: если мальчишки спрятались поблизости, — они мигом объявятся, когда услышат, что мы тоже решили присоединиться к мятежникам.
Другой плюнул в водоем.
— Хочешь, так иди к этим болванам. Дело их —, дрянь, и скоро им конец. Легионеры только играют с ними в прятки. А потом, как затрубят в трубы, сразу бросятся и затопчут их; сапоги-то у легионеров гвоздями подбиты. Нет, я за порядок и закон.
Оба были явно раздражены и говорили с оттенком озлобления.
— Да, да, так, чтобы тебе никто не мешал воровать?
— А ты помалкивай.
— Ну, я-то знаю, как ты взвешиваешь мешки с зерном. Ты в каждый мешок переложишь немножко, а купец тебе за это ладошку посеребрит; ведь правда, а?
— Врешь ты все, — закричал другой, весь багровея.
Бренн и Марон переглянулись, радуясь, что не попались на удочку. Что они могли бы сделать против двух дюжих парней с ножами за поясом?
Но те двое продолжали ссориться и больше не возвращались к случайно возникшему у них подозрению, Слушая их перебранку, мальчики поняли, что это два старых врага, которые по многим причинам завидуют друг другу. Спор разгорался, и теперь оба смотрели друг другу в лицо с яростью, часто и коротко дыша.
— Кто подвел меня под плети из-за того, что коза сломала ногу?
— Нечего чушь молоть! Я знаю, почему бесишься. Но я разве виноват, что Флавия тебе не улыбается?
Говоривший поднялся с ядовитой усмешкой.
— Ну, я пойду обратно.
Рыжий побагровел. Когда другой повернулся, чтобы идти, он выхватил из-за пояса нож и, громко выругавшись, всадил ему в спину. Тот глухо застонал и упал ничком. В то же мгновение Марон, не в силах сдержать возмущения при виде этого подлого удара, издал громкий негодующий возглас.
Рыжий огляделся по сторонам, сам пораженный силою нахлынувшей на него ярости и не уверенный в том, что действительно слышал чей-то крик. Он отер пот с лица и, никого не видя вокруг, старался убедить себя, что слышал только эхо того крика, который вырвался у убитого.
— Я не хотел этого делать, — пробормотал он, не то про себя, не то призывая в свидетели рощицу. — Он сам меня вынудил. Он целыми неделями днем и ночью меня преследовал. Незачем ему было поворачиваться спиной.
Убийца снова огляделся, как затравленный зверь.
— Кто это звал?
Он хрипло крикнул:
— Ну, выходи! Я тебя не боюсь. Это не я его убил.
Но теперь эхо не отвечало. Почему же на тот крик оно отозвалось?
Охваченный ужасом, убийца пустился бежать, спотыкаясь на подъеме, скользя на голом камне. Ему чудилось, что его преследует разгневанный и мстительный дух источника. Все знают, что самое худое дело — это осквернить источник. Даже просто замутить его — и то преступление. Так как же назвать то, что он сейчас содеял у священного места, где родник вытекает из недр земли?
Марон уже не в силах был сдерживаться. Он разразился глумливым хохотом, да так громко, что ложбина действительно огласилась отзвуками его смеха. Убийца и без того был насмерть перепуган, а сейчас он от страха потерял равновесие и скатился назад в ложбину. С отчаянными усилиями взобрался он на большой валун, одно мгновение маячил на фоне неба и затем исчез.
— Глупая это выходка, — сказал Бренн.
— Не мог я сдержаться, — ответил Марон, — Надо же было как-нибудь напугать этого скота.
Они выползли из пещеры и подошли к тому, кто получил удар ножом. Но совершенно ясно было, что он мертв.
— Это нам очень напортит, — мрачно произнес Бренн.
— А почему? Мы же решили не возвращаться, что бы ни случилось.
— Тот парень наверняка скажет, что это мы сделали, что мы набросились на них обоих. А это значит, что за нами устроят настоящую охоту. Или ты не понимаешь? Ведь теперь все работники на вилле перестанут быть за нас.
Марон свистнул и нахмурился.
— Надо поскорее убираться.
Он взобрался наверх по склону холма и осторожно посмотрел с его гребня в ту сторону, куда убежал убийца.
— Их там, на пастбище, человек шесть, а тот им что-то лопочет и указывает сюда.
— Я же тебе говорил! Он не уверен, что мы здесь. Он, верно, думает, что кричал какой-нибудь злой дух, но ему придется сказать, что он нас здесь видел, чтобы объяснить, кто убил его товарища.
Мальчики быстро собрали остатки своей еды и объедки, оставленные преследователями, и по другому склону выбрались из ложбины. Они хотели достичь долины по ту сторону холмов, откуда через узкое ущелье можно было выйти на южную равнину, Только бы пробраться через этот проход — и опасность сразу уменьшится: ведь тогда они будут уже за пределами владений своего господина, в лесистой и холмистой местности.
Беда заключалась в том, что на верную тропу они могли выйти только через широкое поле, где их сразу увидел бы всякий поднимающийся по холму к ложбине. Но тут уж ничего нельзя придумать. По другую сторону холма было открытое место, где их тоже сразу увидят те, кто окажется над ложбиной. Придется бежать через поле.
Сердца их и без того полны были решимости вырваться на свободу. Но теперь добавилось еще новое побуждение. Господин их не был жесток. Если бы их поймали тогда, когда могли обвинить только в попытке к бегству, он, возможно, ограничился бы тем, что разбранил мальчиков за неблагодарность да велел бы запирать их на ночь, да на некоторое время посадил на хлеб и воду. Но теперь, когда возникает обвинение в убийстве, а они не будут иметь никакой возможности оправдаться, и вся видимость — все явные улики окажутся против них, так легко им уж наверняка не отделаться.
Глава III. Через ущелье
День клонился к вечеру, но было еще достаточно светло, чтобы их предприятие оказалось опасным. Припав к земле за кустами, мальчику решили немного обождать, перевести дух и удостовериться в том, что они не потеряли своих припасов, спрятанных под одеждой. Потом они крепко пожали друг другу руки, рванулись вперед и побежали через поле.
Они уже почти достигли изгороди, огораживавшей поле, как вдруг позади раздался громкий крик, и они поняли, что обнаружены. Не оглядываясь, они выпрямились, помчались во всю прыть, перепрыгивая через кусты, и очутились на тропе. Еще два-три рывка вперед, и вот они обогнули холм и скрылись из глаз тех, кто поднимался к ложбине. Но они хорошо понимали, что преследователи не отстанут. Раньше рабы с виллы не стали бы искать их особенно тщательно и не очень соблазнились бы даже наградой. Но теперь, охотясь за убийцами своего товарища, они все сделают, чтобы поймать беглецов.
Однако ноги у мальчиков были быстрые и к тому же от преследователей их отделяло порядочное расстояние. Они были уверены, что смогут добраться до конца долины гораздо раньше их и найти верное убежище по ту сторону, где местности никто хорошо не знал. Поэтому они бежали хотя и быстро, но легко и ровно, то рядышком, если тропа достаточно расширялась, то следуя друг за другом.
Но, когда, обогнув выступ холма, они оказались на другой его стороне, у Марона вырвался возглас отчаяния, и он указал вниз. По нижней тропе бежали два человека. Ясно было, что их выслали вперед преследователи, которые разгадали замысел мальчиков. Они бежали уже давно, а путь по нижней тропе был ровный, и мальчики не имели никакой надежды опередить их.
Не останавливаясь, они внимательно осмотрели расстилавшуюся внизу местность и поняли, что единственное спасение для них — укрыться в леске, который темнел слева в узкой части долины. Между холмами уже сгущались вечерние тени, а захватить беглецов ночью у преследователей не будет никакой возможности. Там слишком много деревьев, на которые мальчики могут взобраться, чтобы спрятаться среди ветвей, там есть стволы с широкими дуплами и бесчисленные расщелины на склонах холмов.
Теперь тропа шла под гору, и мальчики бежали со всех ног, не спотыкаясь и потому не боясь упасть. Они достигли первых деревьев, которые росли внизу, вошли в сгущавшуюся под ними мглу и затем, остановившись, стали наблюдать за своими преследователями, которые как раз появились из-за выступа противоположного холма. Только одно ничтожное мгновение стояли они и смотрели, а затем опять пустились бежать, уходя все глубже и глубже в лес.
До них доносились голоса преследователей. Те явно остановились, чтобы обсудить, стоит ли сейчас обшаривать всю лесную чащу, и, быстро договорившись, снова вышли на дорогу. Они решили сосредоточить свои силы у выхода из долины и в то же время держать под непрерывным наблюдением все пространство до самого леса, чтобы мальчики не имели никакой возможности ускользнуть в темноте.
В роще стало уже совсем темно. Бренн и Марон понятия не имели, куда они направляются, но ни на минуту не замедляли шага, Они не рассчитывали спастись от погони тем путем, которым сейчас шли, так как хорошо знали, что здесь долину замыкают обрывистые склоны. Попытавшись влезть на них, они только сломают себе шею или заблудятся на голых вершинах, где с восходом солнца их сразу обнаружат преследователи.
Наконец они остановились.
— Давай поедим, — предложил Бренн подавленным голосом.
— Надо подкрепиться: нам понадобятся все наши силы.
Они уселись на выступавших из земли корявых корнях дуба и пожевали немного хлеба и сыра с маслинами. После еды им стало легче. Найдут же они какой-нибудь выход!
Внезапно Марон вскочил и крадучись подбежал к старому дуплистому дереву, покрытому желтыми грибными наростами. В руках он держал развернутый плащ. Послышался шум птичьих крыльев, какая-то возня. Марон замотал край плаща и, быстро выбросив его вперед, как сеть, поймал что-то и сейчас же прижал плащ к земле, несмотря на все усилия, которые делала его добыча, чтобы вырваться.
— Что это там у тебя? — прошептал Бренн.
— Сова. Я увидел, как она глазела на меня из темноты и, понимаешь, сперва даже испугался. А потом захотелось проверить, смогу ли я ее поймать. Она сидела на дереве.
— Сова! — с раздражением сказал Бренн. — А на что нам сова?
— Да просто так. Мне хотелось проверить, хватит ли у меня ловкости, как бывало прежде. Вот я поймал ее, и мне вроде легче стало, — будто я снова дома, на воле, в лесу. Но похлебки из совы не сваришь, даже если бы у нас был огонь и горшок. Отпущу ее на свободу.
— Нет, не надо, — сказал Бренн и призадумался, — Знаешь, мне как будто пришла в голову одна мысль. Обожди-ка. Давай поглядим на нее.
Марон осторожно пошарил под плащом, нащупал лапы совы, быстрым движением откинул плащ и приподнял сову. Длинные крылья распростерлись и забили; сова попыталась ударить клювом Марона, который, хохоча, крепко держал ее в вытянутой руке.
— Да, у меня как-то от души отлегло, — говорил он с радостным смехом. — Хорошо это — чем-нибудь завладеть, хотя бы совой. Ах, скорей бы домой, во Фракию.
Сова испускала резкие, неприятные крики и отчаянно отбивалась, но Марон держал ее крепко.
Отступив на несколько шагов, Бренн внимательно смотрел на Марона и его добычу. Над деревьями распростерлась ночь. И, когда сова, не в силах вырваться, успокоилась на руке у Марона, Бренн увидел, как ее большие круглые глаза сверкают во мраке ярким и жестким огнем животного страха.
— Видишь, она тебя сперва напугала, — сказал он Марону, — и мне самому не очень-то приятно на нее смотреть, хотя ты держишь ее в руке и я знаю, что это такое. А как ты думаешь, обрадуются ли те парни, если увидят ее в полночь?
— Испугаются, конечно, да потом сразу же распознают, в чем дело.
— Не распознают, если мы об этом позаботимся.
Бренн разъяснил Марону свой замысел, и тот от удовольствия даже присвистнул. Потом Бренн оторвал от своей туники несколько полосок материи и — правда, не без труда — обвязал ими сову так, чтобы она не могла распускать крылья; затем он связал ей лапы.
Марон попытался приручить сову, подсовывая ей кусочки хлеба. Но она едва не клюнула его в пальцы, после чего он оставил свои попытки и осторожно положил ее на ровное место среди дубовых корней, сплошь заросшее фиалками. Мальчики уселись и стали спокойно ждать, когда станет совсем темно.
Луны все еще не было, только слабо светили звезды, и это их очень устраивало. Почувствовав, что наступило время, когда люди, преследовавшие их, несколько поостыли и немного приуныли от одинокого бдения в долине, от холода и мрака ночи мальчики взяли сову, которая сопротивлялась и кричала, и двинулись из леса, по направлению к дороге.
Пошли по краю тропы, пока не оказались довольно близко от узкого прохода, где наверняка устроена была засада. Тут они остановились и приступили к делу. Бренн вскарабкался на плечи Марона и завернулся в плащ таким образом, чтобы в смутном полусвете казалось, будто оба они покрыты одним плащом. Так возникла гигантская фигура в восемь футов ростом; а в капюшоне, пришитом к плащу на случай непогоды, Бренн держал над своей головой отбивающуюся сову. Спереди, между краями плаща, была щелка, сквозь которую Марон мог видеть, куда ему двигаться.
Великан с птичьей головой и круглыми, как блюдце, глазами медленно шествовал по тропе. Марону было не особенно тяжело нести на себе Бренна, но он боялся споткнуться.
Мальчики дошли до места, где тропа слегка изгибалась, и все мысли у них невольно напряглись: тут как раз, наверно, и находится засада. Как все обернется? Только бы иметь уверенность, что глаза у совы горят с той же пламенной яростью, которую они ощущали в сове. Но совы они не могли видеть и только заклинали судьбу, чтобы ее глаза действовали так, как им было положено.
Откуда-то спереди донесся вопль, и мальчики ощутили прилив бодрости. Марон слегка покачнулся, стараясь крепче охватить руками ноги Бренна, потом он решительно двинулся вперед. К ужасу своему, работники с виллы, воспитанные в страхе перед духами, населяющими всю природу, увидели исполинскую фигуру, высотою с дерево, как им показалось, колыхавшуюся под самым небом, а над этой фигурой — пламенеющие глаза злого духа.
Сова крикнула, и в то же мгновение сквозь ущелье, между суживающимися холмами, налетел порыв ветра с протяжным и жалобным воем, какой можно услышать только в подобном месте. Эти люди часто слышали вой ветра, но в сочетании со страшной фигурой он звучал, как вопль, полный нечеловеческой муки и вместе с тем угрозы.
Охваченные ужасом, они обратились в бегство, карабкаясь на крутые склоны, ныряя под кусты, прячась за камни, — злой дух неуклонно двигался вперед.
Бренн выждал, пока они с Мароном миновали самое опасное место, откинул капюшон и повернул сову так, что теперь она смотрела назад, в сторону засады, оставшейся у них за спиной. Это не даст преследователям опомниться и обдумать, что за странное явление предстало перед ними. Осмелившись снова взглянуть на призрак, они решили бы, что у злого духа имеется вторая пара глаз на затылке.
Так мальчики и шли, пока тропа снова не завернула вправо. Тогда Бренн соскользнул на землю, и они с Мароном от радости расцеловались.
— Подожди, — молвил Марон.
Он заботливо поднял сову, развязал путы и подбросил ее в воздух.
— Ты заслужила свободу. И мы тоже.
Сова расправила затекшие крылья, неловко перекувырнулась в воздухе и пришла в себя. С хриплым криком она исчезла во мраке.
Мальчики во всю прыть побежали по тропе. Было достаточно светло, чтобы не заблудиться в незнакомой местности. Они — на воле! К утру они уйдут далеко на юг!
Глава IV. Голод
К тому времени, когда небо побледнело от первых тусклых лучей зари и все предметы стали видны отчетливей, мальчики уже пробежали такое расстояние, что ус-. тали, как собаки, но зато оказались в совершенно новой для них местности. Они ощущали себя в безопасности, но понимали, что это ощущение скоро исчезнет, если им не удастся сразу найти какое-нибудь убежище. Оглядевшись, они заметили рощицу в расселине на склоне холма и тотчас же направились туда. Там они разлеглись на сухой земле, усыпанной сосновыми иглами, съели остатки своих припасов и стали обдумывать положение.
Мальчики действительно продвинулись к югу. Им обоим легко было убедиться в этом по солнцу и по звездам, но они не имели ни малейшего представлений о том, как далеко придется идти и какие препятствия лежат между ними и войском восставших рабов. Однако они пришли к заключению, что восставшие не могут быть очень близко, иначе на вилле было бы гораздо больше разговоров и слухов, встречались бы легионеры, идущие походным маршем или останавливающиеся на отдых, доносился бы шум отдаленной битвы среди холмов.
Мальчики лежали в благоуханной тени сосен и спорили, в скольких днях пути на юг находится Спартак и его войско. Марон сказал, — в десяти, а Бренн тотчас же возразил, что десять — это уж слишком много. «Дней через пять, — утверждал он, — мы наверняка окажемся в самой гуще событий».
И вот оба мальчика ссорились из-за расстояния; ведь в трудных обстоятельствах между людьми часто возникают раздоры по поводу вещей, о которых никто из спорящих ровно ничего не знает. Возможно, расстояние измерялось всего двумя днями пути, а возможно, и пятьюдесятью, — по-настоящему ни один из них и не мог ничего знать.
Но когда они очень разгорячились от спора, Марон вдруг засмеялся и сказал, что он, пожалуй, ошибается.
— Да и я тоже, — признался Бренн, в свою очередь, рассмеявшись. — У меня это только одни догадки.
Они лежали и смотрели вниз на дорогу. Мимо них прошло несколько путников. Проехал человек в повозке в сопровождении вооруженных всадников — рабов и пеших слуг; появилась кучка работников, мальчик со стадом овец и весьма ретивыми овчарками. Заметив, что у пастуха через плечо перекинута котомка с припасами, мальчики ощутили приступ голода. Пока. они смотрели, он открыл котомку и достал из нее что-то похожее на яблоко.
— Спустимся и спросим, может быть, он присоединится к нам, — предложил Марон.
— Нет, он, чего доброго, испугается и позовет на помощь, — возразил Бренн, борясь с искушением, хотя у него слюнки потекли. — Да еще услышит кто-нибудь. И, вдобавок, как только его господин обнаружит, что он сбежал, будет новая погоня.
Они продолжали наблюдать за мальчиком и увидели, что он гонит овец дальше, к ложбине, где виднелись зеленые деревья и кусты; они поняли, что там должен быть источник, скрытый за выступом горы. Все же им было досадно, что они не прошли немного дальше и не обнаружили источника прежде, чем выбрали себе убежище; им ужасно хотелось пить, а под соснами днем стало очень. жарко.
Но как медленно ни катилось по небу солнце, сумерки, наконец, наступили. Тени удлинились и поползли на склоны, где лежали мальчики, потом солнце спустилось к гребню противоположных холмов и скрылось за ними. С неба все еще струился некоторое время его отраженный свет, и мальчикам пришлось ждать, хотя в горле у них совсем пересохло.
Однажды, когда они уже потеряли терпение и намеревались выйти из своего укрытия, с дороги донесся стук лошадиных копыт и они увидели гонца в развевающемся по ветру военном плаще, галопом мчавшегося с юга. Какие он вез известия?
Им очень хотелось знать, но пришлось снова укрыться в тени сосен на сухих хвойных иглах, которые уныло шуршали под ногами. Они ждали, пока вечер не спустился окончательно на потемневшую дорогу. Тогда мальчики соскользнули вниз по откосу и побежали к ложбине, где, должно быть, журчали прозрачные струи ручья.
Они нашли источник. Земля вокруг была утоптана копытами овец. Мальчики с наслаждением напились, потом они смыли со своих тел сухую пыль этого бесконечно долгого дня. Однако через несколько мгновений они перестали ощущать радость утоленной жажды и ими завладело мучительное чувство голода.
Но где-нибудь должна же находиться какая-нибудь пища; отыщут же они поле с ранними овощами или амбар, в котором можно будет чем-нибудь поживиться. Они так радовались своей свободе, что не хотели беспокоиться ни о чем, даже о такой важной вещи, как еда, и бодро двинулись дальше.
Да, им понадобился весь их запас бодрости. В эту ночь они ничего не нашли, кроме недозрелых яблок, от которых у них разболелись животы, и весь следующий день они пролежали в камышах у небольшой речки. Здесь они хоть от жажды не страдали; а под вечер Марон, ползком среди камышей, отправился искать гнезда диких уток и возвратился с шестью яйцами. Мальчики осторожно разбили яйца и с радостью убедились, что они только что снесены.
Они проглотили яйца сырыми, запили водой, журчащей среди чисто вымытой гальки, а потом нашли какие-то ягоды, которые Марон объявил съедобными: на ягодах были следы птичьих клювов, а то, что клевали птицы, наверняка не ядовито.
Этой ночью идти им было труднее: они заблудились, свернув на тропинку, показавшуюся им кратчайшим путем, потом опять вышли на дорогу, но попали к деревне, где их едва не поймали. Залаяла одна собака, потом залились лаем остальные. Мальчики услышали, как открываются двери, бросились бежать назад и спрятались под плетнем, цепенея от страха, что рассвет застанет их у всех на виду. Но в предутренних сумерках им удалось обойти деревню и двинуться дальше, прежде чем люди вышли из домов. Теперь их нестерпимо мучил голод, и они, уже не остерегаясь, шли по дороге, несмотря на то, что стало совсем светло.
Промчался какой-то всадник; беглецам показалось, что он подозрительно посмотрел на них, но это их не смутило: на случай, если их начнут расспрашивать, мальчики решили сказать, что они подпаски, но заблудились и разыскивают стадо. Они видели работающих в поле людей, строения большого поместья, но не осмелились подойти ближе. Проникнуть в какую-нибудь ферму и при этом не попасться было невозможно, потому что каждая ферма имела всегда только один вход, находившийся под постоянным наблюдением управителя или его жены, а за ним — внутренний двор, куда выходили все жилые и хозяйственные помещения.
Наконец, к великой своей радости, мальчики нашли немного еды на перекрестке двух дорог; это было приношение, которое поселяне оставили местному божеству, идя на работу. Перед четырехугольным деревянным чурбаном, грубо обтесанным в виде человеческого туловища с плечами и головой, стояло глиняное блюдо, а на нем — яблоко, маслины, хлебные корки. Мальчики пробормотали несколько слов, прося этого деревянного бога простить им грех, который они совершают по жестокой необходимости, и набросились на еду, спугнув воробьев, дравшихся из-за хлеба.
Они были рады, что птицы первыми начали хозяйничать здесь: им казалось, что это уменьшало их собственную вину. Они разделили добычу и, с трудом сдерживая голодное нетерпение, шмыгнули за куст. Потом уселись под деревом на сухую землю и съели свои доли, стараясь не обронить ни крошки. Им хотелось извлечь из еды все, что возможно, и казалось, что, если они будут есть медленно, она принесет им больше пользы и лучше усвоится. Они жевали медленно и осторожно, чтобы не обременить изголодавшийся и ослабевший желудок. И правда, от долгого голодания нутро у них так обессилело, что мальчики не могли наслаждаться пищей, как рассчитывали. Они не находили в ней настоящего вкуса. Им было трудно есть; во рту пересохло, и казалось, что пища камнем ложится на желудок.
Но все же она была съедена слишком скоро; они полулежали, опершись спиною о ствол дерева, пока им не стало легче. Пища переваривалась, кровь быстрее струилась по жилам, и снова захотелось есть.
Теперь голод мучил их больше, но зато силы прибавилось, а это было важнее всего. Мальчики поднялись и побежали по дороге. Местность стала более пустынной, они уже никого не встретили, кроме весьма угрюмого человека с коровой, который даже не ответил на их робкое приветствие. Они перестали бежать и пошли быстрым шагом, становясь все уверенней, по мере того, как на полях, окаймлявших дорогу, виднелось все меньше и меньше следов человеческого труда.
С наступлением сумерек мальчики заметили одинокую виллу, приютившуюся за небольшой рощицей. Набравшись храбрости, они решили, как только мгла совсем сгустится, подойти к ней поближе в надежде обнаружить огород или фруктовый сад, где можно будет найти что-нибудь съедобное.
Они залегли под кустом, удивляясь, почему кругом не заметно никаких признаков жизни. Не слышались голоса людей, возвращавшихся с работы, не мелькал свет факелов или фонарей. Молчание немного пугало мальчиков, и они уже хотели было идти дальше, но все усиливавшиеся муки голода побудили их приблизиться к этому жилью.
Они стали ползти к дому. Но там по-прежнему царила мертвая тишина. Вдруг Марон схватил Бренна за руку.
— Смотри, — прошептал он. — Ворота выломаны.
Они вгляделись в сумрак и убедились в том, что створы ворот, ведущих во двор, разбиты и повисли на петлях.
— Как ты думаешь, что здесь произошло? — снова начал Марон.
— Дело ясное, — промолвил Бренн, дрожа от возбуждения, — либо здесь побывали повстанцы, либо рабы вырвались на волю, чтобы примкнуть к ним.
Мальчики вылезли из кустарника, в котором прятались, и пошли по направлению к брошенной вилле.
Глава V. На вилле
Они были уверены, что в доме никого нет, и все же дрожали всем телом, проходя через разбитые ворота во двор. Какие-то живые существа метнулись от них в разные стороны, и они сперва испугались, но потом сообразили, что сами же спугнули уток и гусей, которые бросились к пруду посредине двора, отчаянным шипением, гоготом и кряканьем выражая пришельцам свое негодование. Весь этот шум отдавался эхом по строениям виллы, но грубого голоса управителя не было слышно. Управитель либо скрылся вместе с рабами, либо его убили.
Наконец-то мальчики действительно ощутили, что восстание не выдумка, что оно — правда. Это вдохнуло в них новые силы, хоть они и не могли всецело отдаться радостному чувству здесь, на заброшенной вилле, темной, как гробница. Вскоре голод заставил их подумать о самом насущном. Уж здесь-то где-нибудь наверняка имеется съестное. Сколько бы припасов ни забрали с собой рабы, что-нибудь да осталось, хотя бы зерно в закромах и объедки на кухне и в кладовой.
Первым делом следовало раздобыть огня, а это было нелегко. В кухне должны находиться кремень с огнивом; но как их разыскать в темноте? Мальчиков дразнила и мучила мысль, что в этом пустом, оставленном. без присмотра доме, наверно, имеются всякие припасы, но добраться до них без огня невозможно. А кто знает, что может случиться до утра? Могут появиться легионеры или какие-нибудь чиновники и понятые, посланные владельцем или его наследниками, если владельца убили бежавшие рабы.
При этой мысли мальчики вздрогнули — не от жалости к этому владельцу, что бы там с ним ни случилось, а потому, что не очень-то приятно находиться темной ночью в доме, где, может быть, присутствует разгневанный дух — дух человека, который не получил подобающего погребения. Рабы, вероятно, бежали поспешно, — иначе они не оставили бы уток и гусей.
Но что-то надо было предпринять.
— Я мог бы раздобыть огня с помощью двух деревяшек, — сказал Бренн. — Но их у нас так же нет, как и кремня.
Хотя в темноте голос его звучал глуховато, все же от одного этого звука мальчикам стало стыдно своего страха, и к ним вернулось мужество.
— Давай держаться вместе, — сказал Марон, — и поищем чего-нибудь.
— Да, только сперва хорошенько все обдумаем, — ответил Бренн. — Тут, у ворот, наверно помещение управителя. А сейчас же за первой комнатой должна находиться кухня.
Они заметили, что мрак несколько поредел, и вдруг увидели луч месяца. Это подбодрило их больше всего; теперь они уже не ощущали безнадежного одиночества. Они послали месяцу воздушный поцелуй, как благоговейное приветствие, и вошли в сторожку управителя.
Дверь была открыта и, как ворота, сорвана с петель. Мальчики пробирались через опрокинутые столы и скамьи, уже не ощущая такого страха, как в первое мгновенье, когда они вступили в этот непроглядный мрак. Вдруг Бренн громко завопил и отпрянул назад, отчаянно стараясь освободиться от чего-то, в чем он запутался, — это оказалась дверная завеса. Встревоженный Марон бросился ему на помощь, однако, разобравшись в чем дело, принялся смеяться. Бренн отбросил завесу и тоже рассмеялся. Но оба они ощутили, что смех у них совсем неестественный, и когда услышали отзвуки его в пустом доме, ими опять овладело неприятное чувство. Они перестали смеяться и прислушались. Теперь ничего не было слышно, кроме заглушенного утиного кряканья да вздохов ветра.
Отодвинув завесу, они проникли в другое помещение. Марон споткнулся о скамью, и по запаху они сообразили, что находятся в кухне: пахло гниющими овощами. В помещении имелось окно, выходившее во двор, и сквозь него проникал тусклый лунный свет, достаточный, чтобы рассмотреть окружающие предметы, после того, как глаза привыкли к темноте.
Бренн нашел сосуд, в котором когда-то было оливковое масло, и горшок с прогорклым жиром. Марон увидел ларь для муки и с надеждой открыл его, но тотчас убедился, что ларь давно опустел. Они уже начали бояться, что рабы унесли все, что стоило взять с собой, как вдруг Бренн стукнулся головой о большой кусок копченой грудинки, свисавшей с крюка в потолке. Он не мог удержаться от торжествующего крика и потянул грудинку вниз; веревка порвалась, и на голову ему посыпались хлопья сажи и паутины.
Но на такие пустяки нечего было обращать внимания. Он торопливо пробрался к окошку, обследовал свою находку и обнаружил, что она вполне пригодна для еды.
— Ну, тяни, — сказал он Марону.
Они не смогли разорвать грудинку пополам и только вымазали руки в сале. Не в силах дольше ждать, они стали по очереди отгрызать куски, каждый от своего конца.
После этого им повезло. Наткнувшись на какой-то сосуд, Марон обнаружил разбавленное водой вино, и они смогли утолить жажду. Бренн нашел банку с маринованными маслинами, горшочек с рыбным соусом и — это была самая лучшая находка — несколько черствых пшеничных хлебцев и мед. То, что хлеб был черствый, не смутило мальчиков, — они привыкли к хлебу, который нарочно выдерживали, пока он не зачерствеет; свежевыпеченный хлеб предназначался только для господ: им делать нечего и они могут портить себе пищеварение.
Все найденное мальчики разложили на полу у окна, куда падали бледные лучи месяца, и в перерывах между едой считали и пересчитывали свои запасы. Никогда в жизни они не видели такого количества пищи. Ее хватит на многие годы. И в то же время им жалко было есть ее: хотелось сохранить эти запасы, смотреть на них, любоваться и прикидывать, на сколько их хватит.
И вот, когда Бренн случайно оперся о подоконник, он что-то смахнул с него локтем и, нагнувшись, чтобы поднять упавший предмет, обнаружил, что это кремень, которым пользовались для разжигания огня в очаге в тех редких случаях, когда он совсем угасал. Поискав немного, они нашли стальной нож и попытались выбить искру из кремня. Марон вытащил из кучи топлива за очагом несколько древесных стружек, оторвал полоску материи от шерстяной завесы и надергал из нее волокна. Стружки и волокна он держал в руке, пока их не подожгла искра. Он бросил горящие стружки в очаг и подложил щепок.
— Найди мне светильник, да такой, чтоб в нем было масло.
При свете дрожащего пламени Бренн заметил на полке светильник, но без масла. Другой светильник, стоявший на подставке в углу, оказался налитым до половины. Бренн принес его к очагу, где Марон и зажег его горящей лучиной.
— Теперь можно пойти и осмотреть дом, — сказал Марон.
Бренн колебался.
— Ты думаешь, так уже это нужно?
— Сам не знаю.
Они призадумались. Им не хотелось осматривать дом, но они не могли чувствовать себя в безопасности, пока не сделают этого. Правда, и после осмотра полной безопасности не будет, ведь кто угодно мог пробраться в виллу сквозь сломанные ворота. Им обоим хотелось вернуться под открытое небо на склоне холма, где они ничего не боялись ни днем, ни ночью. Другое дело — темный и пустой дом; мальчики не знали, на что решиться.
Но сидеть в сторожке управителя было так же жутко, как идти осматривать дом. А им все же любопытно было, — не найдется ли там еще чего-нибудь подходящего. Может быть опять какая-нибудь еда, ибо теперь еда заполняла все их мысли. Когда они убегали, им даже в голову не приходило, как трудно будет прокормиться в незнакомой местности. Больше всего они нуждались в пище, но совсем неплохо было бы раздобыть денег. Итак, Бренн взялся за ручку глиняного светильника.
— Все-таки лучше посмотрим.
Они пересекли двор и нашли главный вход в дом. Здесь дверь едва держалась на петлях. От легкого ветерка она раскачивалась. Бренн заслонил светильник закутанной в плащ рукой. Через сени прошли они в комнату для господ. Но в комнате все было разбросано в полном беспорядке, обстановка поломана, а на покрытых росписью стенах виднелись явные следы борьбы.
Дальше помещалась контора поместья. На одном столе стоял светильник, а на полу валялись папирусы, выпавшие из взломанных ящиков и шкафов. Впрочем, некоторые из них, заботливо собранные, лежали в стороне. Подойдя к светильнику, Марон увидел, что он полон масла. Он поднял его, но тотчас же быстро опустил и с удивлением взглянул на Бренна.
— Светильник еще теплый. Его только что погасили.
Мальчики не двигались, словно оцепенев от охватившей их тревоги. Значит, кроме них, в доме еще кто-то находится. Кто же зажег, а потом погасил светильник?
name=t61>
Глава VI. В подвале
Инстинктивно они стали оглядываться по сторонам, ища какого-нибудь оружия, чтобы защититься, если бы неизвестный враг бросился на них из темноты. Марон поднял с пола ножку сломанного стула, а Бренн схватил подставку светильника, представлявшую собой бронзовый столбик с ножкой в виде львиных лап: в перевернутом виде она отлично могла служить дубинкой.
Вооружившись таким образом, они стали осматривать комнату. Один раз Бренн отпрянул назад и едва не опрокинул Марона. Ему почудилось, что он наткнулся на мертвое тело, но это оказалась всего-навсего сваленная на пол статуя; ноги у нее были отбиты, а голова съехала набок, словно этой статуе свернули шею.
Потом в другой комнате их сперва испугала возня крыс; в жуткой тишине дома она походила на шорох, который может производить человек, прячущийся в тайнике. Но ни под кроватью, ни за занавесью никого не было. Когда Бренн поднял одеяло на кровати, что-то с глухим стуком упало на красивый шерстяной ковер. Это был кошелек. Развязав его, он обнаружил довольно большое количество золотых и серебряных монет.
Считая себя и Марона разведчиками на вражеской территории в военное время, он без малейшего колебания взял деньги и с радостью отдал Марону причитающуюся ему половину.
— Ну, с этими деньгами у нас теперь все пойдет по-другому!
Оба впились глазами в найденное сокровище, забыв на мгновенье мучительный страх, овладевший ими с тех пор, как они обнаружили еще теплый светильник.
Но память об этом быстро вернулась к ним, и они продолжали розыски в мрачной общей спальне, где раньше ютились рабы, в кухне и в других помещениях для рабов, где на стенах нацарапаны были углем разные насмешливые надписи и рисунки. Потом они повернули обратно и направились в другую половину дома, где находились кладовые; засовы были сорваны и печати сломаны. В одной из комнат хранилось зерно, в другой шерсть.
Однако мальчики нигде не обнаружили никакого врага и начали уже подумывать, — не произошло ли ошибки?
— А ты уверен, что светильник был теплый? — с сомнением в голосе спросил Бренн.
— Не понимаю, как я мог бы ошибиться, — ответил Марон, сам уже несколько поколебленный. Тут он указал на люк в полу. — Смотри-ка. Что там может быть такое?
— Вероятно, подвал для вина или для масла.
— Спустимся туда или, лучше, навалим на него что-нибудь тяжелое, чтобы тот, кто там прячется, не смог вылезть.
Но под рукой не было ничего настолько тяжелого, чтобы люк нельзя было открыть снизу, и, кроме того, раз уж начав поиски, мальчики не хотели оказаться под конец трусами. Желание заставить неизвестного обнаружить себя было у них сильнее, чем страх перед возможной схваткой с ним.
Бренн поднял люк, потянув за вделанное в него кольцо, и заглянул вниз. Тусклый огонек светильника озарил деревянные ступени и, еще ниже, в темноте, ряды амфор с вином.
— Это винный погреб, — сказал он. — Я спущусь первый, а ты держи палку наготове.
Пока Бренн спускался, Марон светил ему сверху. Когда же Бренн благополучно добрался до самого низа, он спустился вслед за ним. Оглядевшись, они ничего, кроме амфор и бочек, не увидели. Несколько разбитых сосудов валялось на цементном полу, и целая лужа вина еще стояла в одном углу, там, где оно вытекло из амфор, опрокинутых ворвавшимися в погреб рабами.
— Ничего тут нет, — сказал Бренн, голос его слабо звучал в холоде и мраке между каменных стен погреба. Марон зашел в подвал и заглянул в бочки.
— Да, ничего, — ответил он. — Верно, я ошибся насчет того светильника, хотя готов поклясться, что его только что погасили. Ну, ладно, пойдем обратно и поедим еще чего-нибудь.
Они облегченно вздохнули и уже повернули назад, как вдруг раздался грохот и в погреб ворвался порыв ветра, едва не задувший их светильника. Марон, который еще раньше передал светильник Бренну, бросился к лесенке и быстро взбежал вверх по ступенькам. Но было уже поздно. Люк плотно захлопнулся, и снаружи доносился скрежет железа по железу. Когда Марон попытался плечом приподнять люк, тот не поддался его усилиям.
— Кто опустил люк? — с тревогой спросил Бренн. — И почему он не открывается? Там ведь не было задвижки.
— Но паз для нее был, — произнес Марон сквозь стиснутые зубы. — Кто-то вынул задвижку, а теперь засунул ее обратно.
Бренн стал рядом с Мароном, и оба они старались плечами приподнять тяжелый люк и сорвать задвижку, но тщетно. В полном отчаянье они опять спустились в погреб и принялись осматриваться, ища выхода.
— Кто это мог быть? — опять спросил Бренн.
— Кто бы он ни был, хотел бы я, чтобы он попался мне в руки, — сердито пробормотал Марон. — И какие же мы были дурни! Так нам и надо.
— Похоже, что это женщина, а если мужчина, то один, — подумав, сказал Бренн. — Будь там двое мужчин или больше, они бы сразу на нас накинулись. Они бы не стали красться за нами вслед, в надежде, что заманят в ловушку.
— Ты прав, — произнес Марон, колотя кулаком о кулак. — 0, если б нам только выбраться отсюда! Кто б это ни был, он боится нас еще больше, чем мы его. Хоть это утешительно.
Верно, эта мысль могла придать им бодрости, но, по правде сказать, не много. Как бы ни был слаб их скрытый недруг, они ничего не могли против него предпринять, не выбравшись из погреба. Они шагали взад и вперед по твердому полу; было очень холодно. Они сделали руками несколько упражнений, выпили немного вина, чтобы согреться, и старались до чего-нибудь додуматься. Но ничего не приходило им в голову. Время от времени они поднимались по ступенькам и тщетно пытались поднять люк, сколоченный из тяжелых дубовых досок.
— 0, какие же мы были дурни! — стонал Марон. Он с яростью оглядывался по сторонам и вдруг заметил, что Бренн слишком приблизься к светильнику, стоявшему на полу.
— Смотри, ты подожжешь свой плащ.
Бренн отошел от светильника и внезапно воскликнул:
— Слушай, ты надоумил меня. Нельзя ли нам выжечь огнем выход отсюда?
Мысль эта вдохнула в них бодрость. Они подбежали к полкам, сбросили оставшиеся на них сосуды, разбили две пустые бочки и собрали таким образом большую кучу дров. Но растопку найти было не так-то легко. Пришлось взять самые тонкие доски и расколоть их на более мелкие куски, а затем они голыми руками принялись расщеплять их, так что вскоре кончики пальцев у них стали кровоточить. Тогда они попытались расщеплять кусочки дерева острыми краями разбитых амфор.
Таким образом у них образовалась основательная груда щепок и мелких кусочков дерева, причем они выбирали самые сухие. Ведь если огонь не очень сильно разгорится, он не сможет выжечь прочный дубовый люк. Тут понадобится самое жаркое пламя.
Под конец Бренн оторвал от своего плаща большой лоскут.
— Вымочим его в масле из светильника и подожжем, тогда дерево наверняка разгорится.
— Чудесно! — воскликнул Марон, потирая руки. — Ну и удивится же этот негодяй, поймавший нас в ловушку, когда увидит, что пламя уничтожает его проклятый люк и выпускает нас прямо на него!
— Приготовь дрова, — сказал Бренн.
Он направился к светильнику с лоскутом в руках, но не успел еще подойти, как фитиль угрожающе затрещал.
— Ох, он затухает! — завопил Марон. — Скорее!
Бренн бросился к светильнику и вынул фитиль со всей быстротой и осторожностью, на какие только был способен, попробовал наклонить светильник так, чтобы фитиль пропитался всем оставшимся маслом, но ему не удалось поддержать гаснущее пламя. Его пальцы только скорее загасили слабо мерцавший на почти выгоревшем фитиле огонек. В светильнике уже не оставалось ни капли масла.
Погреб погрузился в непроглядный мрак, и мальчики были заперты в нем вместе с собранной ими кучей топлива, которой хватило бы на хороший костер, но не было ни огня, ни даже искорки, чтобы его запалить. И ничего больше они сделать не могли.
— Если бы он стал медленно разгораться, — промолвил, наконец, Бренн, — мы бы, пожалуй, задохнулись от дыма. Может быть, так оно даже к лучшему.
Но как это могло быть к лучшему, когда они обречены на голодную смерть в этом помещении, в полной темноте? Скоро же рухнула надежда на вольную жизнь!
Глава VII. Несмотря на решетку
Так сидели они в темноте на деревянных ступеньках, потому что каменный пол был слишком холодный; время от времени они выпивали глоток вина, иначе бы их уже мучил кашель и била лихорадочная дрожь. Они не рассчитывали на то, что наступление дня чем-нибудь им поможет, так как не представляли себе, что солнечный свет сможет проникнуть в подземелье. Сейчас ими овладело уныние. Они уже оставили свои тщетные попытки открыть дубовый люк, безжалостно державший их в плену. Может быть, их так и оставят тут умирать с голоду; может быть, вызовут вооруженный отряд охотников за беглыми рабами, которые доставят их обратно, в дом господина, где их, конечно, обвинят в убийстве того человека, на холме. А тогда их ожидает смерть на кресте. Неизвестно, какой. конец хуже.
Но они были сильно утомлены и, несмотря на холод, от усталости и выпитого вина заснули беспокойным сном. Бренн проснулся оттого, что Марон тряс его за плечо.
— Гляди!
Бренн открыл глаза. Сквозь еле видимую щель справа, за полками. проникал слабый свет. А что особенного было в наступлении дня? Но тут он вспомнил, где находится, вспомнил, что, проснувшись, не мог ожидать ничего, кроме все того же ужасного мрака, который давил на глаза, как тяжелая повязка.
В погреб проникал свет! Мальчики вскочили, хотя все тело у них ныло и дрожало от холода, и бросились к отверстию, которое слабо освещало подвал. Вместе со светом к ним возвратилась надежда. Они поспешно сорвали полку и осмотрели отверстие. В стене проделано было нечто вроде наклонного хода наружу, слишком узкого для взрослого человека, но достаточно широкого для мальчика, который решился бы на попытку ползти в таком тесном пространстве. Но в конце этого прохода, сделанного для доступа света и свежего воздуха, имелась решетка — три железных прута.
— Нам их никогда не выломать, — простонал Бренн.
— Все равно надо попробовать, — ответил Марон. Он оглядел погреб и выбрал черепок с острым краем. — Ты разве не видишь, что они вделаны в дерево и закреплены только штукатуркой? Если дерево хоть немного подгнило, их нетрудно вынуть, а проход весь покрыт штукатуркой. Ее можно соскоблить, и он тогда расширится.
Марон тотчас же принялся соскабливать штукатурку. Бренн усердно помогал ему. Вскоре они, дюйм за дюймом, расширили нижнюю часть прохода. Тогда Марон сбросил плащ и тунику, чтобы легче было ползти, и, подставив к стене под самое отверстие бочку, протиснулся в проход и стал продвигаться к решетке, извиваясь и вытягивая руки вперед. Желая помочь ему, Бренн сперва держал его за лодыжки, а потом уперся ладонями в его ступни, чтобы тот имел нечто вроде точки опоры.
Марон кряхтел и хрипло дышал, но все-таки добрался до решетки. Снизу Бренн не мог видеть, как он работал. Да он и вообще почти ничего не видел, так как своим телом Марон закрыл доступ свету, и погреб снова погрузился во мрак. Но он слышал, как Марон выковыривал штукатурку и дерево, и молил судьбу, чтобы скрытый недруг, кто бы он ни был, не мог услышать, как стучит и скрежещет черепок в руках Марона.
Под конец Марон совсем обессилел. Задыхаясь, он соскользнул вниз, лицо и волосы у него были покрыты пылью от штукатурки. Он потряс головой и, обтерев руки о брошенную на пол тунику, протер глаза, болезненно слезившиеся от пыли.
— Ох, я почти ослеп. Работа не очень-то приятная. И в горло набилась пыль.
Он набрал в рот вина и прополоскал горло.
— Теперь моя очередь, — сказал Бренн.
Он тоже разделся и пополз в проход. Да, работа была не из приятных. Рукам его, вытянутым над головой, едва хватало силы, необходимой для того, чтобы расшатать деревянную раму. Эта работа заняла бы многие часы, если бы дерево не было слегка подгнившим.
Но он упорно трудился, едва не ослепнув от пыли, потеряв всякий счет времени и своим собственным усилиям, пока не пришел в себя и не заметил, что средний прут уже достаточно расшатан. Он повертел его и вырвал из гнезда. Прут выскользнул из онемевших пальцев, ударил его по плечу и содрал кожу. Но разве это могло иметь значение? Он радостно принялся за другие прутья, завершая работу Марона, и через несколько мгновений решетка была вырвана.
Бренн соскользнул вниз по проходу, а за ним полетели железные прутья. Он не смог удержать их, и они со звоном и грохотом упали на цементный пол. Шум этот поверг мальчиков в ужас. Неужели его услышат наверху и враг поймет, в чем дело?
Они задержали дыхание и прислушались. Но все было тихо. Тогда они шепотом обсудили дальнейший план действий.
Марон первый полез обратно в проход — ведь это он обнаружил его, и ему принадлежало право первому выбираться из погреба. Он пополз опять с помощью Бренна, который подталкивал его снизу, и, соскоблив еще немного штукатурки, высунул голову из отверстия. Потом, сделав еще несколько резких движений плечами и туловищем, выскочил наружу. Бренн протянул ему на конце длинной доски от разломанной бочки их туники и плащи, вместе с завернутыми в них железными прутьями.
Марон, уже стоявший во дворе над отверстием, благополучно принял этот узел. А тогда и Бренн взобрался на бочку и пополз в проход, держа руки над головой; нагнувшись, Марон схватил его за запястья и вытащил наружу.
Мальчики шатались, их исцарапанные тела горели от ссадин, но они быстро оделись и взяли железные прутья, которые должны были служить оружием. Проход из погреба выходил в глубокую нишу, защищенную от дождя подпорками и сточными желобами. Поэтому мальчики решили, что, вернее всего, их никто не заметил. Во всяком случае, никто не пытался на них напасть.
Они стояли выпрямившись, глубоко вдыхая воздух, щурясь на солнце. Снова на свободе! Они ощущали, как новые силы жарко разливаются по их жилам, и были готовы встретиться с кем угодно — здесь, в вольном солнечном свете на лоне природы.
Мучительные часы, проведенные в мрачном погребе, уже изглаживались из памяти. Они улыбались вновь обретенному миру, улыбались двору, омытым дождем стенам, утиному пруду, блестящей на солнце грязи — всем вещам, обычным и незначительным, но полным волшебной прелести для них, считавших себя заживо погребенными в холоде и мраке.
Переживая подобные мгновения и словно сливаясь со всем миром, невольно осознаешь, как дорого тебе все окружающее, все те вещи, на которые ты и внимания не обращаешь, пока, охваченный страхом, не поймешь внезапно, что вот-вот потеряешь их. Синева неба казалась мальчикам нежной, как никогда. Ветерок был изумительно приятный, ласкающий, игривый. Даже самые обыкновенные утки с птичьего двора, предававшиеся блаженному ничегонеделанью в мокрой грязи, стали восхитительными созданиями, которых стоило созерцать часами. А воробьи, те были просто старые друзья.
А где же враг?
Внезапно Марон схватил Бренна за руку. Из дыры над очагом сторожки управителя шел дым.
Глава VIII. Союзник
Крепко держа в руках железные прутья, мальчики стали красться к сторожке. При ярком дневном свете они не боялись врага. Они даже были злы на него, потому что, по всей вероятности, он сейчас поглощал ту пищу, которую они разложили на полу в кухне управителя, — их пищу! При этой мысли они сразу ощутили острый голод; но, прежде чем позавтракать, им еще придется разделаться с неизвестным.
Они вползли в дверь сторожки и уловили в задней комнате шорох и движение. Подняв завесу, они ворвались туда с оружием наготове, ожидая неизбежной схватки.
Сперва они никого не увидели. Потом, изумленно осматриваясь по сторонам, заметили скорчившегося в углу седого плешивого старика.
— Это ты запер нас в подвале? — спросил Бренн.
Ему немного совестно было грозить оружием такому беспомощному существу, но он старался говорить сурово.
— Что ты такое говоришь? — дрожащим голосом пробормотал старик. — Ночью пришли какие-то разбойники. Я их не очень хорошо разглядел… Они там, в погребе.
— Ты один здесь остался? — спросил Марон.
— Да, — ответил старик все тем же слабак голосом, печально покачав головой. — Я не хотел сделать ничего дурного. Только не выпускайте этих головорезов из погреба.
— Да я же тебе говорю: это нас ты запер в подвале, — сказал Бренн. Ему стало совсем стыдно, и он спрятал железный прут за спину. — Но я понимаю, — ты хотел только защититься.
Старик смотрел на мальчиков своими выцветшими глазами, отказываясь верить, что перед ним те разбойники, которые напугали его ночью. Но мальчики, утратив всякий интерес к тому, что он думал и чего не думал, набросились на еду и принялись уплетать за обе щеки.
Видя, что они перестали им заниматься, старик встал, молча потянулся и пошел из комнаты.
— Не уходи, — с трудом выговорил Бренн: рот у него был полон хлеба с сыром.
— И не бойся нас, — добавил Марон, отрезая себе еще ломоть грудинки, — Мы такие же рабы, как и ты.
— Я вас не боюсь, — ответил старик. — Вы не похожи. на тех здоровенных головорезов, которые пробрались. сюда ночью.
Он помолчал, а потом вспомнил, что Марон упомянул про рабов.
— Рабы уже не те, что были. Они превратились в головорезов. Наступает конец света.
— Что здесь произошло? — спросил Бренн. Ему и любопытно было, и хотелось задобрить старика.
— Они восстали и разгромили виллу. — Старик опять медленно покачал головой. — За всю свою жизнь я не видел такого разорения. Даже после страшного урагана в тот год, когда развелось великое множество злющих ос. Я им сказал, что для них это кончится плохо, но они только засмеялись в ответ. Потом они хотели, чтобы я с ними бежал. А я побоялся, я ведь старый и больной. И они убили господина. — Он подозрительно взглянул на. мальчиков. — А вы кто такие? Что вам нужно?
— Нас послали на юг с донесением, — ответил Бренн, но не добавил, что донесение-то было от них самих и предназначалось вождю восставших рабов.
— Не знаю я, что делать с виллой, — печально жаловался старик, забывая свой страх от удовольствия, что есть с кем поговорить. — Как бы я ни старался, мне ее не привести в порядок. У меня и так несколько дней ушло на то, чтобы похоронить господина. Но похороны-то были не настоящие. — Он умоляюще взглянул на мальчиков. — Не знаю, откуда вы проведали, что у меня в погребе заперты разбойники, но обещайте, что вы их не выпустите.
— Ладно, — ответил Бренн, считая за лучшее не раздражать старика. — Как тебя зовут?
— Луципор, — ответил старик. После каждой произнесенной им фразы он покачивал головой, — Мир не тот, что был раньше. Зовут меня Луципор. Как мне, старику, справиться со всем этим беспорядком? Все это время я провозился с погребением, Все-таки надо же было его похоронить. Правда, за еду он заставлял целый день работать, а отдых давал только ночью, но ведь это повсюду так. Он сказал мне, что записал мое имя в завещании, чтобы меня освободили после его смерти, а теперь я уж никогда не буду на свободе.
— Но раз он тебя освободил в завещании, — значит, теперь ты свободный, — убеждал старика Бренн.
— Не говори так, — упрямо возразил Луципор. — Он не своей смертью умер. Убили его. Ты что, разницы не понимаешь?
— Я понимаю только одно, — вмешался Марон, доедая маслины: — если тебя здесь застанут, так обязательно казнят.
— Да ведь я ничего не сделал, — захныкал Луципор.
— Закон знаешь? Все рабы в доме, где убили господина, подлежат казни. Для того и придумано это, чтобы мы друг за другом следили.
Луципор старался уразуметь то, что ему втолковывали. По его щекам струились слезы.
— А я всегда надеялся дожить свои дни в семье брата, в Фуриях. Он гораздо моложе меня и хорошо смыслит в делах. Он столько денег накопил, что смог выкупить себя пять лет тому назад и открыть пекарню. Теперь никогда уж мне его не увидеть.
Старик с тревогой посмотрел на мальчиков.
— Вы очень торопитесь? Может, останетесь и поможете мне убрать виллу? Нельзя же, чтоб так все и осталось, когда приедет его наследник!
— Вздернет он тебя, если приедет, — сказал Марон; но Бренн молча махнул ему рукой и подмигнул. Со стариком можно было сладить только одним способом — во всем ему потакать.
— Да пойми же, наконец, что ты теперь свободный человек. Мы сами прочитали это в завещании и пришли за тобой, чтобы нам вместе двинуться на юг, в Фурии.
— Я свободный человек, правда? — боязливо спросил Луципор. — Ты в этом уверен?
— Да, конечно, уверен. — Бренн решил, что самый верный способ помочь и Луципору и самим себе — это пустить в ход какую-нибудь безобидную выдумку, От всего другого полубезумный старик окончательно лишится рассудка. — Мы позаботимся о тебе и доставим к брату. Не забывай, что теперь ты свободный человек.
— Свободный человек, — промолвил Луципор голосом, полным глубокого удивления. Он встал со скамьи и прошелся по комнате. — Свободный…
Он выглянул в окно.
— Но я что-то никакой разницы не чувствую. Все такое же, как было. Даже не верится. В молодости я часто думал обо всем, что я сделаю, когда освобожусь…
Он обернулся к Бренну, в голосе и в глазах его была мольба.
— Уйдем отсюда, пока те головорезы не выбрались из погреба. Вы же их, наверно, видели — такие здоровенные парни, а в руках у них мечи, топоры и копья. Ох, и страшные же люди! Но я-то догадался, что они полезут. в погреб за вином. Я и вынул засов, а потом на цыпочках пробрался обратно…
Он усмехнулся себе под нос. В его старческом мозгу почти не осталось рассудка, — столько страданий выпало в жизни ему на долю. Он продолжал ходить взад и вперед по комнате, бормоча:
— Свободен!..
Бренн и Марон отошли в сторону и стали вполголоса совещаться. Двое подростков, блуждающих по дорогам, обязательно привлекут к себе внимание, и их станут все время расспрашивать. Но если они приоденут старого Луципора и отправятся вместе с ним в качестве слуг, никто на них и не посмотрит. Они смогут сопровождать Луципора, пока не окажутся уже близко от войска Спартака, а тогда научат его, как одному добраться до Фурий. Разыскав своего брата, он будет в безопасности, если же его застигнут в разграбленной вилле, то, разумеется, сразу же казнят.
— Понял ты в конце концов, что ты теперь свободный человек? — сказал Бренн, снова подойдя к старику, который сидел теперь на табуретке, охватив руками колени и глядя вдаль.
— Я уж начинаю понимать, — ответил Луципор. — Я знал, что это придет, если я смогу дождаться. Я только боялся, что помру прежде, чем это случится. Но кто приведет в порядок дом, если я уйду?
— Ничего, приведут уж его в порядок, — успокаивал старика Бренн. — Тебе только надо хорошенько запомнить, что ты свободный человек и едешь на юг к брату.
— Верно! — возбужденно вскричал Луципор, хрустнув суставами пальцев. — Верно. Вы ведь сами сказали, что так написано в завещании? Я, наконец, увижусь с братом!
Он с важным видом поднял палец.
— Слушайте, что я вам скажу. Видите, как награда приходит к тому, кто исполняет свой долг? Не часто доводилось вам видеть такого счастливца, как я…
— Поешь теперь чего-нибудь, — ласково молвил Бренн, похлопывая старика по спине. — Скоро нам предстоит небольшая прогулка.
Глава IX. Опять в дороге
Они основательно поели, набили припасами несколько сумок и приготовились двинуться в путь. Луципор все еще не вполне пришел в себя, но уже верил, что он взаправду свободный человек Он дал согласие идти вместе с мальчиками, хотя продолжал колебаться и забрасывал их бесконечными вопросами.
Они порылись в сундуках с платьем, переоделись в более прочные туники. Луципора обрядили в одежду, принадлежавшую его господину. Это сразу придало ему вид почтенного горожанина, старика-купца, доживающего свой век на покое. Сперва он возражал, но привычный к тому, что им помыкают, быстро приучился повиноваться Бренну и смотрел на него почти как на нового господина. Он не мог быстро ходить, но мальчики дали ему дубовый посох, найденный Мароном среди вещей управителя.
От Луципора мальчики узнали, что управителю удалось скрыться, и было даже удивительно, что из ближайшего города до сих пор никто не явился навести в вилле порядок и предпринять розыски бежавших рабов, виновных в убийстве своего господина. Объяснялось это страхом, который нагнали на рабовладельцев Спартак и его войско. Власти старались действовать как можно меньше, надеясь в скором времени получить известия о разгроме и уничтожении восставших.
Мальчики со своим новым спутником двинулись в путь. Они сделали круг, чтобы обойти деревню, и, основательно подкрепившись пищей, захваченной с собой, провели ночь в кустарнике на склоне холма. Но на следующий день мальчики увидели, что равняться и впредь по Луципору — значило бы двигаться черепашьим шагом. Поэтому, если они решат по-прежнему делать вид, что они слуги Луципора, им необходимо будет раздобыть повозку с лошадью или хоть несколько мулов.
Завидев неподалеку другую деревню, мальчики подбросили вверх одну монету из кошелька, найденного на вилле, сказав при этом «корабль или голова». Так обычно говорили, когда метали жребий, потому что древнеримская монета имела на одной стороне изображение двуликого бога, а на другой — корабельного носа.
— Голова, — сказал Бренн.
Монета упала вверх той стороной, на которой была голова, и это означало, что ему на долю выпадет небезопасное дело — пойти в деревню и раздобыть лошадей или мулов.
Забрав кошель, он зашагал по дороге и первого же встречного спросил, есть ли в деревне постоялый двор. Человек смотрел на него, разинув рот, но, после того, как Бренн несколько раз повторил свой вопрос и жестами изобразил, как едят, пьют и укладываются спать, он указал на дом побольше других, и Бренн постучался в дверь.
Открыл ему угрюмого вида человек, на ходу обтиравший руки о грязную скатерть. К вопросам Бренна он проявил полное равнодушие.
— Нет повозок, — отрезал он, зевнув. — И лошадей. И мулов. И лягушек даже нет.
— Но, — настаивал Бренн, пересказывая историю, которую они с Мароном состряпали, — на нашего господина нынче ночью напали разбойники, и ему надо раздобыть что-нибудь, на чем он мог бы ехать дальше.
— А пусть идет пешком, — икнув, ответил хозяин постоялого двора. — Ноги у него украли разбойники, что ли?
— Да он старик, — с негодованием возразил Бренн. — И к тому же не привык ходить.
— Научиться никогда не поздно, — сказал хозяин, отгоняя невидимую муху. — Что он, не знает, для чего у него ноги? Ведь не только для того, чтобы их подагрой скрючило.
Бренн вынул кошель и позвенел деньгами.
— Да он заплатит.
— А сколько? — спросил хозяин. И сейчас же добавил. — Только с лошадьми сейчас худо. Почему бы ему не зайти сюда и не пожить, пока кто-нибудь из проезжающих не возьмется его подвезти. Можешь сказать ему, что у меня очень удобно. Мое вино хвалят лучшие знатоки; а уж кто, как не они, понимают в этом деле? Если он не очень скаредный, будет получать у меня баранину. Терпеть не могу мелочных постояльцев, которым подавай пирог с павлином по цене тушеного воробья. Скажи своему господину, чтоб он остановился здесь. У меня такие кровати, что и люди получше его не ворчали, проведя на них ночь, а по их храпу я могу судить, что спалось им расчудесно.
— Нам нужны лошади, — прервал его Бренн. — У нас срочное дело.
— Срочных дел не бывает, — невозмутимо возразил хозяин. — Только сон, да еду, да еще кое-что в этом роде никак нельзя откладывать, и потому такой человек, как я, который может все это предоставить людям, и есть, можно сказать, всеобщий благодетель. Раз твой господин едет по срочному делу, ему как раз и подошло бы задержаться у меня на несколько дней.
— Не может он задерживаться.
— Ну, что ж, хорошо. Раз он из тех людей, которые только тогда и счастливы, когда никому житья не дают, я в нем не нуждаюсь. От таких я сам рад по возможности избавиться. Сколько он может заплатить?
Бренну пришлось долго торговаться, пока удалось купить двух лошадей и осла. Лошади были довольно старые и изнуренные, а осел, хотя и помоложе, оказался косматый и неуклюжий. Все же это было лучше, чем ничего. А хозяин постоялого двора, как ни выпытывал Бренн, клялся, что во всей деревне других животных нет — одни только рабочие волы да собаки — и что он даже не знает, как выйти из положения, если теперь кто-нибудь захочет поехать в соседний город на рынок.
— Они будут ругать меня за то, что я продал этих прекрасных коней по такой ничтожной цене. А ты не очень-то даже благодарен за это.
Наконец Бренн расстался с хозяином и повел под уздцы обеих лошадей и осла. Вскоре он присоединился к Марону и Луципору, которые отдыхали под деревом у поворота дороги. Луципор был в восторге от покупки и пытался взобраться на осла; но мальчики заставили его сесть на ту лошадь, что выглядела получше, а сами бросили жребий — кому из них ехать на другой, Бренн проиграл, ему пришлось довольствоваться ослом. Но они уговорились каждый день меняться животными. Стоимость трех грубых седел из парусины и кожи включена была в цену, заплаченную за животных. И, во всяком случае, теперь мальчики могли считать, что они с Луципором всадники, если не очень блестящие, то вполне обычные на большой дороге, и что никаких подозрений ни у кого не возникнет.
Однако Луципор продолжал добиваться, чтобы ему уступили осла; лошадь была для него слишком высока, у него все время кружилась голова, и он каждую минуту мог свалиться. Но в конце концов он научился держаться в такие моменты за гриву, и все обходилось благополучно.
Теперь они могли двигаться вперед вполне спокойно, хотя по-прежнему избегали более или менее значительных поселений, где могли начаться всевозможные расспросы, и останавливались на деревенских постоялых дворах или на уединенных фермах. Луципора они сразу водворяли в предназначенную ему комнату, говоря, что он больной человек и не желает, чтобы за ним ухаживал кто-либо, кроме них. Благодаря этому они ни разу не попались. Луципора, одетого в добротное господское платье, все действительно принимали за больного чудака, потому что он все еще был несколько не в себе. Старик слушался их, он свыкся с мыслью о своей свободе, которая даст ему возможность ездить куда угодно, хотя и предпочитал, чтобы им командовали.
Когда мальчики его слушали, он говорил о своем брате в Фуриях и о том, какой приятный запах в пекарне, и все время спрашивал Бренна, есть ли у брата дети. Бренн сказал ему, что не знает, но старик на этом не успокоился, так как вбил себе в голову, что Бренну известно все на свете.
Бренн и Марон чувствовали себя уверенно. Все шло так хорошо, что они позабыли об отчаянье, охватившем их, когда они голодали. Мальчики подолгу беседовали о том, куда направятся после войны. Марон хотел возвратиться во Фракию, в Северной Греции. Бренна тянуло домой, в Британию. Каждый из мальчиков расхваливал свою родину, стараясь доказать, что она лучше. Им и расставаться не хотелось, и в то же время оба желали настоять на своем.
Как-то вечером они сидели в комнате постоялого двора, после того как накормили Луципора. Старик все еще смущался тем, что ему прислуживают, и его силой приходилось не пускать в кухню. Сами они тоже поели и снова принялись обсуждать, что лучше, Фракия или Британия, пока не разгорячились от спора.
— Давай кинем жребий, — сказал Бренн, нащупывая монету в кошельке, висевшем у него на поясе.
— Ладно, — согласился Марон. — Разлучаться мы не хотим, так надо же как-нибудь договориться, Монету достал?
— Да, — сказал Бренн. — Вот. Если выпадет голова, — держим путь в Британию, если оборотная сторона, — во Фракию.
— Кидай, — промолвил Марон, — и да выпадет нам жребий ехать во Фракию. Увидишь, какие там горные долины и как славно можно в них поохотиться.
— Подожди хвастаться, пока не убьешь оленя в наших лесах.
— Ладно, кидай! — нетерпеливо крикнул Марон. — И спор наш раз и навсегда разрешится.
Бренн положил монету на ноготь и подбросил ее в воздух.
— Ну, что там? — крикнул Марон и кинулся за монетой.
— Голова, — объявил Бренн и, выхватив монету из руки Марона, спрятал ее обратно в кошель.
На мгновенье могло показаться, что Марон рассердился. Лицо его потемнело, брови сдвинулись, зрачки сузились. Потом он рассмеялся искренне и дружелюбно.
— Так пусть и будет! Едем в Британию, и ты поведешь меня охотиться на оленя.
— Ты не пожалеешь, — сказал Бренн несколько смущенно. Он уже готов был предложить Марону отправиться с ним во Фракию. Но тоска по родине была сильней всего. Чтобы вернуться на родину, он готов был пожертвовать всем, даже правдой, которую он скрыл от своего друга. Ведь он выбрал такую монету, на обеих сторонах которой, благодаря, видимо, простой случайности были выбиты головы; этой монетой дал ему сдачу хозяин, когда он платил за еду и ночлег. Он стыдился, что сплутовал, и теперь был уверен, что если бы они опять кинули жребий, — он играл бы честно.
— Хочешь, кинем еще раз?
— Нет, — отвечал Марон и отвернулся. — Одного раза довольно. Мы же договорились, что этим все будет решено.
Голос его звучал холодно и принужденно. Бренн еще острее почувствовал свою вину. Не должен он был обманывать друга, даже ради такой цели. Нехорошо это и не принесет ему счастья. Но ведь Марон сам отказался второй раз кидать жребий. И Британия выбрана правильно. Бренн поклялся в глубине души, что он все сделает, чтобы Марону в Британии было как можно лучше; он так сделает, что Марон сам будет рад этому исходу. Может быть, тогда он, Бренн, и найдет в себе силы признаться в своем обмане. Но сейчас — не может он этого сделать, как ни тяжело у него на душе.
Как ему хотелось, чтобы выбор пал на Британию! Он страстно желал снова стоять на британской земле, разыскать деревню, где он родился и вырос, луга и рощи и реку, которые все были частицами его существа. Он не мог поверить, что Марон так же страстно стремился к себе во Фракию, а потому утешился и ничего не сказал.
Но между друзьями словно возникла какая-то преграда. Они сидели в сгущающихся сумерках, молчаливые, погруженные в раздумье. На мгновенье оба почувствовали, как нелепо было ссориться из-за Фракии и Британии, когда столько еще оставалось сделать, прежде чем они найдут приют где-нибудь в свободной стране.
Из соседней комнаты донесся какой-то шум, и они бросились туда. Старый Луципор свесился во сне со своей койки, перевернул светильник и поджег простыни. Они принялись затаптывать тлеющие лоскутья, и это опять сблизило их. Они снова зажгли светильник и поставили на полку, с которой Луципор уже не сможет его свалить. Потом, усмехнувшись друг другу за спиной старика, который с перепугу стучал зубами, оба они возвратились в переднюю комнату.
— Ладно, — промолвил Бренн, — нам еще много чего придется пережить, пока мы доберемся куда-нибудь, — на востоке, на западе, на севере или на юге. Лучше всего для нас будет, если мы станем думать о настоящем.
— Да, лучше, — протянул Марон. — Внизу я слышал, как один человек рассказывал, что Спартак отступает к Адриатическому побережью и что его войско хочет захватить корабли в Брундизийской[87] гавани и уплыть из Италии. Нам надо поторопиться, а то мы их не нагоним.
— Придется сказать Луципору, чтобы остаток пути он продолжал один, — вымолвил Бренн, немного подумав. — Теперь ему уже недалеко. А нам надо пробраться прямиком через холмы и догонять Спартака. Завтра же, — добавил он решительно.
Глава X. Среди восставших
На следующее утро, как только деревня осталась позади, мальчики сказали Луципору, что остаток пути ему придется проделать одному. Он был этим крайне удручен и умолял не оставлять его, уверяя даже, что уж лучше пойдет вместе с ними через холмы, чем останется один одинешенек на дороге в Фурии.
Но Бренн научил его, как добраться до Фурий, и заставил несколько раз повторить свои указания. Заставил также заучить новое имя, которое они ему дали — Луций Флавиан Гальба, — потому что Луципор было имя, которое обычно давали рабам, и оно его сразу выдало бы. Они отдали ему осла, чем старик был очень обрадован, так как чувствовал себя на лошади плохо. Снабдили его также достаточным количеством денег, чтобы добраться до Фурий, а затем двинулись верхом по боковой дороге; Луципор на своем осле остался позади. Ему было очень грустно, хотя под конец он несколько примирился с их отъездом, приняв совет, который дал ему на прощанье Бренн: доехать до ближайшего постоялого о двора и нанять какого-нибудь подростка, который будет служить ему провожатым до Фурий.
Мальчики помахали Луципору с вершины холма, а затем поехали своей дорогой, торопясь присоединиться к Спартаку, полководцу, который всего два года тому назад был простым рабом-гладиатором. С тех пор он трижды разбил войска, посланные против него римским государством, и без всякого сопротивления прошел из одного конца Италии в другой, призывая в ряды своего войска всех рабов и угнетенных. Только победы Спартака могли вселить в мальчиков мужество, которое дало им возможность выработать план побега, и к Спартаку они устремились потому, что он боролся за их освобождение.
Весь день мальчики ехали на восток со всей быстротой, на какую способны были их лошади, а вечером остановились в доме бедного поселянина. Там они услышали, что неподалеку было сражение, и на следующий день еще быстрее поехали по направлению, которое указал им крестьянин.
Около полудня, уже совсем уставшие, они шагом ехали по узкой тропе, извивающейся под выступом холма. Нестерпимо жаркий солнечный свет бил им прямо в глаза с безоблачно-белесоватого неба, отражаясь от нависших утесов, от иссохшей земли, на которую ниоткуда не падала тень. Видно было, что лошадей давно мучит жажда, да и мальчикам самим хотелось пить: сумки у них были набиты припасами, но меха с водой они не захватили.
— Похоже на то, что в той вон расщелине есть источник, — сказал Марон. — Смотри, там растет зеленая трава.
Они повернули обессилевших лошадей и углубились в небольшую лощину, но не успели отъехать от тропы, как раздался какой-то гортанный окрик. Мальчики взглянули в ту сторону и увидели человека, который целился в них из лука. Они остановили лошадей и подняли руки для приветствия и доказательства того, что у них нет враждебных замыслов. Рядом с лучником показался другой человек, он тоже кричал и жестами указывал, чтобы они спешились. Они соскользнули с седел и, держа лошадей под уздцы, подошли к человеку, который им грозил.
— Кто вы такие? — резко спросил человек. — Лазутчики, верно?
— Мы не лазутчики, — с жаром ответил Марон. — А вы сами кто?
— Да что с ними долго разговаривать, тащи их сюда, — сказал второй человек с окровавленной повязкой на голове.
Оба они вынули из ножен мечи и коротко приказали мальчикам идти вперед. У тех не было выбора. Они пошли по указанному направлению и в той же расщелине за поворотом увидели лагерную стоянку. Палаток не было, но некоторые из находившихся там людей устроили навесы из забрызганных грязью плащей, растянув их на ветках невысоких деревьев. Другие лежали или сидели развалясь на открытом месте, пили вино, готовили пищу или натачивали оружие. Поодаль работало несколько женщин. Там и сям немногочисленные лошади и мулы щипали траву у ручейка. Люди были и в лохмотьях и в хорошей, но замызганной одежде. Среди них имелись раненые; их лица были покрыты дорожной пылью.
— Мы привели двух лазутчиков, — крикнул человек с повязкой на голове.
Все взглянули на подошедших. Некоторые со злобой, другие равнодушно. Раненые по-прежнему занимались своими ранами, накладывая на них примочки из трав. Женщины продолжали варить пищу и чинить одежду. Но вокруг мальчиков собралась довольно большая группа наиболее решительных людей; раздавались насмешки и угрозы.
— Повесить их!
— Распять на дереве!
— Пусть они расплатятся за наших павших братьев!
— Вырвать им глаза! — завопила одна из женщин. Истерический вопль ее, перешел в рыдание. — Где мой муж? Пусть они возвратят мне его!
Никто не обратил на нее внимания. Человек с повязкой вынул кинжал.
— А ну-ка, идите сюда. Мы вас заставим говорить. Зачем господа заслали вас к нам?
— Нас никто не засылал, — ответил Бренн. — Мы разыскиваем Спартака. Мы беглые рабы.
— Слишком у вас упитанный вид, да и платье слишком чистое. Рабы не убегают, когда их так закармливают, как вас. Враки все это.
— Где Спартак? — спросил Марон. Он чувствовал, что, будь здесь Спартак, их сразу поняли бы и они оказались бы в безопасности.
— Спартак! — воскликнул все тот же человек, — Вы слышите, он назвал священное для нас имя! Произнеси его еще раз, и я вырву у тебя сердце из груди. Спартак!
Густеющая толпа ответила криками ярости и скорби, Женщина, что закричала первая, подошла и стала на открытом месте прямо перед мальчиками. Она откинула назад растрепавшиеся волосы и принялась причитать;
— Спартак мертв. О, любимый вождь! Он был наш лев, враги убили его своими стрелами. Он был голосом вольных людей, а теперь этот голос навеки умолк. Но ветер по-прежнему шумит в горах, и никто его не заставит умолкнуть. Спартак никогда не умрет. Он опять возвратится к нам!
Она упала ничком на землю. Люди безмолвно стояли вокруг, полные благоговения перед существом, которым — так они думали — завладела, доведя его до священного безумия, некая неведомая сила.
— Спартак умер, — скорбно и гневно промолвил человек с повязкой, снова обратившись к мальчикам. — Но мы еще живы, как мало нас ни осталось от его войска. Пусть мы только горстка! Так легко им нас не победить. А потому вам не удастся пробраться обратно к господам и донести им, где мы скрываемся.
— Мы же пришли, чтобы присоединиться к вам, — в отчаянье вымолвил Бренн. — Мы не знали, что Спартака нет в живых.
— Да замолчи ты! — крикнул какой-то человек. — О чем тут долго разговаривать?
С ножом в руках он шагнул к мальчикам. Другие заворчали и тоже схватились за оружие. Мальчики приготовились к смерти и молили судьбу только об одном — чтобы конец пришел быстро.
Но когда человек с ножом подошел совсем близко, среди зрителей возникло движение, и высокий силач, плечом расталкивая людей, протиснулся сквозь окружавшее мальчиков кольцо.
— Что тут происходит? — крикнул он и выбил нож из руки у того, который готов был уже броситься к пленникам.
Высокий поглядел на мальчиков. Они заметили, что он одноглазый и что на его лбу выжжены буквы FUG;это было клеймо, означавшее fugitivus[88], которое каленым железом выжигалось на лбу у каждого бежавшего и снова захваченного раба. Слепой глаз и клеймо уродовали лицо этого человека, и все же в нем было нечто, придавшее Бренну надежду.
— Мы не лазутчики, — горячо повторил он. — Мы пришли присоединиться к Спартаку.
Одноглазый силач испытующе посмотрел на него, подошел вплотную и схватил за плечо. Бренн не шелохнулся, хотя ему было больно.
— Ты, значит, был рабом, — произнес он немного скрипучим голосом. — А где?
— На севере Самниума, вблизи Ауфидены.
Внезапно человек словно что-то сообразил. Резким движением он обернулся к толпе.
— Расходитесь по местам! — прогремел его голос, зазвучавший вдруг необычайно громко. — Кто вам разрешил самовольную расправу? С этими мальчишками все в порядке.
Люди сразу же подчинились и рассеялись в разные стороны. Одноглазый снова повернулся к мальчикам.
— Они озлоблены, — промолвил он, указывая на людей. — Но это понятно: только два дня назад всему пришел конец. Раньше они не были такими. Мы крепко надеялись. Спартак должен был взять Рим и вернуть отверженным их место в мире. Так он нам говорил, а если б ты когда-нибудь слышал его голос, то сразу понял бы, что он хочет сказать. Но теперь он мертв, и я ничего больше не знаю. Меня зовут Феликс. Надо вам поесть чего-нибудь.
— Нам только сперва лошадей напоить, — сказал Бренн. — А потом мы бы с тобой поговорили.
— Насчет еды у нас неважно, — ответил Феликс с каким-то резким смешком. — Лошади ваши в лагере долго не протянут. Вчера у нас пало несколько лошадей.
Он пробормотал что-то про себя и подмигнул единственным глазом. Потом размашистым движением руки указал на лагерь.
— Не думайте худого о наших людях. Там, откуда они пришли, их тонкому обращению не учили. Вы, видимо, неглупые парнишки, и я был бы рад, если бы вы стали мне помогать. Ребята у меня хорошие. И сам Спартак назначил меня начальником над ними. Он мне сказал: «У тебя только один глаз, но ты умеешь смотреть дальше, чем многие другие, и вразумлять тех, кто в этом нуждается». А теперь он мертв. Да, это был человек!
— И Феликс продолжал упавшим голосом:
— Мы думали, ничто не может его убить. И все же он погиб. Я видел, как он сражался один против сотни врагов, и они не могли с ним справиться. Он убил больше двадцати человек, пока ему не нанесли удар в спину.
— Он взглянул на Бренна и Марона с кривой улыбкой.
— Может быть, вы спросите, почему я не пал вместе с ним, как пали все другие храбрецы? Вам это не понятно. Да и мне самому тоже. Он был мертв, прежде чем я смог до него добраться. Я сражался и плакал. Но было уже поздно. Нас разбили. Да, мальчики, великое двухлетие пережили мы, мы — отверженные.
Он снова сделал рукой размашистое движение.
— Наши люди измучены, озлоблены. Но в них много хорошего… Ну, ступайте, поите лошадей.
Он отошел, и мальчики взяли под уздцы лошадей, которые старались на ходу подщипнуть хоть немного редкой травы. Направляясь к источнику, они прошли сквозь ряды тех, кто уцелел из войска восставших рабов.
Теперь, когда беглецы были приняты в их лагерь, рабы сразу позабыли о своей недавней враждебности. Они шутили, дружелюбно разговаривали, и мальчикам трудно было распознать в них тех людей, которые всего несколько мгновений назад кричали, угрожая им смертью. Теперь это были добрые парни, измученные усталостью от непрерывных боев и быстрых переходов среди пыльных, выжженных солнцем холмов. И как ни тяжело было мальчикам узнать о гибели Спартака и разгроме его войска, ими овладело радостное чувство оттого, что они, наконец, обрели товарищей по общей беде.
Глава XI. Совещание
Они напоили лошадей, сами напились мутноватой воды из ручья и возвратились к Феликсу, который, нахмурившись, скрестив руки, сидел у скалы и смотрел на лагерь своих товарищей. С ним мальчики чувствовали себя легко, хотя иногда и терялись от быстрой перемены его настроения. Говоря о чем-нибудь очень важном, он вдруг отпускал шутку, а в голосе его резко скрипучие ноты внезапно сменялись громовыми раскатами. Вдобавок единственный глаз у него слегка косил, что придавало лицу несколько странное выражение. Но своим добродушием и остротой ума Феликс понравился мальчикам; кроме того, он спас им жизнь.
— Из начальников я один не погиб, — сказал он, когда мальчики к нему подошли. — А я был далеко не самый лучший. Но фортуна дарит свою благосклонность людям не по их заслугам. В общем, дура она порядочная и видит гораздо хуже меня, хоть у меня всего один глаз: другой выклевали птицы в один прекрасный день, когда я шарил по их гнездам.
Он рассмеялся и глуховатым голосом запел:
«Одноглазый я, друзья,
Только нет острее взгляда,
А чего не вижу я, —
Мне на то смотреть не надо».
Услышав его голос, лошади испуганно отпрянули и сторону, и это снова развеселило Феликса. Посмеявшись, он сказал:
— Много чего я видел на белом свете.
И добавил с горечью:
— Видел мертвыми лучших на свете людей. — Он покачал головой и снова засмеялся: — Но вы, молодые, воображаете, что весь мир — ваш и что лучше вас никого нет. Ну, ну, не спорьте, а то я рассержусь. Как бы там ни было, назначаю вас моими помощниками, и если вы не будете мне подчиняться, я вас так хвачу, что с ног свалитесь. Но к советам я прислушиваюсь. Что, по-вашему, надо предпринять?
— Нет ли какой-нибудь возможности выбраться из Италии? — спросил Бренн.
— «Нельзя ли выбраться из клетки?» — сказала птичка, забилась о ее прутья и только поранила себя. — Он свистнул и снова помрачнел. — А куда мы денемся, если даже выберемся отсюда?
— Повсюду будет лучше, чем здесь, — ответил Марон. — Скоро нас станут травить собаками.
— А почему бы и нет? Мы сделали попытку и потерпели неудачу. Пощады нам не ждать, да мне ее и не нужно. Но бороться я буду до последнего издыхания.
Он сжал челюсти и взглянул в небо, где кружил коршун.
— Не могли бы мы напасть на какую-нибудь гавань и захватить корабль? — с надеждой в голосе спросил Бренн.
Феликс покачал головой.
— Слишком нас мало. Пока не погиб Спартак, мы еще могли бы это сделать. Они все так боялись его, что и полдюжины наших было бы достаточно. Но теперь весть о его смерти распространилась повсюду, и враги наши приободрились… В маленьком городишке, где одни только рыбаки, мы не достанем такого большого корабля, чтобы выйти на нем в море, а в гавани побольше нас живо закуют в цепи.
Никакого выхода как будто действительно не было. Феликс и его новые помощники сидели и раздумывали, Все, что угодно, для них было бы лучше, чем так вот прятаться среди холмов, пока они не будут захвачены солдатами и казнены, как мятежники. Пощады ожидать нечего. Их даже не приговорят к погребению заживо в каких-нибудь свинцовых рудниках, а просто предадут самой мучительной смерти. Рабовладельцев перепугала сила восстания и полководческий дар, проявленный Спартаком, простым гладиатором. Хотя в последней битве пали десятки тысяч восставших и хотя каждый убитый раб представлял собой материальный ущерб для хозяев, они твердо решили казнить каждого захваченного повстанца.
— Неужели ничего нельзя сделать? — со злостью спросил Марон.
— Можно, — сказал Феликс. — Можно умереть. Что бы ни случилось, нас не должны захватить живыми.
Но мальчикам вовсе не хотелось умирать. А похоже было на то, что их приключение идет к печальному концу. И все споры о прелестях Британии и Фракии показались им теперь ребяческими и суетными. Неужели их так и затравят до смерти среди этих бесплодных холмов, и они никогда не почувствуют себя свободными в стране, которую смогут назвать родиной? Может быть, им лучше было оставаться на вилле своего господина и примириться с той жизнью, которую они там вели? Такая мысль закрадывалась им в душу иногда, в минуты особенно горького отчаянья.
Феликс сочувственно поглядел на них.
— Не принимайте всего этого близко к сердцу. Я забыл, что вы молоды и не были эти два года вместе с нами. Мы изведали настоящую жизнь, а теперь все кончилось. Я даже хотел бы увидеть сейчас, как в расселину идут солдаты; стал бы я лицом к ним, прислонился к скале и разом со всеми покончил.
Он свистнул.
— Уж я бы позаботился, чтобы не погибнуть одному, — и тотчас же громко захохотал.
— Слушая, что я говорю, вы, пожалуй, не поверите, что на самом деле я миролюбивый человек. А ведь это так. Кто станет воевать ради удовольствия? Я вроде пчелы. Ей только одно нужно — мед собирать. Но начни ей мешать — и она живо ужалит тебя, хоть и умрет без своего жала.
Бренн рассеянно смотрел на людей, которые сидели на корточках неподалеку от них. Они чистили оружие и латы землей с песком.
— Смотри-ка, — сказал он вдруг с волнением, схватив Феликса за руку, — ведь у этих людей латы римских легионеров.
— Ну, ясное дело, — ответил Феликс. — А откуда, по-твоему, у нас оружие и доспехи? Большей частью мы забирали их у разбитых нами солдат. На деревьях иногда бывают шипы, но мечи на них, к сожалению, не растут.
Феликс почесал щетинистый подбородок.
— Пожалуй, некоторые смогли бы сойти за легионеров. Полное обмундирование имеется только у немногих, но, я думаю, сто с лишним человек можно было бы обрядить по-настоящему, если только хорошенько подобрать… Давай-ка обдумаем все как следует. А что будет с теми, кто останется без обмундирования, и с женщинами?
— А разве их нельзя вести под конвоем, как будто они пленные? — вставил Марок.
— Вот, вот, — сказал Бренн. — Те, что в форме, будут изображать конвой.
Феликс помолчал, а потом озабоченно добавил:
— Только все зависит от того, смогу ли я придать своим ребятам достаточно приличный вид. Да и себе самому, я ведь буду начальником. Мне надо подавать пример. Как насчет клейма у меня на лбу, которое я получил десять лет назад, когда в первый раз попытался бежать ночью?
— Все будет в порядке, если ты не станешь снимать шлем.
— Верно, — загремел Феликс. — Мы так и сделаем. мальчуганы. Это для нас единственный выход.
Глава XII. К морю
Обстоятельно обдумав план предстоящих действий, Феликс принялся за работу. Он собрал всех людей и объяснил, что надо делать. Все доспехи и оружие велел сложить в кучу, осмотреть и подобрать возможно большее количество предметов, составляющих полное обмундирование.
После этого те, кого нашли наиболее подходящими, должны были одеться римскими легионерами, а всем прочим предстояло изображать пленников.
Восставшие рабы, даже не стараясь вникнуть в подробности плана, хорошо поняли, что предпринята попытка спастись от гибели, и это сразу подняло их дух. Неясным гулом они выразили свое согласие, боясь громко кричать, чтобы их не услышали болтливые пастухи или римские разведчики. И сразу же приступили к выполнению приказа.
Феликс и мальчики с группой наиболее сообразительных людей заняты были сортировкой оружия, нагрудных знаков, шлемов, наплечников, поясов и щитов; работа эта потребовала больше труда и времени, чем они думали. Многие мечи и части доспехов оказались бесполезными, так как либо были в очень уж плохом состоянии, либо явно не имели никакого отношения к легионерской форме. И даже тогда, когда были отобраны и отложены наиболее подходящие предметы, оставалась забота: как составить из них полное легионерское обмундирование. На восставших невольниках были весьма пестрые и разнообразные одеяния: от ценных и богато украшенных доспехов до самой грубой крестьянской одежды.
Под конец в наличии оказалось около ста полных комплектов. Не теряя времени, Феликс выбрал самых высоких воинов и приказал им привести себя в надлежащий солдатский вид. Остро отточенными кинжалами они остригли длинные косматые волосы, вымылись в водоеме и пытались даже побриться. Туники свои эти люди приспособили таким образом, чтобы они походили на уложенную в складки и подпоясанную нижнюю одежду легионеров.
Затем им роздали оружие. Здесь некоторое нарушение формы не имело особого значения: многих в последнее время вербовали в солдаты столь поспешно, что полного единообразия в их снаряжении могло и не быть; к тому же, после тяжелой походной жизни нечего было ожидать, чтобы солдаты имели опрятный вид и полностью сохраняли свои доспехи и оружие.
Остальные рабы, которым предстояло изображать пленников, забавлялись, глядя на выбранных Феликсом воинов. Они подшучивали над ними, уверяя, что предпочитают выступать в своей менее почетной роли, — так, по крайней мере, они смогут оставаться самими собой. И в лагере воцарилось бодрое настроение.
Феликс продолжал разрабатывать свой план так, чтобы не оставалось ни одной неясной подробности. На представителей власти в гавани, куда они явятся, необходимо было произвести должное впечатление, не допустив ни малейшей ошибки. Было ясно, что от Феликса, как начальника отряда, потребуют, чтобы он подписал документ, свидетельствующий, что им для государственной надобности реквизирован корабль и что расходы возмещены будут владельцу римской казной. Но Феликс был неграмотный и потому Бренну пришлось научить его писать слова «Марк Юлий Фронтин» — имя, которое они ему придумали, а затем и остальное: «Трибун. Десятый легион».
Феликс, насупившись, чертил концом кинжала на земле буквы, стирая написанное и начиная снова. Буквы эти для него не имели никакого смысла, и потому ему было очень трудно удержать их в памяти. Под конец он добился того, что у него получилось нечто похожее на слова, нацарапанные Бренном. Стараясь научиться писать их как можно быстрее и правильнее, он стал чертить свои каракули повсюду — и на скалах, и на коре немногочисленных деревьев.
— Кто бы мог подумать, что на старости лет я получу такое красивое имя, — подсмеивался он, — Марк Юлий Фронтин? Это я. Эй ты там, узнаешь меня или нет? — крикнул он одному из смотревших на него товарищей.
— За версту узнаю. Ты Феликс, который был в Велитрах рабом при банях, и единственное, в чем тебя можно упрекнуть, — в том, что ты за обедом съедал больше, чем было положено.
— Врешь ты все, — закричал Феликс и в шутку свалил его с ног. — Я Марк Юлий Фронтин, трибун десятого легиона, во всяком случае на ближайшие несколько дней; запомни это, а то я только что забыл и опять могу забыть.
Человек отошел, почесывая затылок и добродушно ухмыляясь.
Самое лучшее снаряжение взял себе Феликс. Шлем с султаном плотно сидел у него на голове, закрывая клеймо. Мальчики в свою очередь вырядились так, чтобы их принимали за вестовых при трибуне — Феликсе.
В ту ночь весь лагерь был охвачен надеждой, Люди собирались более упорядоченными группами и по-товарищески беседовали, разбирая свои пожитки, приготовляясь к завтрашнему походу, в который надо будет выступить дисциплинированно. Феликс сообщил мальчикам, что, по его расчетам, побережье должно находиться милях в пятидесяти к югу и что туда можно будет дойти в три, самое большое — в четыре дня.
На следующее утро отряд выступил. Феликс потребовал, чтобы каждый и каждая продолжали играть свою роль даже при переходах через пустынную местность, где вряд ли можно было встретить кого-нибудь, кроме заблудившегося пастуха или разбойника. Каждому в отряде необходимо было привыкнуть к своей роли, чтобы произвести должное впечатление, когда отряд окажется в месте назначения. Ведь если бы кто-нибудь донес властям, что большая толпа людей, похожих на восставших рабов, движется на юг через холмы, весьма вероятно, что за ними в погоню выслали бы конный отряд.
Главная опасность состояла именно в том, что они могли натолкнуться на один из таких отрядов, которым поручено было разыскивать рассеявшихся после сражения воинов Спартака, Поэтому они, насколько возможно было, старались держаться холмистой местности, выбирая наименее людные дороги, а так как эти дороги были узкие и неровные, приходилось двигаться медленнее.
На третий день у них уже иссякли все припасы. Но мальчики в сопровождении нескольких повстанцев, более других походивших на римских легионеров, зашли в ближайшую деревню и реквизировали там все зерно, заплатив за него золотыми монетами из добычи, которая доставалась восставшим в былые дни. Жители деревни ничего не заподозрили, они даже удивились тому, что им вообще заплатили за зерно. От них мальчики узнали, что самая большая группа бежавших после сражения рабов в количестве пяти тысяч, устремившаяся на север, была окружена солдатами, и уже принято решение всех, кто будет захвачен живым, распять на крестах вдоль Аппиевой дороги[89]. Печальное известие об участи, которая готовилась их собратьям, все же не могло заглушить в них чувство тревожной радости оттого, что внимание римских войск пока отвлечено от южного побережья.
Самая лучшая лошадь была у Феликса. Он все время выезжал вперед на разведку. Однажды ему удалось уберечь свой отряд от встречи с испанскими всадниками под командой римлянина. Он подал своим знак, и отряд ушел и скрывался в пихтовой роще, пока не миновала опасность.
На пятый день они достигли побережья. Усталые люди стояли на высоком, голом гребне горы и глядели вниз, на Тарентинский залив, сверкавший в лучах солнца, а свежий ветерок, насыщенный запахом моря, овевал их лица прохладой. Какой-то пастух сказал им, что на расстоянии всего нескольких миль находится Сирисская гавань. И они двинулись в этом направлении по береговой дороге.
Примерно через час они добрались до предместий города. Расположив свой отряд у городских ворот, Феликс в сопровождении мальчиков и охраны из специально подобранных людей въехал в город и потребовал, чтобы его проводили к главному представителю городских властей. Приближающийся отряд сразу заметили со стен города, где уже собралась толпа зевак: весть о поражении восставших придала мужества рабовладельцам всех южных городов.
Увидев отряд, который они приняли за утомленных переходом легионеров, конвоирующий взятых в плен рабов, горожане высыпали из ворот поглазеть на пленников и осыпать их оскорблениями. Им хотелось плевать на захваченных и бросать в них камнями, но они боялись попасть в воинов, одетых в форму римских легионеров. Так им и пришлось удовольствоваться ругательствами и оскорблениями.
Сирис славился своей статуей богини Афины. Однажды, несколько столетий тому назад, когда напавшие на город греки захватили его у первых колонистов, некоторые из осажденных бросились в храм, к ногам статуи, молить богиню о спасении. Победители начали оттаскивать их прочь, и тогда (так гласило предание) богиня закрыла свои каменные очи от ужаса и гнева перед совершающимся святотатством, а преступники в страхе бежали.
И теперь жители города, чувствуя, что опасность, грозившая им от восставших рабов, миновала, славили свою богиню.
— Это она спасла нас от грабителей и убийц.
— Посмотрите-ка на их зверские рожи. Счастье, что у нас такие храбрые солдаты, которые их разгромили.
— Мятежники все равно не завладели бы Сирисом.
Горожане приносили мнимым солдатам вино и пироги, и рабы, изображавшие пленников, очень завидовали счастливцам. Феликс же пробрался сквозь гущу толпы и потребовал, чтобы его провели туда, где заседает совет города.
Глава XIII. Удачная хитрость
Феликса с его охраной и обоими мальчиками ввели в просторное помещение, где навстречу им поднялся жирный лысый человек в одеянии с пурпурной каймой. Тут же находились ликторы[90] со связками прутьев, а в креслах, расположенных амфитеатром, сидели влиятельные граждане, члены совета.
— Чему мы обязаны такой честью? — отдуваясь, спросил председатель. — Как первый гражданин славного и древнего города Сириса, основанного выходцами из Трои, приветствую тебя в наших стенах и с радостью пользуюсь случаем, чтобы передать тебе петицию, где перечислены потери, которые сограждане наши понесли от грабительства злодеев, столько времени наводивших ужас на всю Италию и особенно на наш округ, хотя их замыслы и по терпели крушение. Мы будем счастливы, если ты, как лицо, несомненно, влиятельное, представишь нашу петицию римскому сенату…
— Я всего только воин, к государственным делам отношения не имею, — перебил Феликс эту речь, которую председатель, видимо, заучил наизусть. — Разве город не может оплатить расходы по доставке вашей петиции в Рим каким-нибудь рабом — гонцом государственной почты? Или вы не знаете, что задерживать военного, находящегося, как я в настоящее время, при исполнении служебных обязанностей, — преступление перед государством? А что такое излишние разговоры, как не задержка?
Эти слова явно смутили председателя.
— Но все же, может быть, ты будешь так благосклонен и употребишь все свое влияние…
— Мы об этом потолкуем позже, — опять перебил его Феликс. — Прежде всего, да будет вам известно, что мне нужна ваша помощь, которую вы мне, разумеется, с радостью окажете.
— Вне всякого сомнения, — промолвил председатель без всякого восторга.
— Хорошо, — ответил Феликс и обернулся к Марону. — Пойди, скажи центуриону[91], чтобы он вел пленных к главной пристани. Он сам знает, что ему делать.
Марон вышел из помещения.
— Не будешь ли ты так добр объяснить нам, что все это означает, — начал председатель, от волнения надувая щеки и тревожно моргая глазами.
— Мне приказано взять в вашей гавани самый большой корабль и плыть в Регий, — произнес Феликс, повторяя придуманное заранее заявление. — Пленные, которые находятся под нашей охраной, должны быть отправлены в Регий, где, как вы сами знаете, мятежники прошлой зимой наделали много бед.
— А разве они не могут идти пешком?
— В горах между вашим городом и Регием имеется крупная шайка еще не пойманных мятежников, и мне велено не рисковать. Среди моих пленников есть несколько главарей. Их личность должна быть установлена в Регии. Теперь ты все знаешь.
— Но почему вы явились именно сюда? — спросил председатель, ища, что бы возразить. — Почему не в Метапонт или Тарент?
— Уж, наверно, потому, что ваш город был ближе всего, — резко ответил Феликс. — Поэтому, если ты вручишь мне вашу петицию, я позабочусь о том, чтобы она рано или поздно попала куда следует.
— Ты очень добр, — отдуваясь, сказал председатель. — Но, может быть… дай-ка я подумаю. У нас нет ни одного подходящего корабля. Ни одного, который был бы сейчас готов к выходу в море.
— Об этом вы уж не тревожьтесь, — успокоительным тоном произнес Феликс. — Мои люди живо все наладят.
Председатель колебался. Ему хотелось отказать, но он недоумевал, как это сделать. Перед ним был грубый рубака — и вид у него был такой, и речи такие. Но солдаты часто бывают очень грубыми и ни с чем не считаются. Конечно, в чрезвычайных обстоятельствах все должны прийти на помощь государству, но ведь мятежники теперь разгромлены. Почему же военным дано право по их усмотрению распоряжаться частной собственностью граждан?
— Похоже на то, что у нас нет ни одного свободного корабля, который мог бы выйти в море, — сказал он, напуская на себя важный вид.
Члены совета поддержали его сочувственным гулом. Они не желали соглашаться на требование предоставить корабль. Несколько месяцев тому назад, когда ими еще владел страх перед восставшими, они бы сразу согласились. Но сейчас у них было совсем не то настроение.
Феликс только отмахнулся от председателя и членов совета.
— Не ваша это забота, — повторил он. — Все равно должно быть по-моему. Зовут меня Марк Юлий Фронтин. Я — трибун десятого легиона.
Ему нравилось повторять свое выдуманное имя, и он даже причмокнул.
— Я не привык, чтобы мне говорили «нет». Я делаю, что хочу, беру, что мне понравится, а по счету может платить кто угодно, кроме меня.
Члены совета растерянно поежились в своих креслах. Что-то уж очень невежливо разговаривает этот военный трибун. Но они настолько привыкли к наглому высокомерию римских сенаторов, что им даже в голову не пришло заподозрить Феликса в обман? Все же их несколько смутила его грубая речь. Римский аристократ вполне мог думать, как Феликс, однако, не стал бы высказываться так откровенно, как он. Но, может быть, — думали они, — этот надменный трибун очень долго прослужил в чужих странах и приобрел грубые провинциальные замашки. Он словно не соображал, что разговаривает со свободными гражданами. Но каковы бы ни были причины подобного поведения, вел он себя весьма неприятно. И члены совета беспокойно ерзали на своих местах.
Один из них, уловив взгляд председателя, встал и заговорил:
— Благородные отцы города Сириса, вы хорошо знаете, что в гавани сейчас нет ни одного корабля с полной командой или заслуживающим доверия кормчим. Может быть, через месяц или два…
Феликс потряс кулаком под самым носом говорившего:
— Молчать!
Тот, пораженный, опустился на свое место, а Феликс спокойно продолжал:
— Не бойтесь. Я человек добродушный, только не надо мне перечить. В таких случаях я сперва, действую, а уж потом думаю, но до сих пор именно я-то и оставался в живых. Только вот глаза не уберег. Он мне приказал долго жить.
И он разразился громким хохотом, а затем опять оглядел собравшихся.
— Может, кто еще что-нибудь скажет? Видно, никто. Давайте будем опять друзьями. Велите принести вина… Впрочем, сейчас не до того. Документы-то у вас готовы?
Председатель снова поднялся со своего места, мрачно пыхтя. Но прежде, чем он успел раскрыть рот, вошел Марон в сопровождении мнимого центуриона, одетого в посеребренные доспехи, с виноградной лозой[92] в руках.
— Корабль мы нашли, — доложил он Феликсу. — Его только что разгрузили и собрались вновь нагружать тюками с шерстью. Большинство матросов еще не сошло на берег, так что мы велели им оставаться на корабле.
— Отлично, — закричал Феликс, с веселой усмешкой обращаясь к собранию, — корабль мы достали. Сами видите, что я был прав, когда говорил, что вам беспокоиться нечего. Если вы дадите мне что-нибудь подписать, я подпишу. Если нет, мы отчалим и так.
— Но корабль нам нужен, — протестовал председатель. — Не позднее, чем послезавтра, мы обязались отправить его из гавани с грузам шерсти и кож. Наши деньги пропадут.
— А вы укажите это в своей петиции сенату, — ехидно возразил Феликс.
— Матросов нет, — твердил свое председатель.
— Есть, есть, — ответил Феликс. — Мои люди об этом уже позаботились.
Члены совета так и не знали, что им предпринять. Они молча уставились на Феликса.
— Вы исполняете свой долг перед государством, — напыщенно заявил он, повторяя одну из фраз, которую сочинил вместе с Бренном. — Вы должны этому радоваться. А если вы не рады, я доложу сенату, что вы — шайка, сочувствующая мятежникам, и что на вас надо наложить основательную денежную пеню.
— Этот корабль — мой, — сказал, поднимаясь с места, один из членов совета. — Я не хочу, чтобы его забирали…
— Ты не хочешь? — многозначительно, протянул Феликс. — Ладно. Попробуй нам помешать.
Он взглянул на председателя:
— А разве тебе не нужно, чтобы я подписал документ?
— Да, да, — сказал председатель, стараясь хоть что-нибудь извлечь из этой неприятной истории. Он сделал знак своему помощнику, писцу, который ушел в боковое помещение и стал спешно составлять документ.
— Ну, вот и хорошо, — произнес Феликс, снова заулыбавшись. — Я так и знал, что вы образумитесь, если вам дать время подумать… Я ведь никогда не сержусь, если только люди не начинают дурить. Город у вас славный. Как-нибудь я еще приеду и получше с ним ознакомлюсь. Тогда мы с вами выпьем. Не забудьте моего имени — Марк Юлий Фронтин.
— Ты не в родстве с Фронтином, который управлял Сардинией? — спросил один из присутствующих.
— Я знал его много лет, — ответил Феликс. — По правде сказать, это же мой брат. Хороший парень. Вроде меня.
— Но ведь он уже умер.
— Что поделаешь? — сказал Феликс, подмигнув единственным глазом. — Все мы когда-нибудь помрем, Он умер у меня на руках.
Теперь Бренн стал опасаться, чтобы насмешки Феликса над членами совета не выдали его.
— Я слышал, что он умер от какой-то внутренней болезни, — сказал собеседник Феликса с некоторым сомнением в голосе.
— Правильно, — подхватил Феликс, который не мог отказать себе в удовольствии подурачить спесивых «отцов города».
— У него был коклюш, осложненный расстройством желудка. Он всегда ужасно много ел, и врачи сказали, что доконала его спаржа.
Члены совета удивленно глядели на него, чувствуя в его речах явную странность, но не отдавая себе отчета, в чем тут дело. Для них было ясно, что он из простонародья: ни один римлянин хорошего происхождения не стал бы разговаривать так, как он. С другой стороны, думали они, он мог быть и из хорошей семьи, но опустился, спутался с чернью и привык к грубому обращению. Несомненно, за последний год сенату и консулам пришлось назначить на командные посты много таких людей, которые в обычное время до них не допускались.
Наконец вернулся писец со своими дощечками. Феликс посмотрел на написанное, делая вид, что читает, затем, взяв стиль, он нацарапал на воске свое мнимое имя, Но от излишнего рвения перепутал порядок слов, и у него получилось: «Десятого Марк легиона Юлий Трибун Фронтин».
После этого он протянул таблички председателю. Тот нахмурился, увидев столь странную надпись. Однако ошибка, которая, казалось, могла подвести Феликса, в конце концов помогла ему. Ибо в ней советники нашли то объяснение его непонятного поведения, которое они искали. Прочитав перепутанные слова, председатель решил, что трибун, очевидно, пьян.
Он шепнул это объяснение ближайшему к нему советнику, который передал его соседу, и в один миг оно обошло весь совет. Конечно, этот человек пьян, Они почувствовали некоторое удовлетворение: наконец им стало понятно, в чем дело, и потому совершенно отказались от мысли устроить Феликсу перекрестный допрос. Теперь самое лучшее было бы скорей от него избавиться. Печально, разумеется, что они не в силах помешать ему забрать корабль, но что же делать!
— Ну, теперь вы все довольны? — вызывающе спросил Феликс.
— Да, да, — запыхтел председатель.
— Хорошо, — сказал Феликс. — Итак, счастливо оставаться. На прощанье дам вам один совет. Не пейте неразбавленного вина после того, как поедите устриц. Видите, что случилось с моим братом, а он управлял Сардинией. Я ухожу, а если вы хотите, чтобы я взял вашу петицию, пришлите мне ее на корабль, да в придачу к ней бочонок лучшего вина.
Он повернулся к охране.
— Идем!
И они вышли из помещения.
— Благодарение богам, что он ушел! — промолвил председатель, отирая со лба пот. — И что это творится на свете? Не знаешь, право, что хуже — когда рабы наши поднимают мятеж или когда такой вот неотесанный рубака распоряжается у нас, как хочет.
— Сперва он сказал, что брат его умер от спаржи, а потом — от устриц, — негодовал собеседник Феликса.
— Да он же совершенно пьян, — вставил другой.
— Ну, уж кто-нибудь да заплатит мне за корабль, если он погибнет, — простонал судовладелец.
Но члены совета уже стали расходиться, желая увидеть собственными глазами отплытие этого странного трибуна, его солдат и пленников.
Глава XIV. Море
Времени не теряли. Рабов, которые изображали пленных, разместили в трюме. Большая часть команды находилась на корабле, а немногих матросов, тех, что не хотели идти в плаванье, насильно вытащили из кабачков на набережной. На корабле имелось достаточное количество припасов и пресной воды. Раб, переодетый центурионом, запер кормчего и его помощника в одну из кают. Феликс велел привести их к себе.
— Корабль находится сейчас в моем ведении, — сказал он. — По делу государственной важности. Отплываем немедленно. В Регий. Покажите мне лучшую каюту.
Он удалился в каюту и велел принести вина. Ему до смерти хотелось снять тяжелый шлем. Кормчий был худощавый, светлоглазый, хитрый на вид человек с редкой, похожей на высохший мох бороденкой. Он залопотал что-то насчет распоряжений «хозяина», но, как только Бренн вызвал центуриона, тотчас же затих.
Последние его колебания исчезли, когда он увидел председателя и членов совета, собравшихся на пристани и без всяких возражений наблюдавших за приготовлениями к отплытию. Он начал выкрикивать команду матросам. Канаты были отданы, трап и якорь подняты, матросы скинули одежду и полезли по веревочным лестницам на мачту, чтобы распустить паруса, свернутые на реях. Прежде чем лезть наверх, матросы всегда раздевались догола, так как свободные туники легко могли затруднить их работу и даже сделать ее опасной, запутавшись в канатах или же развеваясь на ветру.
Когда корабль двинулся в открытое море, собравшаяся на берегу толпа радостно завопила — без особых причин, просто потому, что ей чудилось, будто отплытие этого корабля было чем-то связано с неудачей, постигшей восстание рабов. Члены совета наблюдали за отплытием, мрачно хмурясь и не проявляя никакого восторга. Чем больше думали они о беззастенчивом трибуне, тем более странным он им представлялся. Но сейчас уже было поздно принимать какие-либо меры.
Как только корабль вышел из гавани, матросы на главной мачте отпустили снасть, и огромный парус развернулся до самой палубы.
Корабль «Лебедь Сириса» устремился в море, и весь его корпус задрожал под напором волн.
Свобода! Наконец-то настоящая свобода!
Теперь беглецы уже были вне Италии. И хотя власть Рима распространялась на все берега того моря, по которому они плыли, все же средоточие этой власти находилось в самой Италии. Уж, наверное, те, кому удалось вырваться оттуда, сумеют миновать и последние пределы Римского государства, сумеют найти дорогу в мир, существующий за этими пределами~ Пусть мир этот — варварский по сравнению с цивилизованным миром, находящимся под римским владычеством, зато там — свобода. Корабль отошел уже достаточно далеко от гавани. Тогда Феликс без шлема вышел из каюты. Уцепившись за брус, так как началась легкая качка, он обратился к кормчему:
— Поверни корабль и плыви на восток.
— Что ты хочешь сказать? — спросил кормчий с несмелым вызовом в голосе. — Ты же направлялся в Регий.
— Я передумал, — зарычал Феликс. — Поворачивай корабль.
— Но к какой гавани держать курс?
— Ни к какой. Поверни корабль и, не отклоняясь, плыви на восток. Пока тебе больше ничего знать не нужно.
Тут он увидел, что глаза кормчего с изумлением и отчаяньем уставились на его заклейменный лоб. Он поднял палец и обвел буквы одну за другой.
— Так, значит, ты умеешь читать? А знаешь ли, что означают эти буквы? Я тебе сейчас скажу. Они означают, что я не такой человек, который любит дважды отдавать одно и то же приказание. Ну, за дело!
Пока он говорил, повстанцы, переодетые легионерами, открыли двери и люки, и их товарищи, запертые в трюме, высыпали на палубу. У многих из них от спертого воздуха внизу начались приступы морской болезни.
— Пленники вырвались, — задыхаясь от волненья проговорил кормчий.
— Правильно, — ответил Феликс. — Пусть себе вырываются. Я вижу, Ты соображаешь, когда хочешь. Все мы здесь пленники, в том числе и ты. А теперь делай, что я тебе приказал.
Кормчий советовался со своим помощником, а Феликс крикнул матросам:
— Не падайте духом, ребята. Все в порядке, Ведите себя прилично, и к вам будут хорошо относиться.
Кормчий понял, что выход у него один — подчиниться. Корабль медленно повернул.
Бренн подошел к Феликсу.
— Надо ли нам плыть на восток?
— Почему нет? — ответил Феликс. — Спартак хотел двигаться на восток, если бы мы прорвались сквозь войска Красса. Потому и я говорю, — на восток. Спартак считал, что на востоке есть страны, где Рим пока еще не хозяйничает: Египет, Иудея, Парфия, а еще дальше — Индия, а на западе за Испанией — только океан.
Бренну хотелось посоветовать, чтобы они поплыли вдоль испанских берегов в Британию. Но он хорошо понимал, что на такое долгое и опасное путешествие никто бы не согласился. Так ему и надо: он сплутовал, кидая с Мароном жребий. Много ему помогло это плутовство!
— Да, видно, придется нам плыть на восток. Но моя-то родина на западе, к северу от Испании.
— А у меня никогда не было родины, — мягко ответил Феликс. — Сперва я рос на одной вилле, потом был кухонным рабом в Риме, потом метельщиком двора в школе гладиаторов, а потом работал при бане. А кто были мои отец и мать, я так и не знаю. Глаз мне выбили деревянным мечом в гладиаторской школе. Теперь ты все обо мне знаешь. Когда я услыхал о Спартаке и его войске, я вылез из кухонного окна, спрятался в фургоне среди пустых винных бочек и убежал на все четыре стороны. Они-то для меня родина — все четыре стороны. А где именно — мне безразлично.
— Я хотел бы, чтобы и мне было все равно, — грустно вымолвил Бренн. — Но мне так хочется снова увидеть родную землю!
Ему представились луга, где он ребенком играл на солнце, река, где он купался, деревья, на которые он лазил, людей, у которых в жилах текла та же кровь, что у него, которые думали и говорили так же, как он, и стремились в жизни к тому же, — вот что было родиной.
— Мне нравится море, — заметил Феликс, которому чувство, волновавшее Бренна, было непонятно. Он глубоко вдохнул морской ветер. — Вот уж где все четыре стороны. Я на море не в первый раз. В прошлом году я уже видел его в Регии. Но здесь оно лучше. Здорово много воды; и кто это окрасил ее в такой чудесный цвет? Здесь приятнее, чем в цветущем саду, и пахнет куда лучше.
Бренн понял, что всякий разговор о Британии будет бесполезным. Другие рабы сочтут его безумцем — предлагать полный опасностей путь в Британию, когда гораздо ближе есть много других стран, где они тоже будут вне досягаемости для Рима. К тому же большинство из них были родом с востока — из Греции, Фригии или Сирии — и предпочтут более теплые края.
Бренн прошел на корму и, склонившись над бортом, стал смотреть на бурлящую и пенящуюся воду — след, который оставлял за собой корабль. С каждым мгновением он удалялся от Британии, даже если и приближался к свободной земле. Ему было и радостно и грустно, а сильнее всего овладело им чувство одиночества. И тут он понял, что пора поговорить с Мароном и сказать ему правду насчет плутовства с монетой. Он знал, что Марон радуется дороге на восток, и сам хотел разделить его радость, раз уж все равно не будет так, как мечтал сам. Но разделять радость Марона, пока между ними лежит этот обман, он был не способен.
Он спустился с кормы и разыскал Марона. Тот помогал готовить ужин.
— Мне надо с тобой поговорить, — произнес он с каким-то жалким видом.
Марон вытер руки, белые от муки, и вышел к Бренну. Мальчики подошли к борту.
— А что случилось? — Марон заглянул Бренну в глаза. — Ты что-то не в себе.
Бренн не в силах был говорить. Признаться в плутовстве было труднее, чем он предполагал. Но теперь, когда потребность в признании возникла в нем и овладела всем его существом, он уже не мог молчать.
— Марон, — хрипло произнес он, — помнишь, как мы на постоялом дворе метали жребий монетой?
— Да, — спокойно сказал Марон. — Помню.
— Я тебе хочу сказать одну вещь насчет этого, — продолжал Бренн, не смея взглянуть другу в лицо. Он посмотрел за борт на пенящиеся гребни волн. — Я… я ведь сплутовал, — выпалил он и добавил уже спокойнее: — Голова была на обеих сторонах монеты.
— Я это знал, — ответил Марон все тем же ровным голосом. — Я увидел, когда схватил монету. Но раз ты мне сам признался, теперь это все равно.
Бренн поднял глаза от клокочущей пены и, наконец, взглянул на Марона.
— Ты знал и ничего не сказал? — Ему было еще стыднее, чем раньше.
— Сперва я рассердился и хотел выложить тебе все. А потом раздумал. Тогда бы мы с тобой по-настоящему рассорились, а я видел, как тебе хочется в Британию. Вот я и решил остаться с тобой. Ведь если бы я не сделал этого, нашей дружбе пришел бы конец. Вот и все. Конечно, мне было тяжело. Но теперь ты все загладил.
Бренн почувствовал, что глаза у него Наполняются слезами. Он крепко пожал руку Марона.
— Ну, так я рад, что мы плывем на восток и рано или поздно попадем во Фракию. Я рад, что плутовство мне не помогло.
— Не надо больше об этом думать, — сказал Марон. — Ты бы сделал так же, как я.
— Не знаю, сделал ли бы, — ответил Бренн. — Но это не важно. Важно, что теперь мы друг друга поняли. Мы будем вместе, что бы ни случилось, и пусть наш путь кончится там, куда занесет нас судьба.
— Пусть будет так.
Они опять крепко пожали друг другу руки.
Тут порыв ветра донес до них из кухни запах варева, и они засмеялись: от бодрящего морского воздуха им захотелось есть. Хорошо жить на свете, — они свободны здесь, на свежем морском просторе, и скоро будет готова вкусная еда.
Глава XV. Морской разбой
Прошло три дня со времени отплытия из Сириса. Поздно вечером Бренн вышел на палубу.
Прислонясь к мачте, он смотрел на озаренную звездами воду, струившуюся за кормой. Погода по-прежнему стояла ясная. Феликс приказал не прерывать плаванья на ночь, тем более, что бросать якорь неподалеку от берега было бы рискованно, — приходилось опасаться внезапного нападения. Несомненно, за эти дни правители Сириса либо узнали правду, либо догадались о ней и разослали гонцов, чтобы предостеречь власти в других гаванях.
Бренна подняло с койки безотчетное желание еще ваз взглянуть на волны, с глухим шумом разбивавшиеся о борта судна; от волн он перевел глаза на звездное небо, местами подернутое легкими облаками. Он ни о чем не думал, но ощущал какую-то смутную тревогу. Морская пена отливала серебром, и каждый всплеск волн означал, что Британия — все дальше и дальше…
Вдруг он заметил, — со звездами что-то неладно. С самого раннего детства он научился наблюдать движение небесных светил; теперь, снова внимательно взглянув на небо, он увидел, что «Лебедь» идет не в том направлении, куда следует. Нос корабля уже не был обращен к звездам, блиставшим на востоке. Мальчику стало ясно, — корабль повернул и поплыл обратно, на запад.
Бренн проскользнул на корму, не постучав вошел в каюту Феликса и тихонько окликнул его:
— Феликс!
Тот сейчас же бесшумно приподнялся на койке.
— Кто там?
— Я, Бренн.
Феликс высек огонь из кремня, и при тусклом свете восковой свечи Бренн увидел егонастороженное лицо; единственный глаз сверкал из-под спутанной гривы.
— Что случилось?
— Кормчий повернул судно; я это заметил по звездам.
Феликс протяжно свистнул.
— Я должен был это предвидеть, Давай поговорим с ним по-свойски.
Он торопливо надел башмаки и, не зашнуровав их, выбежал из каюты. Бренн пошел за ним следом. Они быстро нашли кормчего. Феликс гневно сказал ему:
— Поди-ка сюда! Мне нужно спросить тебя кое о чем.
Кормчий нехотя повиновался. Вид у него был смущенный.
— Глянь-ка вверх! — продолжал Феликс и, схватив кормчего за подбородок, вздернул ему голову кверху: — Погляди-ка хорошенько: что случилось со звездами.
— Ничего с ними не случилось, — мрачно ответил кормчий.
— Они повернулись задом наперед, — глумливо продолжал Феликс, — встали шиворот-навыворот, перекувырнулись, прошлись колесом — называй это, как хочешь. Но каким словом ни назовешь, а ты — подлая собака.
— Я только выполняю приказания, — пробормотал кормчий.
— Вот как! А чьи это приказания? Не мои! Брось финтить! Признайся! Либо с судном что-то неладное творится, либо со звездами. По-твоему, спятили звезды?
— Отвяжись от меня, — дерзко выпалил, кормчий. — кто вы такие, ты и весь твой поганый сброд?
— Кто бы мы ни были — тебе нас не предать! — рявкнул Феликс. Он крепко обхватил кормчего, приподнял его и с размаху швырнул за борт. Затем он легонько раз-другой взмахнул руками, словно стряхивая с них пыль.
— Зачем ты это сделал? — спросил Бренн; он шагнул к Феликсу, чтобы остановить его, но было уже поздно. — Кто теперь будет вести судно?
Феликс почесал голову.
— Верно, — сказал он, — я малость поторопился, но так ему и надо!
Он на минуту призадумался и стал потихоньку напевать печальную песенку. Затем он сказал:
— Давай поговорим с помощником.
Тот, в смертельном испуге выглядывавший из рубки, попятился, когда Феликс подошел к нему.
— Не бойся, — сказал Феликс. — Ты только повиновался его приказаниям, — значит, ты тут ни при чем. Ты умеешь распоряжаться на корабле?
Несколько оправившись от испуга, моряк кивнул головой.
— Значит, теперь за все отвечаешь ты, — сказал Феликс. — Только не вздумай сыграть с нами какую-нибудь штуку; ты видел — это добром не кончается. Поверни судно, поставь звезды на место и веди себя как полагается.
Корабль снова поплыл на восток. За истекшие три дня матросы — сами рабы — успели подружиться с повстанцами и сочувственно относились к их попытке вырваться на свободу. Таким образом, после устранения кормчего, ничто уже не нарушало полного согласия на «Лебеде».
Следующие два дня плаванья прошли спокойно, а на третий — наблюдатель заметил на расстоянии около пяти миль корабль, шедший прямо к «Лебедю».
Среди повстанцев поднялся переполох; они решили, что это военный корабль, высланный, чтобы схватить их и вернуть в Италию. Феликс несколько успокоил людей, объяснив им, что корабль идет к Италии с востока и, значит, не мог быть послан за ними в погоню.
Опасения рассеялись не вполне. Как-никак судно могло быть военное; что, если его начальнику вздумается обыскать «Лебедя»? Но наблюдатель, донес, что корабль, тем временем подплывший довольно близко, судя по всему, торговый: обводы у него более закругленные, чем у военных судов, его двигали паруса и не видно было гребцов, размещаемых на военных судах тремя ярусами и являющихся непременной их принадлежностью.
Повстанцы приободрились; некоторые из них даже влезли на мачты, чтобы лучше разглядеть корабль, приближавшийся к ним.
Новый кормчий подошел к Феликсу и сказал:
— Начальник, я хочу кое-что предложить тебе.
— Выкладывай, — отозвался Феликс, жевавший ячменную лепешку. — Я никогда не мешаю людям говорить, но мне случается уложить человека на месте, если он скажет не то, что надо.
Кормчий облизнул пересохшие губы, огляделся по сторонам и начал:
— Я рад, что ты швырнул его за борт. Он был изверг, тиранил нас. Он велел бросить моего брата в море за то, что брат кинулся на него. Теперь он получил по заслугам. Брат нечаянно чем-то рассердил кормчего, и тот жестоко избил его; брат рассвирепел — и кончилось тем, что его, беднягу, выбросили за борт.
Феликс осклабился.
— Матросам не годится, сердить начальника. Ну, ладно! Меня очень радует, что я полностью расквитался с этим негодяем за его злодейства. Хотя, признаться, я малость поспешил. Что же ты надумал?
— Мне осточертело быть рабом, и всем моим товарищам — тоже. Мы хотим присоединиться к вам. Но что вы намерены сделать, когда окажетесь на Востоке?
— Продать корабль финикийцам, которые не будут нас донимать расспросами; выручку мы поделим, а затем — разбредемся по белу свету.
— Тогда нас мигом всех переловят, — проворчал кормчий, — и нам будет не лучше, чем прежде — нет, хуже, если только это возможно.
— Так чего же ты хочешь?
— Давайте станем пиратами! Тогда нам незачем будет расходиться в разные стороны. Мы можем найти какую-нибудь бухту в Киликии или пристать к побережью Адриатики, где для жителей помогать пиратам — привычное дело. Там мы примкнем к другим пиратским судам. Мы и в накладе не останемся, и не пропадем зря!
Повстанцы и матросы, толпившиеся вокруг Феликса и кормчего, радостно приветствовали это предложение. В те времена пиратство не являлось чем-то позорным. В нем видели разновидность войны, своего рода каперство[93], а не разбой. Иллирийские и киликийские пираты считали, что они ведут войну против Рима и имеют право захватить любое римское судно, которое им попадается.
— Так и сделаем! — гаркнул Феликс, дружески хлопнув кормчего по спине.
Бренн хотел было выступить вперед и возразить против этого решения. Мысль, что ему придется беспрерывно скитаться по морям, покуда какая-нибудь римская флотилия не захватит их судно, отнюдь не улыбалась мальчику.
Но Марон, заметивший его движение, удержал Бренна за руку и шепнул ему:
— Пускай себе плывут в Адриатику, а уж там-то мы сможем отстать от них. От побережья до Фракийских гор — рукой подать.
Бренн снова преисполнился надежды.
«Если судьба дает мне возможность добраться до Фракии, — подумал он, — значит, нужно без всяких колебаний отправиться вместе с ними; какое это счастье — попасть в страну, где я буду сам себе господин!»
Он подошел к Феликсу.
— Возьмем курс на Иллирию! Туда ближе, чем в Киликию!
— Я тоже за Иллирию, — . подхватил кормчий, внимательно слушавший Бренна. — Там столько бухт и островков, что мы отлично сможем прятаться, Если нужно будет. А жители ненавидят римлян и всегда готовы помочь пиратам.
— В Иллирию так в Иллирию, — заявил Феликс и тотчас зычно крикнул повстанцам и команде: — К оружию, ребята! Первая наша добыча сама, дается нам в руки!
Он размашистым жестом указал на торговое судно, находившееся теперь самое большее в полумиле от «Лебедя». Матросы и повстанцы ответили ему негромкими радостными кликами и принялись делить между собой оружие, раскиданное на палубе. Тут не обошлось без перебранки. Покончив с этим делом, моряки дружно направили «Лебедя» прямо к торговому судну, а наблюдатель замахал флагом.
По указаниям Феликса и кормчего, команда собрала все якоря и крюки, какие только оказались на «Лебеде»; взяли даже тяжелые камни из балласта и привязали их к концам канатов, а крюки и якоря прикрепили к длинным шестам. Запасшись этими абордажными орудиями, моряки и повстанцы притаились на верхней палубе, под бортами.
На торговом судне, очевидно, не подозревали опасности; оно подплывало все ближе. Неожиданным маневром «Лебедь» придвинулся к нему вплотную. Люди, размещенные под бортами «Лебедя», крепче сжали в руках шесты и канаты; с торгового судна крикнули:
— Что вам нужно?
Феликс свистнул. «Лебедь» сделал резкий поворот и протаранил среднюю часть торгового судна. Из-под бортов с гиканьем выскочили спрятавшиеся там люди и мгновенно взяли судно на абордаж[94]. Раздался оглушительный грохот. Это матросы «Лебедя» спустили брусья мачт на палубу атакованного судна, чтобы удержать его на месте, а вооруженные повстанцы с воинственным кличем перепрыгнули через борт и ворвались на палубу…
Команда торгового судна, захваченная врасплох, не оказала сопротивления. Феликс был в первых рядах нападавших. Он сразу приметил кормчего и стал наступать на него, но тот и не думал защищаться, а, видя, что все пропало, упал на колени, моля о пощаде..
— Встань! — крикнул Феликс. — Мы никому из вас не сделаем зла, мы только заберем ваш груз. Мы — воины Спартака, и твой корабль — военная добыча!
Корабль плыл из Александрии с богатым грузом; там были стеклянные изделия, свитки папируса, мебель с украшениями из слоновой кости и черного дерева, пестро раскрашенные статуэтки и другие безделушки.
С веселыми прибаутками повстанцы и матросы доставали вещи из трюма и перебрасывали их на свой корабль. Из вспоротых тюков с безделушками сыпались зеркала из полированной бронзы, и резные шкатулки, изящные сосуды с притираниями и благовонными маслами.
Когда весь груз был перенесен и трюм торгового судия опустел, Феликс, ухмыляясь, сказал кормчему:
— Если хочешь, я письменно удостоверю, что ты не потопил груз на полпути в Средиземном море и не продал его в каком-нибудь азиатском порту.
Капитан исподлобья взглянул на него и ничего не ответил.
— Меня зовут Марк Юлий Фронтин, — не унимался Феликс. — Скажи им это там, в Сирисе. Уж они-то знают мою подпись.
Тут он захохотал во все горло и перелез обратно на палубу «Лебедя», крикнув своим людям, чтобы они поскорее следовали за ним, иначе он их оставит на борту чужого судна. Все немедленно вернулись на корабль, захватив с собой свои якоря и камни. Затем повстанцы и матросы убрали абордажные крюки, и суда поплыли в разные стороны.
Глава XVI. Просчитались
В эту ночь на борту «Лебедя» царило веселье; казалось, впереди — занимательнейшие приключения, богатая пожива.
После дележа добычи принялись обсуждать, что делать дальше; в конце концов решили, что «Лебедь» направится к берегам Иллирии и будет совершать рейсы вдоль побережья, пока не найдется подходящий зеленый островок, укрытый от ветра и, разумеется, необитаемый. На этом островке высадят женщин и детей и построят для них дома, и там, в тихой бухте, «Лебедь» будет стоять зимой, когда выход в море — верная смерть. А холостые найдут себе жен в иллирийских селеньях, разбросанных на взморье.
Кое-что из добычи сложили внизу, но много громоздких вещей осталось на палубе, так как часть трюма теперь была отведена под жилье.
Итак, все сошло как нельзя лучше. Теперь восставшим и в голову не приходило, что им может грозить опасность. Они воображали, что плаванье по морю всегда спокойно и приятно и что у них будет одна только забота — при каждом удобном случае останавливать купеческие суда и забирать груз.
На другое утро наблюдатель снова увидел корабль; в этом не было ничего странного, так как «Лебедь» плыл теперь тем путем, каким обычно пользовались торговые суда. Все живо разобрали оружие.
Сделанные накануне приготовления были в точности повторены, и вскоре корабли оказались так близко друг от друга, что можно было перекликаться. Один из матросов стал на борт и, держась за канат, крикнул:
— Эй, вы!
На этот раз не пришлось прибегать к искусным маневрам: корабль по собственному почину направился прямо к «Лебедю».
Феликс с довольным видом потуже затянул пояс. В эту минуту к нему подошел кормчий.
— Не нравится мне это судно, — сказал он.
— Почему? Судно как судно, — резко ответил Феликс.
— Не военное это судно и не торговое, — продолжал кормчий, пристально разглядывая корабль.
Прежде чем он успел вымолвить еще хоть слово, таинственный корабль придвинулся к «Лебедю» вплотную и раздался трубный сигнал. «Лебедь» мгновенно взяли на абордаж; несколько повстанцев, размещенных под бортами, были тяжко изувечены крюками, и на палубу толпой ринулись люди зверского вида.
Матросы и повстанцы, рассчитывавшие захватить экипаж корабля врасплох, теперь сами узнали, как страшен внезапный абордаж. Они пытались сопротивляться, в недолгой схватке вывели из строя несколько человек неприятельской команды, но потерпели полное поражение. Некоторые, растерявшись от неожиданности нападения, пытались взобраться на мачты или спрятаться за нагроможденной на палубах мебелью.
Бренн и Марон находилась на юте[95] и поэтому вначале не участвовали в борьбе. Увидев, что их товарищам угрожает опасность, они бросились к трапу, ведущему на корму, но бой закончился, прежде чем они попали на нижнюю палубу. Матросы и повстанцы разбегались во все стороны. Феликс, оглушенный ударом, лежал без чувств.
Расталкивая всех, на середину палубы вышел человек в бронзовом панцире; с его плеч ниспадала львиная шкура.
— Где кормчий? — властно спросил он.
Матросы «Лебедя» вытолкнули злополучного кормчего вперед.
— Кто вы такие, да поразит вас огненный Сандан! — заорал человек в бронзовом панцире. — Я принял ваше судно за торговое, а оказывается — люди наряжены римскими легионерами! Скажи мне правду или я вырву тебе язык!
— Мы… мы пираты… — пробормотал кормчий.
— Пираты! — повторил человек в панцире и, повернувшись к своим спутникам, спросил, — Вы слышали, что он сказал? Они называют себя пиратами!
Раздался взрыв хохота. Бренн мгновенно сообразил, что произошло: «Лебедь» встретился с настоящим пиратским судном.
Феликс, тем временем пришедший в себя, встал и, держась за канат, подошел к человеку в бронзовом панцире. Тот, ухмыляясь, смерил его взглядом и спросил:
— Значит, ты здесь начальник?
— Мы пираты, — ответил Феликс, — воины Спартака, плывем в Иллирию.
— Знай я, кто вы такие, я не напал бы на вас, — сказал с усмешкой человек в бронзовом панцире, — Меня зовут Кудон. Но раз вы сами навлекли на себя такую беду, — значит, придется вам и расплачиваться.
Повернувшись к своей команде, он добавил:
— Разоружите всех и посмотрите, какой у них там груз. Берите только самое ценное, все прочее оставьте! Я не потерплю, чтобы мое судно загромождали хламом — лишнего места у нас нет! Слышите? Затем он опять обратился к Феликсу:
— Это дело стоило мне троих парней, да и раньше мне не хватало рук. Вот я и заберу себе кое-кого из твоей команды.
Он испытующе оглядел рослого, мускулистого Феликса и снова разразился смехом. Смеясь, Кудон растягивал рот до ушей; тогда ясно обозначался глубокий шрам, тянувшийся по всей щеке.
— Пожалуй, я первым делом возьму тебя, — продолжал он. — А твои люди выберут себе другого начальника.
Он приказал повстанцам и матросам выстроиться и прошелся вдоль рядов, отмечая тех, кого решил взять с собой. Отобрав человек шесть самых здоровых и сильных, он заметил Бренна и Марона и знаком приказал им подойти.
— Вас, ребята, я тоже забираю. Вид у вас такой, что я думаю, вы свой корм отработаете.
Люди Кудона тоже не теряли времени даром. Они переносили на свой корабль все самое ценное из груза, доставшегося «Лебедю» накануне.
Ухмыляясь, Кудон заявил команде «Лебедя» и повстанцам:
— Я оставлю вам судно. Лучше всего для вас будет при первой возможности пристать к берегу и скрыться в ближайших горах. Моряки вы плохие и в пираты никак не годитесь.
Он слегка ударил Феликса плоской стороной меча.
— А теперь — на борт!
Бренн и Марон тоже перелезли на пиратское судно; их предупредили, что спать им придется на полу, так как все койки заняты.
Один из матросов взял их на свое попечение и объяснил, в чем состоят их обязанности: им придется убирать каюту Кудона, прислуживать ему за столом, помогать на кухне и заниматься вместе с другими всякими поделками.
Из нескольких отрывочных замечаний, оброненных матросом, Бренн заключил, что Кудон держит курс на запад, с целью ограбить золотые прииски в Испании. Сердце мальчика забилось сильнее; несмотря на то, что он попал в плен, в нем ожила надежда. Ведь корабль плывет на запад!
Глава XVII. Буря
Благодаря этой неугасимой надежде Бренну легче было переносить плен. Кудон был гневлив и не стеснялся с теми, кто имел несчастье не угодить ему; а так как Бренн и Марон находились при нем, то им и доставалось больше других.
Феликсу жилось легче, чем мальчикам, и он несколько свыкся со своим положением; оставив прежние властные повадки, он управлялся с канатами, подтягивал матросам, когда они хором пели свои песни, и скоро стал общим любимцем. На досуге он подолгу рассказывал о тех днях, когда сражался бок о бок со Спартаком; вдобавок, моряки, всегда склонные к суеверию, считали, что его единственный слегка косивший глаз — подлинный «дурной» глаз, и Феликс убедил их, что он искуснейший заклинатель змей; ведь он отлично знал, что никто из матросов не сможет выудить из Средиземного моря змею и проверить, правда ли это.
Бренн и Марон старались поменьше разговаривать друг с другом на людях; но они зачастую перебрасывались украдкой несколькими словами и решили смотреть в оба, когда судно причалит к берегам Испании. Кто знает, не представится ли там случай незаметно скрыться? Они поклялись, что один не уйдет без другого; либо они вместе вырвутся на свободу, либо вместе останутся в неволе.
Однажды они сидели и чистили панцирь Кудона. Оба молча размышляли все о том же. Из задумчивости их вывел громкий возглас наблюдателя, рукой показывавшего на юг. Кудон, зевая во весь рот, вышел из своей каюты и сразу увидел, что грозит беда. На горизонте виднелись багровые облака, мертвенно тусклое небо отливало медью.
— Почему ты не позвал меня раньше? — в бешенстве загремел Кудон, но спохватился, что сейчас не время распекать наблюдателя, а есть дела поважнее. Он кликнул старшего, тот побежал в кубрик; матросы, ворча и ругаясь, один за другим, вразвалку вышли оттуда.
— Убрать паруса! — скомандовал Кудон. — Поднять весла! Живо, если вам дорога жизнь!
Люди поняли, что они в смертельной опасности, и мигом взялись каждый за свое дело. Наскоро свернули паруса; с грохотом спустились брусья мачт; матроса, на минуту замешкавшегося, с головой накрыло одним из парусов, который второпях забыли свернуть. Матрос беспомощно барахтался, его вытащили из-под парусины. Брусья сложили в стороне, под бортами, предварительно привязав их к столбам, поставленным на этот случай.
Тучи, мчавшиеся с юга, целиком заволокли небо; яркий дневной свет померк; послышалось завывание бури; с каждым порывом ветра волны вздымались все выше, бурлили все сильнее.
Как ни страшил Бренна и Марона надвигавшийся шторм, гнев Кудона был для них еще страшнее. Бережно уложив панцирь в рундук, откуда они его вынули, они вернулись на ют, рассчитывая по мосткам пробраться оттуда на корму; но палубы уже были залиты водой.
На верхней палубе они увидели трех матросов, уцепившихся за канат. Пенящийся вал перекатился через борта, и двух человек смыло. Третий все еще отчаянно цеплялся за канат.
— Да это Феликс! — крикнул Марон.
Он проворно спустился по трапу, ведущему с юта на верхнюю палубу, и подхватил Феликса, когда тот, обессилев, едва не выпустил канат из рук.
Судно кренилось так сильно, что Марон еле удержался на ногах. С большим трудом он довел Феликса до трапа. Бренн помог Марону втащить Феликса. Они были на середине трапа, когда новый вал перекатился через борта и едва не сшиб мальчиков с ног. Крепко ухватившись за перила, они снова принялись тащить Феликса. Прежде чем нахлынула следующая огромная волна, они уже взобрались наверх.
— В самый раз! — прохрипел Бренн, с трудом переводя дух.
Эта волна была еще страшнее; она хлынула на палубу и переломила трап.
Бренн и Марон не стали дольше смотреть, а вбежали в ближайшую каюту и положили Феликса на койку. Он улыбнулся им и, спустя немного времени, приподнялся. Море бушевало вовсю, — слова нельзя было расслышать. Мальчики с минуты на минуту ждали, что могучие валы, непрерывно обрушивавшиеся на корабль, разобьют его. Неистовый шум не утихал. Вода, залившая пол каюты, доходила беглецам~ до колен; они коченели от холода.
Каюта ходила ходуном. Феликса и обоих мальчиков швыряло во все стороны. Они пытались ухватиться за края коек и за рундуки, но волны хлестали в борта судна с такой бешеной силой, что удержаться на месте было невозможно, и все трое поминутно стукались друг о друга.
Оказалось, что они вбежали в каюту, где незадолго до шторма в последний раз закусывал Кудон; на столике еще оставалась кой-какая еда. Марон схватил все, что там было — несколько мучных лепешек и кусок копченой свинины, — и не выпускал этих припасов из рук, как буря ни свирепствовала. Во время недолгого затишья он поделился ими с Феликсом и Бренном; все трое с жадностью набросились на пищу.
Вскоре шторм возобновился с удвоенной силой, и они забыли все на свете, кроме необходимости крепиться и уцелеть среди ужасающего разгула стихий. Никогда в жизни они еще не слышали подобного грохота. Он был так чудовищен, что постепенно у них притупились все чувства и терзавший их страх несколько ослабел. Они уже не в состоянии были думать. Они помнили только одно: надо выжить.
Затем гул понемногу стих. Весенний шторм налетел внезапно, с огромной силой, но длился недолго: Беглецам не верилось, что буря кончилась. Они молили богов, чтобы эта надежда не оказалась тщетной. Было бы слишком жестоко, если бы все началось сызнова, если бы затишье оказалось только злой шуткой, сыгранной с ними демоном бурь. Когда появилась, надежда, они сразу обмякли и почувствовали, — второй раз им такого напряжения не перенести. Если после передышки, сулившей избавление, снова разразится буря, она застанет их измученными, отчаявшимися, и они уже не смогут отстоять себя.
Но буря действительно кончилась.
Едва держась на ногах, Марон добрался до двери и несмело поднял щеколду. Но дверь наглухо захлопнуло ветром, и он не в силах был высадить ее. Марон, спотыкаясь, вернулся к койке, лег и стал выжидать, что будет дальше.
Корабль все еще швыряло по волнам, но гул стих.
Вначале мальчики и Феликс спрашивали себя, не обман ли это слуха; быть может, они в самом деле оглохли от неистового рева, и он продолжается все с той же силой? Эта мысль страшила их больше всего. Как ни ужасен был непрерывный шум — еще ужаснее быть замурованными в обезумевшем хаосе, не слыша его яростного воя.
Немного погодя все трое налегли на дверь и общими усилиями сорвали ее с петель. Шатаясь от слабости, щурясь от дневного света, они вышли на палубу и увидели, что сомневаться не в чем: шторм прекратился.
Над их головами неслись серые перистые облака, по морю бегали барашки, но буря умчалась к северу.
Корабль оказался в ужасном состоянии. Обе мачты снесло, на носу зияли пробоины.
Феликс крикнул:
— Есть кто? — и сам поразился, какой у него слабый голос.
Ответа не было.
Неужели всех, кто был на корабле, смыло и уцелели они одни? Судно дало сильный крен, вода, хлеставшая в пробоины, быстро поднималась. Вокруг — безмолвие. Им стало ясно: Кудон погиб, погибла и вся команда.
— Похоже, что посудина сейчас затонет, — сказал Бренн.
— Верно, — подхватил Марон, — и нам надо поскорее решить, что делать, иначе нас засосет вместе с ней.
Они огляделись вокруг, соображая, из чего бы сколотить плот. Но все те части, которые могли для Этого пригодиться, снесло бурей; уцелел только остов.
— Возьмем двери, — предложил Бренн.
Они повернули назад и осмотрели каюты, расположенные ближе к корме. Две-три двери штормом разбило вдребезги, с петель свисали жалкие остатки. Другие уцелели. С помощью Феликса мальчики сняли их и снесли на середину верхней палубы. Затем Бренн и Феликс выбрали крепкие доски из рундуков и коек, а Марон собрал обрывки канатов и веревок. В одном из ящиков он нашел длинный канат, и все трое принялись за дело: связав бревна, они проворно соорудили плот, правда, неказистый, кривобокий, но устойчивый.
Судно кренилось все сильнее; поэтому, справившись с работой, они немедленно спустили плот с палубы на воду и, ухватясь за веревки, прыгнули на него.
Бренн догадался привязать к плоту несколько валявшихся на палубе кусков дерева, которые могли пригодиться для гребли; работая этими импровизированными веслами, они быстро отдалились от судна.
— Куда нам плыть? На восток, на запад, на север или на юг? — спросил Феликс, широко улыбаясь. Он был счастлив, что спасся с корабля, на котором два-три часа назад им, казалось, угрожала верная смерть.
— Только не на север! — воскликнул Бренн. — Так мы попадем обратно в Италию или куда-нибудь неподалеку от нее.
— Значит, надо плыть на юг, — посоветовал Марон. — К югу берег должен быть всего ближе.
Феликс перевел взгляд на запад, где солнце уже садилось, и пытался было определить направление, но передумал.
— Мы лучше все сообразим, когда взойдут звезды, — сказал он.
Им не оставалось ничего другого, как сидеть и ждать этой минуты.
— Эх! Я охотно бы поел чего-нибудь, — пробурчал Феликс.
Мальчикам тоже хотелось есть, но хотеньем ведь не насытишься.
Солнце скрылось за грядой волнистых облаков. Ветер посвежел, замигали звезды посреди рассеянных там и сям туч, на море поднялась легкая зыбь. Но голод нечем. было утолить. Вокруг — водная пустыня, вверху — пустынное небо, оживляемое только серебряной россыпью звезд. А между этими двумя бескрайними пустынями затерян убогий плот, где, сбившись в кучку, сидят трое истощенных голодом людей — одноглазый мужчина и два мальчика. Боясь, что кто-нибудь из них, задремав, свалится с плота, они продели руки в петли веревок.
Все трое промокли до костей, продрогли, обессилели от голода и жажды. Они теснее прижимались друг к дружке, чтобы хоть немного согреться и не чувствовать себя такими заброшенными, и все же коченели и отчаивались. Они думали только об одном — о пронизывавшем их холоде, как во время бури не могли думать ни о чем, кроме ветра, сотрясавшего корабль.
Казалось, холод сковал весь мир, сковал время, обрекая на смертную муку трех беглецов, скорчившихся на жалком плоту между необъятным морем и необъятным небом. Скоро, — с тоской думали они, — снова завоет ветер, волны разнесут плот в щепы и их скитания окончатся, но не так, как они надеялись.
Да, они все еще надеялись, иначе зачем им обвязывать себе руки веревками и тесно жаться друг к дружке? Трое друзей — они все еще надеялись, и в мечтах, согревавших одеревенелые, окоченевшие тела, они видели перед собой родной дом, огонь, пылающий в очаге, веселую трапезу в кругу семьи, а перед домом — поля, ими возделанные и дающие им пропитание.
Мечта казалась очень далекой, но она поддерживала в них жизнь.
Глава XVIII. Земля!
— Земля! — крикнул. Марон. Шатаясь от слабости, он стоял на плоту. Бренн крепко держал его за руку.
Бренн и Феликс тотчас вскочили на ноги, забыв о том, что плот может перевернуться. После долгой, томительной ночи наступил день; уже много часов подряд они гребли своими самодельными веслами, благословляя солнечный свет, но все сильнее страдая от голода и жажды.
— Земля, — словно эхо повторил Бренн.
— Земля, — повторил и Феликс; его обычно громовый голос теперь напоминал хриплое карканье.
Они снова опустились на доски и взялись за весла. Они гребли словно одержимые, стремясь как можно скорее причалить к твердой земле, которую завидели вдали. На этой земле, — говорили они себе, — наверно найдется пища, и вода, и тихий уголок, где они смогут лечь и крепко уснуть, не боясь скатиться в морскую пучину.
Окрыленные заманчивой мечтой, они рассчитывали добраться до земли за несколько минут; но они гребли и гребли, а расстояние все не уменьшалось.
Тогда их обуял страх: что, если земля каким-то образом исчезнет? Все трое еще сильнее налегли на весла, и в конце концов земля стала приближаться. После первого разочарования они заставили себя грести, не глядя вперед, — и вдруг земля оказалась гораздо ближе, чем они ожидали.
Теперь они видели ее совершенно отчетливо: скалистый берег, ни жилья, ни растительности. Пустынный вид взморья не смутил их. То была твердая земля, — все, что им требовалось.
Но их мытарства еще не кончились.
— Как же мы попадем на берег? — спросил Марон, снова вставший, чтобы поглядеть вперед. — У берега волны, видно, сердитые, — продолжал он. — Надо думать, это буруны. Я нигде не вижу местечка, где можно было бы причалить.
— Придется прыгать с плота, — сказал Бренн, не допуская и мысли, что в последнюю минуту они могут встретиться с неожиданными препятствиями или же, уцелев во время шторма в открытом море, утонуть так близко от берега.
— Да, прыгнем, — подхватил Феликс. — Такой будет прыжок, какого никогда не видали ни на земле, ни на небе; с ним сравнится разве что прыжок Тельца, когда тот с разбегу прыгает через Луну.
Приближаясь к берегу, они услышали грозный шум прибоя, и тотчас обостренное опасностями чутье подсказало им, что попасть на сушу будет неимоверно трудно. Казалось, перед взморьем залегли дикие звери, неистовым ревом предупреждавшие, что никто не может уйти от их разверстых пастей и достичь желанного пристанища — твердой земли.
Мальчики и Феликс отложили весла в сторону, так как волны быстро несли их к покрытым белой пеной скалам, и нужно было беречь силы для последнего, огромного напряжения. Они видели, что волны слева от них разбиваются о рифы, и радовались, что избежали хоть этой опасности. Затем земля стала быстро приближаться, словно надвигаясь на них.
Волны с пенистыми хребтами гнались за ними. Плот мчало прямо к скалистому берегу. Но им не пришлось раздумывать. Послышался скрип, глухой удар, громкий треск. У каждого из беглецов сотрясение болезненно отдалось во всем теле. Над их головами вскипала белая пена; им мерещилось, что они в тисках огромного удава, который, извиваясь в предсмертной судороге, сжимает их все крепче. Спустя минуту-другую они поняли, что случилось: плот разбился о прибрежный утес, их сбросило с досок, и, если они не уцепятся за что-нибудь устойчивое, их смоет прибоем. Они ухватились за выступы утеса, а волны, откатываясь в море, бушевали вокруг, подбрасывая несчастных, яростно трепля их среди камней.
Подтянувшись на руках, Марон увидел, что Бренн, которому пена залепила глаза, в изнеможении подался назад. Став на колени у края выступа, Марок схватил друга за кисть левой руки и, понатужившись, рывком поднял его повыше. Феликс, уцепившийся ниже мальчиков, проворно карабкался вверх по утесу.
— Скорее, покамест следующая волна еще не набежала! — крикнул он, помогая Марону и Бренну.
Тяжело переводя дух, в кровь раздирая руки и ноги, они взобрались на верхушку утеса, где волны уже не могли их захлестнуть, и, обессиленные, упали на голые камни.
Отдышавшись, они поднялись на один из скалистых холмов, длинной цепью тянувшихся позади утеса, и огляделись вокруг. Унылое зрелище! Сколько хватал глаз — пустынный берег да уходящая вдаль гряда белой пены поверх рифов. Взойдя повыше, они увидели на темно-бурой земле редкие пучки чахлой травы, а неподалеку, в сухом русле, полоски бледной зелени.
Томясь жаждой, они пошли по отлогому каменистому руслу и набрели на небольшую лужицу. Вода отзывала гнилью, но они жадно припали к ней, благословляя счастливый случай, — ведь она могла оказаться еще хуже. Для их воспаленных гортаней это был чудесный напиток.
Но съедобного не находилось нигде. Ни плодов, ни ягод. Беглецы продолжали идти по руслу; этот путь не хуже любого другого мог привести их в обитаемые места. Они шли и шли, хотя ноги у них подкашивались и в голове мутилось. На земле спускались сумерки: мгла окутала долины, потом сгустилась на вершинах холмов. Выбившись из сил, беглецы свалились на землю, под деревом, и провели ночь в лихорадочном забытьи. Как только рассвело, они встали и, мокрые от росы, побрели дальше.
Ландшафт стал менее унылым. Им снова попалась лужица, почище и поглубже. Они с наслаждением напились. На глинистой почве Марон заметил следы.
— Козьи копытца! — воскликнул он. — Значит, где-то поблизости все же есть люди!
У них отлегло от сердца. В страшные минуты, пережитые на скалистом берегу, они терзались мыслью, что попали в пустыню, где не найдут ни людей, ни пищи, Теперь, когда снова затеплилась надежда, все трое, несмотря на мучительный голод, ощутили прилив сил. Они ускорили шаг. Марон шел впереди, указывая путь по козьим следам, едва различимым на сухой, растрескавшейся земле. Ни Бренн, ни Феликс не могли их приметить.
Они миновали заросли кустарника и раскидистое дерево с огромными листьями, названия которого не знали, и, пройдя крутой изгиб русла, увидели хижину.
Несомненно, там жили люди: тростниковая крыша была в исправности, у порога в двух-трех местах виднелась пролитая вода. На полоске возделанной земли росли овощи. Но дверь хижины была наглухо закрыта, и, сколько они ни стучали, никто не вышел.
— Наверно, пастух в поле, — предположил Феликс. — Но я не понимаю, почему это в таком глухом месте дверь на запоре.
— Никакого запора нет, — возразил Марон, указывая на щеколду. — Там кто-то есть. Дверь заложили изнутри.
— Впустите нас! — крикнул Марон. — Мы вам не сделаем ничего худого. Мы только хотим поесть!
Никто не отозвался. Они втроем налегли на дверь, но у них не было сил отвалить или хотя бы сдвинуть с места тяжелую перекладину, на которую дверь была заложена изнутри.
— Впустите нас, — жалобно протянул Бренн. — Пожалуйста, впустите!
Откуда-то сверху их окликнул женский голос.
— Кто вы такие?
Вскинув глаза, они увидели голову женщины, высунувшуюся из слухового оконца, под самой крышей.
— Нас выбросило на берег после крушения, — объяснил Бренн. — Впустите нас.
Голова исчезла. Они услышали шаги, женщина сошла вниз и отперла дверь.
— Я очень перепугалась, — объяснила она.
— Что же тебя так перепугало? — спросил Бренн, но тотчас отвлекся от ее страхов и спросил: — Ты можешь нас накормить? Мы уже несколько дней не ели.
Он пытался припомнить, сколько дней они голодают, но не мог. казалось, — бесконечно долго. Когда же они ели в последний раз?
Не дожидаясь дальнейших объяснений, женщина подошла к нише в грубо оштукатуренной стене и принялась там хлопотать. Трое друзей стали осматриваться. В хижине, по-видимому, была всего одна комната. В ней находился очаг — несколько камней, положенных на утоптанный земляной пол. Дым выходил через отверстие в крыше. В одном углу виднелось убогое ложе — соломенная подстилка, накрытая тряпьем; на подушке спал младенец. Еще были две скамьи и низенький столик, сколоченный из неоструганных досок; над дверью устроен небольшой помост, служивший кладовой. С этого помоста и окликнула их женщина.
Хозяйка, смуглолицая крестьянка, тем временем поставила на стол хлебцы, которые сама испекла, и горшки с козьим молоком.
— Я перепугалась, — повторила она. — Здесь рыщут мавры![96]
Бренн понятия не имел, кто такие мавры. Уплетая вовсю, он, однако, умудрился с набитым ртом спросить:
— А что они тебе сделают?
Женщина рухнула на колени возле убогого ложа. Обхватив ребенка руками, она запричитала:
— 0 небо! Я боюсь… боюсь, не убили ли они его!
Бренн, Марон и Феликс в изумлении переглянулись; кусок уже не шел им в горло. Все трое в один голос спросили:
— Кого это?
— Коракса, — ответила женщина; как ни было велико ее горе, она все же заметила, что пришельцам это имя ничего не говорит, и пояснила: — Моего мужа.
Беглецы снова принялись за еду; но теперь их тревожила навязчивая мысль, что в оплату за пищу, которая вернула им силы, они должны что-то сделать для женщины.
— Почему ты думаешь, что они его убили? — спросил, наконец, Бренн.
— Сегодня утром он забежал домой — сказать, что видел мавров, и сразу же пошел в поместье, предупредить там. Только он ушел, Как я сама увидела двух мавров, верхом на конях. Они спускались с холма. На беду, они заметили Коракса и погнались за ним. Я хотела выбежать из дому, предостеречь его, но мавры вклинились между ним и мною. А потом прискакали два других мавра и угнали всех коз. Вот я и сижу ни жива ни мертва.
— А зачем маврам его убивать? — спросил Марон.
Женщина изумленно взглянула на него.
— Откуда вы взялись? Будто не знаете, что мавры делают? Они всегда все разоряют начисто и никого не щадят — ни господ, ни рабов. Злые они люди!
Беглецы снова переглянулись. Первым заговорил Феликс.
— Спасибо тебе за еду. Какие бы они ни были, эти мавры, но ты добрая женщина. Мы совсем уже отощали, а теперь опять набрались сил. Если только понадобится помощь, мы спасем твоего мужа.
— Что вы можете сделать? У вас ведь даже оружия нет, — сердито спросила женщина. Несколько овладев собой, она прибавила: — Не слушайте меня! Я сама не своя. Я хотела было бежать за ним следом, но не могла же я бросить ребенка! Сжальтесь, спасите Коракса ради меня, и я благословлю тот час, когда ваши тени пали на мой порог, благословлю божество, которое спасло вас от ярости волн и привело сюда на помощь мне!
Она побежала в другой конец хижины и схватила посох с железным наконечником, стоявший там между метлами из пальмовых листьев.
— Вот единственное оружие, которое у меня есть. Возьмите его.
С этими словами она вручила посох Феликсу. Тот взял его с улыбкой, стал вращать над головой и мигом сбил связку чеснока, висевшую на стропиле. Доев хлебцы, мальчики тоже встали и собрались в путь.
На пороге Марон обернулся и сказал женщине:
— Покажи нам, где вилла.
Она указала на восток.
— Вон там, за холмами. Как спуститесь с них, — пересечете дубовую рощу. Потом пойдете долиной до перекрестка. Там свернете налево, пройдете с полмили и прямо перед собой увидите еще цепь холмов. Пойдете тропинкой, которая вьется по ним, и спуститесь к живой изгороди. Вдоль нее дойдете до скотного двора. А оттуда уже видна вилла. Всего ходьбы туда около семи миль.
— А что будет с тобой? — спросил Бренн.
— Со мной ничего не случится. Вряд ли они станут нападать на хижину пастуха, где грабить нечего. Коз они забрали, а теперь нападут на виллу.
Глава XIX. По дороге в поместье
Жена Коракса дала трем друзьям еще несколько хлебцев и кусок вяленого мяса, и они отправились. Перейдя холмы, отстоявшие от хижины самое большее на полмили, они спустились к дубовой роще, как вдруг Марон вскрикнул. Что-то темнело в кустарнике.
Они раздвинули молодые побеги и увидели человека, лежавшего ничком. На спине и на голове у него запеклась кровь. Они сразу догадались, что перед ними — злосчастный Коракс.
— Да он жив! — сказал Марон.
Повернув пастуха лицом вверх, они убедились, что он хоть слабо, но дышит. Спустя немного времени пастух заморгал, открыл глаза и изумленно уставился на своих спасителей.
— Кто вы такие?
— Друзья, — ответил Марон. — Мы знаем, что произошло.
— Они налетели на меня с копьями, — еле слышно заговорил Коракс, — ранили меня в шею и в лопатку; я думаю, кость перебита. Но я не умер и не хочу умирать, если только не случится что-нибудь еще потуже… — Он застонал от боли. — Бегите, дайте знать обитателям виллы, не то все там погибнут.
— Сперва мы тебя доставим домой, — ответил Бренн.
Они подняли тяжко стонавшего пастуха и понесли его к хижине. Пересиливая боль, он сообщил им разные сведения. По его словам, мавры, напавшие на него, были только разведчиками. Они угнали коз и расправились с ним, Кораксом. В этом и заключалась их задача: они должны были все подготовить для главных сил отряда. Наверно, они направились к долине, залягут в ней и дождутся остальных, — значит, с этой стороны вилла уже отрезана. Нападут они на нее в сумерки, когда люди утомлены, а ночная стража еще не расставлена. Так они всегда действуют. Он, Коракс, видел, как с гребня холмов спустился второй верховой разъезд. Эти разведчики помчались на юг. Там, в нескольких милях отсюда, они угонят другое стадо, а пастуха тоже изувечат, чтобы он не мог предупредить обитателей виллы. Мавры потому-то и расположились в долине, что им нужно совершенно отрезать виллу: ее обитатели ни о чем не будут подозревать, пока ночной набег не начнется. Пробраться к дому незаметно для мавров теперь можно только в обход, по козьей тропе, которая по ту сторону дубовой рощи ведет к холмам, вьется вдоль их гребня, сворачивает на восток и затем сходится с дорогой, ведущей к дому.
Пока Коракс, задыхаясь, сдавленным голосом рассказывал им все это, они дошли до хижины. Оттуда с плачем выбежала его жена; но, увидев, что муж жив и нуждается в заботливом уходе, она мигом стихла. Коракса положили на соломенную подстилку. Жена тотчас раздела его и согрела воду, чтобы обмыть раны.
Попрощавшись с ними, трое друзей снова пустились в путь. Следуя указаниям Коракса, они легко нашли козью тропу за дубовой рощей, проворно взобрались на холм и быстро зашагали по гребню, из предосторожности пригибаясь к земле, чтобы их силуэты не выделялись на фоне прозрачного неба.
Пройдя без отдыха несколько миль, беглецы увидели у подножья холма начало долины; они неслышно поднялись на самую верхушку гребня, притаились за валунами и стали внимательно наблюдать за долиной.
Все было так, как предположил Коракс. Мавры расположились в долине. Слышалось блеянье козьего стада, скученного в одном месте. На подступах стояли дозорные, но человек десять темнолицых воинов, длинные черные, волосы которых казались еще длиннее от украшений из конских хвостов, сидели подле своих поджарых лошадей, видимо дожидаясь чего-то. Несколько позднее беглецы, выглядывая из-за валунов, заметили второй отряд, выехавший из более отдаленной, боковой долины; эти всадники гнали перед собой другое стадо.
Беглецы не стали ждать, что будет дальше; они поспешно отползли назад от валунов и пошли все той же едва приметной тропой, змеившейся по холмам.
Вскоре тропа привела их вниз. Они прошли по высохшему руслу речки, обогнули невысокий бугор и свернул на широкую, изрытую колеями дорогу, пролегавшую среди прекрасно орошенных полей.
Неподалеку от дороги крестьянин мотыжил землю; они окликнули его, и он рукой указал им виллу, скрытую от глаз огромными деревьями.
Когда беглецы сказали крестьянину, что поблизости объявились мавры, он тотчас бросил мотыгу и, задавая им тревожные вопросы, повел их кратчайшим путем через поля. Спустянесколько минут они перешли мостик, увитый плющом и украшенный деревянными статуями, и очутились у самой виллы.
Через сад, где грядки капусты чередовались с куртинами роз, крестьянин привел их к боковому входу и сообщил привратнику дурные вести, принесенные пришельцами. Весь побелев, привратник побежал за управителем. Перепуганный управитель тотчас явился и провел их в дом, не забыв, однако, при всем своем смятении, приказать им тщательно вытереть ноги.
По широкому коридору он провел их в богато убранный покой, где владелец виллы Секст Флавий Барбат возлежал на устланном пурпурными подушками ложе.
Барбат был низкорослый толстяк, с порядочной лысиной и черными, блестящими глазками. Он перекатился на другой бок и, тяжело пыхтя, приподнялся.
— Кто вы такие? — сердито окликнул он вошедших и, не дожидаясь ответа, сказал управителю: — Уведи их и отстегай плетьми. Я запрещаю беспокоить меня. Теперь мое пищеварение нарушено самое малое на три дня.
Управитель поднял руку и, запинаясь, пытался что-то сказать. Тогда Барбат напустился на него.
— Это твоя вина! Ты что воображаешь? Слышать не хочу твоих извинений! Я и тебя велю отстегать плетьми.
— Мавры… — пролепетал управитель.
Барбат, покряхтывая, спустил ноги на пол и стал глазами искать свои домашние туфли. Управитель тотчас опустился на колени и, ползая по полу, старался найти запропастившиеся туфли. Барбат дал ему пинка.
— Мавры! Что там еще такое с маврами?
— Они чуть не убили Коракса, который пасет коз, — сказал Бренн, — и залегли в долине; они стягивают туда силы, чтобы напасть на виллу.
— В самом деле? — протянул Барбат. — Но даже если так — это еще не причина, чтобы ты осмелился заговорить со мной без моего разрешения. Кто вы такие? Ведь вы еще не ответили мне на этот вопрос.
— Мы матросы, — ответил Бренн. — Свободные люди. Нас выбросило на берег после крушения. Наш корабль назывался «Лебедь Сириса».
— Что вы болтали насчет мавров? — не слушая Бренна, сердито спросил Барбат, еще полусонный. Но, сообразив, в чем дело, он привскочил и заорал: — Где мои туфли? — А что козы? Неужели мавры забрали моих коз?
— Они чуть не убили пастуха… — снова начал Бренн.
— Я не о пастухе тебя спрашиваю, — крикнул Барбат. — Я хочу знать, что с моими козами.
— Они угнали всех коз, — ответил Марон, — два больших стада.
— Всех, всех, до единой, — ехидно вставил Феликс.
Барбат злобно покосился на Феликса, но, озабоченный опасными замыслами мавров, быстро отвлекся.
— Значит, их можно ожидать с часу на час? — пробормотал он. — Что ж, позаботимся о приеме.
Он опять дал пинка управителю, все еще разыскивавшему туфли.
— Брось это, дурень! Берись за дело! Что значит туфли, когда эти разбойники из пустыни угнали всех коз и скоро нагрянут к нам? Собери людей! Раздай оружие!
Весь багровый от ползанья, управитель вскочил и стрелой вылетел из комнаты, радуясь, что дешево отделался.
Обратясь к Феликсу и мальчикам, Барбат сказал с хитрой усмешкой:
— Вы не потребовали у меня награды. Смотрите же, не вздумайте потом врать на этот счет.
У боковой двери послышался шелест, чья-то рука отдернула вышитую завесу, и в комнату вошла молодая женщина. Ее бледное удлиненное лицо с безупречно правильными чертами поражало своей красотой. На ней было ниспадавшее до полу одеяние шафранного цвета.
— Им ничего не придется требовать, — молвила она, — раз они спасли нам жизнь. Я слышала то, что ты сейчас сказал, а еще раньше мне передали, что они известили нас о предстоящем нападении мавров.
Барбат смутился, но ненадолго.
— Рано еще толковать о спасении жизни, — проворчал он, — погоди, покуда кони мавров повернутся к нам хвостами. Больше мне нечего сказать. Иди в свои покои и созови служанок. Я не хочу, чтобы женщины своим визгом мешали мужчинам готовиться к бою.
Пытливо и в то же время ласково взглянув на беглецов, женщина сдержанно, но приветливо кивнула им головой и вышла из комнаты.
Барбат утер губы. Затем он толстым указательным пальцем поманил к себе Феликса и обоих мальчиков и сказал им:
— Следуйте за мной. Вам тоже придется поработать, если вы не хотите, чтобы мавры перерезали вам глотки!
Глава XX. Ночной набег
Барбат был не так глуп, как беглецам казалось вначале. Едва он вышел из спальни, быстро надев принесенные рабом башмаки, как в его распоряжениях сказались энергия и деловитость. Он тотчас произвел смотр людям, собранным во внутреннем дворе виллы, и проследил за раздачей оружия. Всего набралось около пятидесяти боеспособных мужчин; это были крестьяне, за которыми послали в хижины и на поля, и рабы, которых пригнали из бараков, находившихся по ту сторону сада; оружия было вполне достаточно.
Рабы без устали бегали вверх и вниз, принося из подвалов и с чердаков связки мечей, луков и стрел. Бренн сразу почувствовал, что население поместья сможет дать отпор маврам.
На всех четырех углах плоской крыши дома, построенного в виде прямоугольника, высились легкие сквозные башенки, где отлично могли разместиться стрелки. Во многих местах лежали кучи факелов, рядами стояли заправленные фонари. На камнях крыши рабы расположили метательные снаряды и увесистые деревянные бруски. Во дворе пылали костры, на которых в больших котлах кипело сало; тут же наготове стояли ковши.
Надвигались сумерки. Маленькому гарнизону роздали изрядные порции тушеного мяса, вина тоже было вволю. Бренн слышал, как люди вполголоса отпускали шуточки.
— Жаль, — говорили они, — что мавры не нападают каждый вечер, раз Барбат из страха перед ними так расщедрился; ведь ему нужно, чтобы у защитников его жизни и имущества было как можно больше сил.
Мавры появились внезапно. Издавая воинственные клики, они мчались по широкой аллее к вилле, в полной уверенности, что ночная стража еще не расставлена, рабы уже спят в своих жалких лачугах и можно будет беспрепятственно проникнуть в дом. Барбат запретил своему гарнизону действовать прежде, чем он подаст знак, и ответом на шумный наскок мавров была гробовая тишина. Горяча лошадей, потрясая пиками, мавры скакали взад и вперед перед виллой; их предводитель спешился и подошел вплотную к украшенному стройными колоннами главному входу.
Барбат подал знак: тотчас раздался трубный сигнал. В ту же минуту рабы, притаившиеся на крыше и в обращенных к фасаду башенках, забросали мавров стрелами. Запылали факелы; на крышу взбежали рабы-подростки; они несли в руках ковши с кипящим салом и тотчас выли— ли его на мавров, густыми рядами стоявших внизу. Началось нечто невообразимое. Лошади, раненные стрелами или ошпаренные горячим салом, становились на дыбы и кидались в разные стороны, вызывая среди мавров смятение. Многие из них были ранены, других выбросили из седел и затоптали их собственные обезумевшие кони.
Этого мавры никак не ожидали; к такому сопротивлению они совершенно не были подготовлены. Они метали свои копья и дротики, но противник был невидим, и оружие мавров застревало в балюстраде крыши или по бокам башенок, не причиняя их защитникам никакого урона. А стрелы все звенели и жужжали, разя нападавших; те выли от боли и сыпали проклятиями. Стремясь во что бы то ни стало завязать рукопашный бой, они выхватили мечи из ножен и пытались изрубить в куски массивную входную дверь, но тщетно. Сверху на них все время обрушивались камни и деревянные бруски, лилось кипящее сало, и вскоре перед дверью выросла груда тел убитых мавров. Самые отчаянные из нападавших притащили трупы лошадей, взгромоздили их на груду тел и силились взобраться по ним на крышу; но град камней и стрел быстро вывел большинство мавров из строя, а уцелевшие обратились в бегство. Те, что удержались на конях, бешено кружили вокруг виллы, но, в какую бы сторону они ни подались, всюду их настигали быстролетные стрелы. Наконец, видя безуспешность всех своих стараний, мавры повернули лошадей и умчались по аллее прочь от виллы.
Во время боя Бренн и Марон находились в одной из передних башенок и оттуда усердно стреляли из лука. Выпустив последнюю стрелу, они долго следили глазами за отступлением конных мавров, а затем сошли на крышу. Внизу рабы, по приказанию Барбата, добивали раненых врагов, в таких схватках пощады не давали и не ждали ее.
Барбат, беспрерывно пивший вино, весь сизый, злобно взглянул на мальчиков и рявкнул:
— Назад, по местам! Почем вы знаете, что мавры не вернутся? Они непременно нападут еще раз, если только придумают способ!
Мальчики снова взобрались на самый верх башенок. Барбат приказал, чтобы рабы разместились по всем четырем углам крыши и поочередно несли там дозор.
Среди ночи поднялась ложная тревога, вызванная игрой воображения; к этому времени взошел молодой месяц, и перепуганный дозорный принял тени кустов и деревьев за притаившихся во мгле врагов. Вскоре багровое зарево возвестило, что мавры, силясь хоть чем-нибудь отомстить за свою неудачу, подожгли хижины и бараки рабов. Затем послышался конский топот, постепенно замерший вдали.
— Похоже, что они убрались, — сказал Бренн.
— И впрямь похоже! — отозвался Марон. — Но, может быть, это только уловка.
Подперев голову рукой, он перегнулся через балюстраду.
— Не нравится мне этот жирный боров, которого мы выручили из беды. По правде сказать, я даже немного жалею об этом.
— Я тоже, — ответил Бренн. Тут ему вспомнилась женщина, так ласково взглянувшая на них, и он поспешно добавил: — Но мне не хочется, чтобы с его женой случилось что-нибудь дурное. Я думаю, та женщина — его жена; вряд ли у него такая взрослая дочь; что и говорить, она слишком хороша для него.
— Я совсем забыл о ней, — сказал Марон.
На лесенке послышались шаги; обернувшись, мальчики увидели Феликса, волочившего за собой длинный меч.
— Мне сказали, что вы здесь наверху, — заявил он: — вот я и пришел помочь вам караулить. Правда, одного глаза у меня не хватает, но нести дозор я могу не хуже всякого другого.
— Мы совсем не сонные, — возразил Бренн. — Нам не задремать, даже если бы мы старались.
— А вы хорошенько постарайтесь, — посоветовал Феликс, посмеиваясь. — Просто диву даешься, на что люди способны, когда стараются.
Мальчики легли на дощатый настил, укрылись парусиной, в знойные летние дни служившей навесом, а теперь свернутой и валявшейся в углу, вытянулись и мгновенно уснули, даже не успев снова заверить Феликса, что им не задремать.
Феликс зевнул и обвел глазами дом и сад, слабо освещенный бледным месяцем и несколькими догоравшими факелами.
Он смутно сознавал, что следовало бы разбудить мальчиков и, пока не рассвело, втроем улизнуть в какую-нибудь боковую дверь. Но, подумав, он сказал себе, что, в сущности, нет никаких причин для опасений, — разве только, что у этого Барбата очень уж гнусная рожа. Он крепче оперся на меч и снова зевнул.
Глава XXI. Награда
Набег не повторился. Мавры действительно ушли. Когда забрезжило утро, мальчики и Феликс увидели трупы людей и лошадей, валявшихся в широкой аллее и на лужайках сада, среди изломанных растений и растоптанных цветов. Все трое спустились с крыши во двор, где получили свою долю общего скудного завтрака — грубый хлеб и разбавленное водой кислое вино. Барбат опять уж стал скаредничать.
Не успели они кончить завтрак, как два дюжих раба пришли сказать, что господин требует их к себе.
— Оружие вам больше не понадобится, — с этими словами они отобрали у мальчиков луки и колчаны. Феликс отнюдь не был расположен отдать меч; но, оглядевшись вокруг, он понял, что сопротивляться приказу бесполезно, и, воткнув меч острием в землю, последовал за мальчиками в небольшую боковую комнату, где Барбат дожидался их прихода.
Владелец поместья завтракал. С жадностью проглотив последний кусок рыбы, жаренной на оливковом масле, он вытер сальные пальцы о пурпурную скатерть, хлебнул вина из стоявшей перед ним чаши и уставился на трех друзей своими рачьими глазами.
— Ну вот, — сказал он, ухмыляясь, — Мавры пришли и ушли, и увели моих коз. И с десяток хижин сгорело. И сады разорены самое малое на год.
Говоря, он по пальцам пересчитывал свои убытки и при этом злобно глядел на беглецов, словно возлагая на них ответственность за этот ущерб; можно было подумать, что в набеге повинны они.
— Если б мы тебя не предупредили, — ответил Бренн, — пожар и разорение были бы куда страшнее.
Барбат пропустил эти слова мимо ушей и продолжал:
— И еще они убили двух моих рабов; один из них — этакий дурень! — слишком далеко перегнулся, упал с крыши и сломал себе шею, другого ранило дротиком. Так что в моем хозяйстве сейчас не хватает рук.
— А нам какое дело до всего этого? — возразил Бренн.
— Придет время — узнаете, — оборвал его Барбат. — Но сперва вы толком скажите мне, кто вы такие.
— Я уже сказал тебе, — ответил Бренн. Марон и Феликс предоставили ему объясняться с Барбатом.
— Скажи еще раз!
— Мы путешественники, плыли на «Лебеде Сириса». Бурей нас выбросило на берег после крушения.
— Вчера вечером ты, сдается мне, говорил, будто вы — матросы, — прервал его Барбат, лукаво прищурясь. — Но это не важно. Я не сомневаюсь, что и то, и другое — чистейшее вранье.
Поднеся чашу ко рту, он снова отпил изрядный глоток.
Бренн смутился и покраснел. «Несомненно, — сказал он себе, — Барбат раскусил, в чем дело. Но как он смеет нас допрашивать? Он должен был бы из чувства благодарности принять на веру то, что ему говорят. Даже если он догадался, что люди, своевременно его предостерегшие, — беглые рабы, ему следует закрыть на это глаза».
Барбат опять приложился к чаше.
— Скажите мне, — откуда вы сбежали?.
Бренн покраснел еще гуще, на еще раз — от гневе. Барбат словно читал его мысли.
— Нас выбросило бурей после крушения, — повторил он угрюмо.
— Вот уж это, наверно, правда, — с ехидством в голосе согласился Барбат. — Я отнюдь не предполагал, что вы шли по морю пешком. А поблизости отсюда, в этой части Северной Африки, где цивилизованному человеку вроде меня совсем не место, нет ни одной гавани, — значит, вы не высадились обычным способом. Скажите всю правду.
Глядя в упор на Феликса и мальчиков, Барбат сердито постучал рукой о стол.
— Мы не рабы, — твердо сказал Марон. Он чутьем понял, что Бренн нуждается в поддержке.
— Это вы так говорите, — глумливо возразил Барбат. — Вы воображаете, что перестали быть рабами, потому что вам пришла эта зловредная мысль — удрать от своего хозяина. Но, по закону, вы такие же рабы, как и раньше. Я честный гражданин, я подчиняюсь закону и — да будет вам известно — строго соблюдаю его, даже если это идет вразрез с моими чувствами. Разумеется, мне очень жаль, что придется доставить вам неприятности, Я не отрицаю — вчерашний ваш приход был весьма кстати, хотя вы, конечно, заботились вовсе не о моем спасении и не о моем добре; но если б вы не явились, от этого ничего не изменилось бы. Секст Флавий Барбат не такой человек, чтобы шайка темнорожих мавров могла захватить его врасплох сонным. Впрочем, это к делу не относится. Закон есть закон. Я уважаю закон, и моя обязанность — заставить столь опасных для общества людей, как беглые рабы, ответить за свои преступления.
— Почему ты так разговариваешь с нами? — спросил Бренн. — Откуда ты взял, что мы лжем? Ведь ты и сам не сомневаешься в том, что мы потерпели крушение.
— Молчи! — крикнул Барбат, вдруг снова разъярясь. Он опять стукнул по столу и, указывая мальчикам на Феликса, заорал: — Взгляните на него, простачки! Неужели вы думаете, что можно гулять по свету с такой отметиной на лбу и не попасться?
Держась за бока, толстяк разразился визгливым смехом; затем он снова налил себе вина. Феликс приложил руку ко лбу, в том месте, где были выжжены буквы FUG, и вздрогнул. Овладев собой, он ответил:
— Что касается меня, ты правильно сказал, господин. Я был рабом при банях. Но оба эти мальчика — не рабы. Ты ничем не можешь это доказать!
— Придержи свой язык! — снова загремел Барбат. — Ворон ворону глаз не выклюет! Мальчишки не связались бы с тобой, не будь они такие же злодеи, как ты сам!
Феликс с трудом сдерживал гнев. Ем мощные мускулы напряглись. Он задыхался.
Барбату стало не по себе. Он подал знак вооруженным рабам, и те подошли поближе. Почувствовав себя в безопасности, Барбат рявкнул:
— Хватит, наглец! Я действую так, как мне предписывает закон. Стоит мне пренебречь своим долгом, и я подвергнусь суровому наказанию, как укрыватель беглых рабов. Прямо скажу вам, в этой стране я нажил себе немало врагов, и они рады были бы сделать мне пакость. Вы только представьте — Секст Флавий Барбат привлекается к суду за попустительство беглым рабам!
Усмехнувшись собственному предположение, он снова выпил, рыгнул и, небрежно взмахнув рукой, приказал рабам:
— Заберите этих негодяев и отведите их в тюрьму. Они быстро возьмутся за ум, а если не одумаются, — им придется работать на поле в цепях.
Мельком взглянув на беглецов, он прохрипел:
— Слышите, твари? — и снова принялся за вино.
Рабы вывели Феликса и мальчиков из комнаты.
— Нечего сказать, удружил я вам! — простонал Феликс.
— Что поделаешь, — сказал Бренн — Кто мог думать, что он окажется такой подлой скотиной? Мы давно уж привыкли к твоему клейму и перестали обращать на него внимание. Мы так же виноваты, как ты!
— Но я-то должен был помнить! — покаянным тоном сказал Феликс. — Проклятие, да и только! Человек не видит собственного лица; вот я и забыл начисто о клейме. Почему вы не напомнили мне о нем?
Но мальчики были слишком подавлены, чтобы еще дольше объяснять, как и почему они забыли о клейме. Так вот чем кончились их скитания! Пройти через мытарства, через смертельные опасности — ради того, чтобы погибнуть под палящим солнцем Африки, в непосильном труде на бесчеловечного хозяина, в лапы которого они попали, желая спасти крестьян и рабов поместья.
— Как-нибудь выпутаемся, — сказал Бренн. Но в душе он на это не надеялся.
Глава XXII. В тюрьме
Их отвели в сырой подвал, скудно освещенный отдушинами, находившимися под самым потолком, и заковали в цепи. Это и был эргастул, куда заключали строптивых или провинившихся рабов. В течение дня раб-тюремщик дважды приносил узникам горячую похлебку; он выказывал свое сочувствие добродушными ужимками, — сказать им ласковое слово он боялся.
Мало-помалу мрак в подвале сгустился; они догадались, что настал вечер. Тюремщик принес хлеба и сыру, пожелал им, так приветливо, как только осмелился, покойной ночи и ушел, с грохотом захлопнув за собой дверь. Сидя в темноте на охапках соломы, трое узников прислушивались к возне крыс и лязгали цепями, чтобы их отогнать.
— Что ж, одно утешение у меня как-никак остается, — сказал, тяжко вздохнув, Феликс. — Если мне суждено провести остаток моих дней в этой берлоге, я не буду страдать от того, что у меня только один. глаз. Тут все равно ничего не увидишь, будь ты даже глазаст, как павлин.
Они попытались освободиться от цепей, но только поранили себе щиколотки.
— Даже если бы нам удалось сбросить цепи, это было бы ни к чему, — сказал Бренн, — дверь тяжелая, дубовая, — а в отдушины не пролезть.
И все же они много раз возобновляли свои попытки; их побуждала к этому надежда, что, разорвав цепи, они сразу приблизятся к свободе, даже если потом еще придется долбить каменные стены.
Им чудилось, что они уже долгие часы томятся во мраке, но у них не было никакой возможности измерить время; а потом им стало казаться, что они давным-давно заперты в этой тюрьме, и ледяной ужас сковал их сердца. Их обуяла гнетущая тоска, они перестали разговаривать и неподвижно лежали на прелой соломе.
— Чу! Кто-то идет! — сказал Марон; все трое приподнялись и насторожились.
— Если это хозяин, — проворчал Феликс, — пусть только подойдет ко мне поближе, и я концом цепи размозжу ему череп.
Дверь заскрипела, приоткрылась, и на пороге появилась женская фигура с завешенным фонарем в руке. Завеса спала, резкий переход от тьмы к яркому свету на миг ослепил узников. Затем они различили, кто перед ними. То была жена Барбата.
— Тсс, — шепнула она, приложив палец к губам. Выждав, пока сопровождавшая ее молодая служанка плотно закрыла дверь, она нежным, печальным голосом спросила узников: — Можете ли вы простить нас?
— Ты ни в чем не виновата, — сказал Бренн. — Мы рады, что спасли тебе жизнь, а если для нас дело плохо обернулось, — это неважно!
Женщина обвела подвал глазами и содрогнулась.
— Как здесь холодно! — молвила она. — Но вам уж недолго здесь оставаться.
Она вытащила из-под своего покрывала большую связку ключей и передала ее служанке. Трепеща от радости, пленники узнали ту самую связку, которую видели, когда стражи замыкали их оковы. Служанка быстрым шагом подошла к ним. Испробовав, при свете фонаря, несколько ключей, она нашла те, которые ей были нужны, и не без усилия повернула их в тяжелых замках.
Узники так тихо, как только могли, положили цепи наземь и выпрямились, расправляя затекшие руки и ноги.
— Не Думайте о нем дурно, — сказала женщина. — Он ведь привык строго соблюдать законы…
Голос ее дрогнул, она опустила покрывало на лицо; узникам показалось, что она беззвучно плачет.
— Успокойся, госпожа, — сказал Феликс, — покуда на свете есть не только такие люди, как твой муж, но и такие, как ты, — еще можно жить.
— Вы всем нам спасли жизнь, — молвила она едва слышно, — и мне очень совестно, что единственное, чем я могу вас отблагодарить, — это выпустить вас на свободу.
— Ничего другого нам и не нужно, — ответил Бренн. — Мы совсем не хотим оставаться в этих местах.
— Прошу вас, возьмите вот это, — сказала женщина.
Она сняла с шеи золотое ожерелье, но Бренн остановил ее, воскликнув:
— Нет, нет! Нам нужно только одно — свобода. Твой муж быстро хватится… Прошу тебя — и не думай об этом.
Женщина с явной неохотой снова надела ожерелье и молвила, словно размышляя вслух:
— Я освободила вас от оков, а себя не могу освободить…
— Пойдем с нами, — сказал Бренн, сгоряча не подумав, что для нее означает такое решение.
Она рассмеялась тихим, серебристым смехом.
— Спасибо! Мне кажется, за всю мою жизнь ничто не радовало меня так, как твое предложение, но я не могу его принять. Отныне я буду считать, что вы втроем подарили мне эту золотую цепь, и, быть может, мне теперь легче будет носить ее. — Голос женщины снова стал ровным, звучным. — Но вам лучше уйти поскорее, — прибавила она.
— Покажи, в какую сторону нам идти, — попросил Марон. Мы не хотим встретиться кое с кем.
Ему неприятно было упоминать имя ее мужа.
— Он спит, — холодно, спокойно сказала женщина, — он пьян.
Помолчав, она пояснила:
— Значит, вам нечего бояться. Идите тем же путем, каким пришли. Девушка проводит вас до большой дороги, а крестьяне не сделают вам зла. Они знают, кто спас их от мавров, и завтра будут искать вас не там, где надо.
Она повернулась, взяла фонарь, снова завесила его и открыла дверь. Они пошли по направлению к вилле. Женщина шла впереди, служанка следовала за ней, мальчики и Феликс замыкали шествие. Дорогой никто не проронил ни слова. Подойдя к вилле, женщина передала фонарь служанке, движением руки попрощалась с беглецами и бесшумно скользнула в боковую дверь.
Девушка вывела их по тропинке к мостику, за которым пролегала большая дорога.
— Идите все прямо, — сказала она. — У первого перекрестка свернете налево и попадете в долину. Да хранят вас боги!
Она передала фонарь Бренну, помедлила минуту-другую, затем, понуря голову, быстро повернула назад — и исчезла во мраке.
Трое друзей бодро пошли по дороге. В густой мгле они время от времени оступались и попадали в рытвины. Пройдя около мили, они сняли завесу с фонаря; им стало легче идти. Дорога была достаточно широка, чтобы они могли шагать в ряд и не натыкаться друг на друга, Вновь обретенная свобода так радовала беглецов, что они не чувствовали усталости. Им казалось, что перекресток только что пройден, а они уже были у самой долины, где виднелись следы стоянки мавров. Беглецы углубились в долину.
— Надеюсь, у доброй госпожи не будет неприятностей, — сказал Бренн, который никак не мог забыть нежный, печальный голос жены Барбата и весь ее прекрасный облик.
— Не хотел бы я завтра быть на ее месте, — отозвался Феликс.
Они продолжали путь молча. Им вдруг стало ясно, что Барбат заподозрит жену и рассердится на нее. Несомненно, он дознается, что кто-то брал ключи, и если даже его гнев падет на кого-нибудь, она никогда не даст избить плетьми ни в чем не повинного слугу, Она тотчас признается во всем. Что с ней сделает муж, — этого ни Феликс, ни мальчики себе не представляли. Но они были уверены, что, по своей мстительной натуре, он не оставит безнаказанным открытое сопротивление своей власти.
— Я уж и не рад, что она пошла на это! — воскликнул. Бренн.
— И я тоже, — признался Марон.
— И я, — не столь горячо заявил Феликс.
Помолчав немного, он с волнением в голосе прибавил:
— Нам следовало перед уходом зайти в дом и в знак признательности доброй госпоже прикончить мучителя.
Мальчики тоже были взволнованы. К радостному сознанию свободы примешивалась тревога за женщину, которая, наверно, пострадает из-за них.
— Но теперь мы бессильны что-либо сделать, — сказал Бренн, пытаясь успокоить свою совесть.
Феликс и Марон согласились с ним. Да, теперь ничего уже нельзя было сделать, и, хотя все они очень жалели женщину, которую, вне всякого сомнения, родители насильно выдали за Барбата, когда она была совсем еще молода, они мало-помалу забыли о ней. Все возраставшая необходимость зорко следить за извивами дороги, беречь силы, думать о будущем постепенно изгладила из их памяти прошлое. Они пересекли дубовую рощу, перешли последнюю цепь холмов и при первых лучах зари, сливавшихся с угасавшим огнем фонаря, увидели перед собой хижину пастуха.
Уверенные в радушном приеме, они постучали в дверь. Им открыла жена Коракса. Разглядев пришельцев, она широко улыбнулась и сказала:
— Да благословят вас боги! Прошлой ночью я молилась за вас, и вот вы здесь, целы и невредимы. Вчера к нам забегал крестьянин из поместья, он сказал, что вас заковали в цепи. Наш господин — изверг!
Бренн едва не проговорился, что их освободила сама хозяйка, но вовремя прикусил язык. «Как ни надежны пастух и его жена, — подумал он, — а рассказать им, как было дело, — нехорошо и неосторожно: ведь люди часто без злого умысла болтают лишнее; и если, волею случая, жену Барбата изобличат, — мы, обязанные ей спасением, должны быть непричастны к этому».
— Мы бежали из тюрьмы, — сказал он, многозначительно взглянув на своих спутников; те утвердительно кивнули в ответ.
— Что же вы теперь думаете делать? — спросила женщина. — Мы будем счастливы, если вы останетесь здесь…
— Нет, нет, — возразил Бренн. — Мы не хотим, чтобы вы подвергались опасности из-за нас… Да и вообще, мы задумали пробраться в дальние края…
— Куда же вы хотите пробраться?
— Пойдем вдоль берега, все дальше и дальше на запад… по направлению к Испании…
— Я никогда не слыхала о такой стране. Но я знаю, что вдоль берега на много-много миль тянется пустыня…
— Как-нибудь выдержим переход, — сказал Бренн; его товарищи кивнули в знак согласия.
— Все, что вы можете сделать для нас, — сказал Марон, — это дать нам с собой съестного, чтобы мы могли прокормиться в пути…
— Мы отдадим вам все наши запасы, — ответила женщина, — отдадим с великой радостью. Пойдем в дом, и я соберу все, что только найдется. И муж хочет вас поблагодарить.
Войдя в хижину, трое друзей увидели Коракса, лежавшего на своей убогой подстилке. Ребенок лежал у него в ногах. Пастух сказал, что ему лучше, и особенно полегчало сейчас, когда он убедился, что его спасители — на свободе.
— Такого крепыша, как я, одной потерей крови не уморить. Но если бы я остался лежать, без всякой помощи, там в роще, меня сейчас уже не было бы на свете. Вот почему я готов отдать за вас жизнь.
Жена сказала ему, что нужно гостям, и он попытался встать, но не мог.
— Ах! Какая досада, что я не могу проводить вас хоть немного, — простонал он.
— Нам не нужно ничего, кроме еды, — ответил Бренн.
— Отдай им все без остатка, — сказал Коракс жене и в изнеможении откинулся на подушку.
Женщина уже взялась за дело; она собрала все, что у нее было, — несколько хлебов, вяленое мясо и вяленую рыбу, маслины, дробленый ячмень, сыр, — разделила на три равные доли и каждую долю завернула в кусок холста. Получилось подобие сумок. По просьбе Бренна, женщина разыскала кусок войлока, достаточный, чтобы выкроить из него три шапки для защиты от солнца; затем она принесла сшитый из козьей шкуры, просмоленный по швам мех для воды, сбегала к ручью и наполнила его водой. Еще беглецы попросили несколько длинных полос козьей шкуры и перевязали ими сумки с провизией; каждый вскинул свою сумку на спину, а мех с водой они решили нести по очереди. Выслушав от пастуха и его жены изъявления благодарности, множество добрых пожеланий, советов и предостережений, трое товарищей распрощались с ними и снова пустились в путь, ободренные тем, что их так сердечно приняли и снабдили пищей.
После печального опыта с главарем пиратского судна и Барбатом им было особенно отрадно встретить таких людей, как жена Барбата и крестьянская чета в хижине. Даже мимолетное воспоминание о девушке, которая прошлой ночью указала им путь со словами: «Да хранят вас боги!» — способствовало тому, что неведомое будущее теперь представлялось им менее страшным. Уверенность в успехе крепла, а вместе с ней усиливалось желание вернуться домой, жить на свободе в родной стране, среди близких и любимых людей. И хотя ноги у них ныли от усталости, трое беглецов, шагая по дороге, дружно затянули песню.
Глава XXIII. Путь по взморью
Они довольно скоро дошли до взморья и направились на запад. Солнце жгло вовсю, укрыться от его палящих лучей было негде. Крутые, пышущие зноем утесы перемежались обширными полосами раскаленного песка. Три дня подряд они шли и шли. Запас воды у них иссяк. Но на исходе четвертого дня они нашли в скалах впадину, где была вода, и наполнили мех. Они не имели представления о том, долог ли путь в Испанию. Они знали одно: нужно идти во что бы то ни стало.
Когда зной становился нестерпимым, они купались в море. Они шли не только весь день, но и часть ночи. Прибавлявшийся месяц освещал им путь. В полдень путники делали привал в тени утеса, а если место было ровное, — сооружали из своих туник и нескольких жердей подобие палатки. Передохнув, шли дальше.
На шестой день пути они увидели очертания непонятного темного предмета, черневшего вдали, на невысоком утесе посреди маленькой бухты. Подойдя поближе, они: различили корпус разбитого судна и ускорили шаг, взволнованные тем, что в томительно однообразном странствии им встретилось нечто неожиданное.
— Это пиратское судно Кудона, — на ходу сказал Марон.
— Ну нет, — возразил Бренн.
— Оно самое, — поддержал Марона Феликс. — Это так же верно, как то, что я лишился левого глаза, стараясь удержать нож в равновесии на кончике собственного носа.
— Значит, оно все-таки не пошло ко дну, — сказал Марон, — и течением его вынесло на берег.
Они вскарабкались на утес, подлезли под самое судно и убедились, что Марон прав. Затопленный, разбитый корпус поплыл по течению вслед за ними, к берегу Африки, и волны выбросили его, кормой вперед, на утес. Трое товарищей стояли под кормой, сильно приподнятой, тогда как носовая часть глубоко погрузилась в белую пену бурунов, клокотавшую над рифами.
— Ну что ж! Вряд ли нам будет какой-нибудь прок от этих обломков, — задумчиво сказал Марон.
— А вот не знаю, — отозвался Бренн. — Мы можем взойти на корабль и посмотреть, не осталось ли там что-нибудь ценное. Когда мы попадем в город, деньги нам очень пригодятся.
Они сложили свои сумки и мех с водой в тени, у скал, и огляделись вокруг. С одной стороны кормы до половины высоты корпуса свисал канат. Феликс стал лицом к кораблю и уперся руками в корпус. Бренн прыгнул ему на плечи и тоже уперся в корпус — и, наконец, Марон, не без труда, взобрался на плечи Бренну. В этом положении он быстро поймал канат и, подтянувшись, взобрался на палубу. Там он нашел еще несколько кусков каната и крепко связал их узлами; получился длинный канат, один конец которого Марон прочно закрепил, а другой перебросил через борт.
Феликс и Бренн тотчас взобрались наверх к Марону; крепкие, крупные узлы очень облегчили им подъем.
— Давайте прежде всего поищем золото, — предложил Бренн. — У Кудона золота, наверно, было немало, и хранить его он мог только в кормовой части, а не в носовой, где всегда толкались матросы.
Марон взошел на мостки, соединяющие корму с баком, и отпрянул, восклицая:
— Берегитесь! Здесь — дыра в настиле!
Вытянув шеи, они опасливо глянули вниз; их глазам представилась зияющая сквозная пробоина, фута в три диаметром. Заглянув еще глубже, они увидели волны, исступленно хлеставшие утес и кружившие куски деревянной обшивки.
— А сможем ли мы перескочить через нее? — неуверенно спросил Бренн.
— Вовсе это нам не нужно! — воскликнул Марон.
Он открыл дверь ближайшей каюты, через разбитую переборку прошел в соседнюю и вышел оттуда на мостки по ту сторону пробоины. Там настил был в целости. Феликс и Бренн шли за ним. Они обшарили все каюты, но денег не нашли. Одежда и корабельное снаряжение имелись в изобилии, но ни золота, ни серебра не было. Дойдя до конца мостков, все трое замешкались, глядя, как на сильно накренившуюся нижнюю палубу переплескивались волны.
— Не ходи туда, Бренн, — сказал Марон, — или тебе конец.
— Не такой я дурак, — ответил Бренн. — Я раздумываю, как нам добраться до самых верхних кают.
— Кудон жил там, — напомнил Феликс, — и свои богатства, наверно, держал в рундуке.
— Но как туда попасть? — спросил Бренн. — Все трапы снесены.
Марон поймал конец каната, свисавшего с юта, и сильно дернул.
— Думаю, выдержит, — заявил он.
— Будь осторожен! — воскликнул Бренн, в свою очередь предостерегая друга.
Марон всей тяжестью своего тела повис на канате, канат не оборвался.
— Дело верное, — сказал мальчик, проворно взбираясь вверх.
Феликс и Бренн зорко следили за его движениями, пока он не исчез в одной из дверей, выходивших на ют. У них не было никакого желания последовать его примеру, хотя он сверху крикнул, что канат надежно закреплен. Они слышали, как он возился, и вскоре раздался ликующий возглас:
— Нашел!
Над верхней палубой показалось сияющее лицо Марона; мальчик сбросил золотую монету. Он ловко угодил ею между Феликсом и Бренном, изумленно взглянувшими на него.
— Тут стоит рундук, битком набитый деньгами да золотой и серебряной посудой, — всего гораздо больше, чем нам нужно, гораздо больше, чем мы могли бы пронести по этой пустыне, даже выбиваясь из сил.
— Захвати, сколько можешь, золотых монет, — крикнул в ответ Бренн. — Будет предостаточно.
Марон снова исчез из вида. Спустя немного времени Бренн и Феликс услышали звон монет, которые он считал.
Дожидаясь Марона, товарищи мирно сидели на закраине верхней палубы, болтая ногами и глядя то на курчавившиеся белой пеной волны, бурлившие внизу, то на чаек, носившихся вокруг корабля. Возле них, сверкая на солнце, лежала сброшенная Мароном золотая монета с изображением какого-то восточного властителя.
— Что бы ты сделал, если б разбогател? — спросил Феликс.
Бренн пожал плечами.
— Я не хочу быть ни богатым, ни бедным. Я хочу жить в родной своей деревне, где мой дядя, пахать и сеять… От золота нет никакой пользы, — оно годится только для всяких безделушек да для насечек на ножнах меча, и еще его кладут в могилу при погребении.
Феликс сплюнул в воду и призадумался над тем, что сказал Бренн. Привыкнув жить в городе, он не представлял себе уклада жизни, при котором мужчины и женщины довольствуются плодами земли, — тем, что они сами посеяли и вырастили.
— Я считаю, что ты не прав, — сказал он, наконец, — вернее, что ты не совсем прав, хоть я и не знаю нравов и обычаев страны, о которой ты рассказываешь. Что до меня, — мне говорили, что я фригиец, но я уверен, что родился в Риме или где-то в окрестностях Рима. Никакой Фригии я в глаза не видел. Я знаю только глухие закоулки Рима, где за мелкую монетку я покупал кусок пирога с бобами и кружку укропного вина. Но теперь, изведав прелесть свободы, я уже не хочу вернуться в римские трущобы… Где же эта страна, твоя родина?
— К северу отсюда. Это Британия, — ответил Бренн, которого так и подмывало завести разговор на эту тему. Ему не терпелось поведать Феликсу обо всем, что было ему дорого и мило на родине, и ему казалось, — говори он часами, и то не исчерпает того, что нужно сказать. А теперь, когда представился удобный случай, Бренн не находил нужных слов и только снова повторил, что хочет во что бы то ни стало вернуться в Британию. Объяснить другому, почему для него это так важно, Бренн был не в силах. Это желание владело им, но какими словами его передать?..
— Ты согласен отправиться с нами туда? — спросил он Феликса. — Там тебе будет хорошо! В моей семье тебя примут как родного, раз ты — мой друг. — Это было все, что он мог сказать.
Феликс расправил плечи.
— Ладно! Держу путь в Британию, покуда там еще нет римлян!
— Берегитесь! — крикнул Марон сверху — и тотчас к их ногам свалились, один за другим, три больших кошеля, туго набитых монетами. — Я думаю, больше нам не снести.
— Этого хватит с избытком, — сказал Бренн.
Феликс заглянул в кошель, который ему вручил Бренн.
— Эх! Сколько на эти деньги можно было бы купить бобовых пирогов и укропного вина! — воскликнул он. — Но уж раз я решил, — мое слово крепко. Я выбрал Британию, я с тобой, мой мальчик!
Они вернулись на оконечность кормы и по канату спустились с корабля.
Глава XXIV. Помощь с моря
Беглецы с тоской думали, что им придется идти еще много дней по бесплодному, пустынному взморью. Но, пройдя всего несколько миль, они попали в лесистую местность. Продвижение замедлилось, зато они уже не страдали от палящих лучей солнца.
Однажды они заблудились в лесу и порядком устали, прежде чем вышли обратно на взморье. Но во время этих блужданий они нашли речку и наполнили свой мех чистой прозрачной водой. Поэтому бодрость не оставляла их, хотя они были все так же далеки от цели и у них иногда появлялось желание швырнуть в море свои увесистые, набитые золотом кошели. Но они были свободны, и это сознание так радовало путников, то они часто затягивали песню. Особенно охотно пел Феликс. Он знал и заунывные крестьянские песни и разудалые песенки портовых кабачков.
Как-то раз он спросил:
— А что — в Британии клеймо мне не повредит?
— Никогда, — решительно ответил Бренн.
— Да, но Британия еще далеко, и в пути мы можем встретить людей, которые нас погубят, если увидят клеймо. Что же мне сделать, чтобы скрыть его? Мне и думать страшно о том, что вы можете второй раз пострадать из-за меня.
— Теперь у тебя отросли волосы, — ты можешь прикрыть клеймо прядью подлиннее, — посоветовал Бренн.
— А если ветер растреплет ему волосы? — вмешался Марон. — Ему нужна шапка, Нельзя ли войлок, который нам дала жена Коракса, прикроить так, как ему нужно?
Они шли по цепи холмов, тянувшейся вдоль моря, время от времени швыряли вниз камни и глядели, как вспугнутые птицы разлетаются во все стороны.
— Давайте отдохнем, поедим, — предложил Феликс.
— Насчет еды дело плохо. Осталось несколько корок да горсть фиников.
Сидя на побуревшей от солнца траве, они наблюдали непрестанную игру волн.
— Можно набрать птичьих яиц и ракушек, — предложил Марон. — Как-никак лучше питаться этим, чем голодать. А пока в пути нам попадается вода, мы не умрем от жажды.
— У нас, — сказал Бренн, внимательно поглядев на мех и прикинув в уме, — воды хватит еще на три дня, если ее бережно расходовать.
— А к тому времени мы уже дойдем до Британии, верно? — спросил Феликс. — Эх, я и забыл, Британия ведь остров. Ну, значит, последние несколько миль наверно, придется проплыть.
Британия все сильнее возбуждала его любопытство. Каких только вопросов он ни задавал Бренну! Что растет на деревьях в Британии? Длинные ли носы у женщин? Правда ли, что вороны там поют, что козы — величиной с быков, а быки — величиной со слона? Что бедняки там пьют из золотых чаш, а богачи — из глиняных плошек? Бренн никак не мог разобрать, дурачится ли Феликс или у него действительно такие нелепые представления о Британии.
— Уж не там ли, как я слышал, люди сажают лошадей в повозки, а сами впрягаются в дышла?
Феликс говорил серьезным тоном, но Бренн заметил, как он подмигнул Марону, и понял, что все эти вопросы задаются потехи ради.
Бренн почувствовал, что в нем вскипает гнев, но в эту минуту его внимание привлек предмет, показавшийся на море.
— Глядите, разве это не судно? — спросил он своих спутников.
Те посмотрели туда, куда он указывал.
— Это лодка, — воскликнул Марон, у которого глаза были всех зорче, — и, сдается мне, рыбачья.
— Мне чего-то уж неохота плавать по морям, — признался Феликс. — Кто его знает, может быть, и эта посудина пиратская? Давайте лучше спрячемся, пока не поздно…
— Это лодка, совсем небольшая… скорлупка… — решительно повторил Марок.
— Подождем и сделаем все, что можем, чтобы она причалила сюда, — сказал Бренн, исполнившись надежды. — У нас достаточно золота, чтобы за хорошую плату нас доставили…
— Куда? — перебил его Феликс. — В Британию?
— Нет, — со вздохом ответил Бренн. — В Испанию, в Гадес. Это — первый шаг.
— Мне бы очень не хотелось второй раз потерпеть крушение, — страдальческим голосом проговорил Феликс, — даже если бы это случилось у Блаженных островов…
— Лодка небольшая, можно будет все время держаться вблизи берега, — настаивал Бренн. — Подумайте, разве это не лучше, чем тащиться пешком?
— Пожалуй, что да, — согласился Феликс, но в его голосе не было уверенности. — Ладно, пусть будет по-твоему.
Он встал и, сложив руки рупором, принялся кричать.
— Это ни к чему1 — воскликнул Марон. Он снял с себя тунику и стал размахивать ею: — Подымите-ка меня повыше!
Ухватив Марона за коленки, Феликс поднял его так высоко, как только мог. Маронразмахивал еще усерднее, и все трое хором кричали без устали. Сначала им казалось, что они стараются напрасно; но спустя несколько минут они увидели, что суденышко, раскачиваясь на волнах, поплыло к берегу.
Феликс спустил Марона, наземь, и трое друзей помчались вниз, к морю. Там они выбрали удобную для причала бухту, свободную от рифов. Когда суденышко подплыло поближе, оно оказалось утлой, однопарусной, рыбачьей лодкой, а в ней — всего один человек. Сгорбившись, он сидел у руля и, озабоченный тем, как благополучно достичь берега, ни слова не отвечал на их оклики.
Феликс и мальчики вошли в воду и провели лодку в бухту. Человек едва двигался.
— Откуда ты? — спросил Бренн.
Человек что-то прохрипел и раз-другой провел языком по пересохшим губам.
— Он хочет пить, — догадался Марон.
По-видимому, усилия, потребовавшиеся, чтобы довести лодку до берега, вконец изнурили неизвестного. Мальчики немало огорчились, увидев, что тот, на чью помощь они надеялись, сам нуждается в помощи. Они тотчас сбегали за мехом с водой и поднесли его к потрескавшимся губам несчастного.
— Не давайте ему много пить сразу, — предостерег Феликс. — Когда человек изнемогает от жажды, это может ему повредить.
Они снесли неизвестного на берег, положили на сухой песок и терпеливо ждали, когда он придет в себя. Тем временем они разглядели его поближе. Это был иссушенный зноем человек с обветренным темным от загара лицом, одетый в грубую холщовую тунику.
Спустя некоторое время он открыл глаза, приподнялся и что-то пробормотал на непонятном языке.
— Ты умеешь говорить по-латыни или по-гречески? — спросил его Марон.
Неизвестный ответил на широко распространенном среди моряков жаргоне, который представляет собою смесь языков всех народов, населяющих берега Средиземного моря, и в основном состоит из исковерканных греческих слов. Марон довольно хорошо понимал все, что он говорил, а Бренн и Феликс улавливали общий смысл его речи. Ему еще раз дали напиться, и неизвестный понемногу разговорился.
Он оказался рыбаком с Балеарских островов. С неделю тому назад, ночью, его бурей вынесло из родных вод, и он в течение нескольких суток блуждал по морю, так как луна и звезды были скрыты тучами; а потом — очутился так далеко, что вернуться было невозможно. Он пытался достичь Сицилии, но, видимо, ошибся направлением и последние дни все высматривал на африканском побережье местечко для причала, расселину в скалах, где мог бы возобновить запас пресной воды, давно иссякший. У него был с собой всего один мех.
Когда рыбак совершенно оправился, Бренн, через посредство Марона, спросил его, не возьмет ли он их к себе в лодку и не доставит ли в Гадес.
Рыбак покачал головой.
— Это слишком далеко. Я хочу поскорее добраться до дома.
Вынув из кошеля пять золотых монет, Бренн положил их в ряд на песок. Рыбак жадно уставился на них.
— Откуда у тебя золото? — недоверчиво спросил он.
— Это мое дело! Они твои, если ты возьмешься доставить нас в Гадес.
Рыбак быстро переменил решение.
— Пожалуй, это не так уж удлинит мой путь и будет безопаснее, чем пытаться попасть домой прямо через море. Я мог бы плыть вдоль берега Африки, высадить вас за Геркулесовыми столпами[97], а потом пустился бы в обратный путь вдоль побережья Испании.
Марон тотчас начал переводить Бренну и Феликсу то, чего они не поняли в речи рыбака, а сам рыбак опять, словно завороженный, уставился на монеты. Затем он сказал:
— Да, я согласен. Вы спасли мне жизнь тем, что дали воды. Я с радостью сделаю это для вас.
Он торопливо взял деньги и замотал их в край туники.
— У тебя найдется что-нибудь съестное? — спросил Феликс.
— В лодке свежий улов, — ответил рыбак. — Я только вчера забрасывал сети.
Феликс побежал к лодке и принес оттуда несколько крупных рыбин. После долгих поисков Марон нашел на берегу глину, большой раковиной накопал ее столько, сколько ему было нужно, и принес в подоле своей туники. Тем временем Бренн высек огонь из кремня, нашедшегося у рыбака, и зажег костер. Глину, раздобытую Мароном, мальчики смочили водой, получилась тестообразная масса. Они обложили глиной каждую рыбину со всех сторон. Когда костер догорал, мальчики осторожно положили рыбу в горячую золу, там она испеклась. Немного погодя палками вытащили рыбу из золы и счистили за— твердевшую глину. Вместе с глиной сошла приставшая к ней рыбья кожа и чешуя, обнажилась сочная, белая, дымящаяся мякоть. Внутренности от жара свалялись в комок; мальчики без труда вынули их, и все четверо — трое беглецов и рыбак — поели вволю.
Чтобы дать рыбаку собраться с силами, решили отплыть на другое утро. Удостоверившись, что лодка крепко привязана, друзья спустили парус, свернули его, уселись в круг на песке, и начался оживленный разговор.
Феликс рассказал, как он лишился левого глаза в единоборстве со львом. Рыбак поверил ему и сам многое сообщил о Балеарских островах. Беглецы уже свыклись с его речью, лучше стали понимать ее и, стараясь не проронить ни слова, слушали рассказ о том, как на этих островах мальчиков с малолетства учат обращению с пращей и как матери часто отказываются стряпать сыну, если он не приносит птиц и зайцев, Вот почему, объяснил рыбак, балеарцы славятся во всем мире искусством метать пращу, и балеарские воины, образующие в римской армии отдельный корпус, метают свои яйцевидные снаряды от одного края великого моря до другого.
Давно уже зашло солнце, уже разожгли костер, чтобы отпугивать диких зверей и не зябнуть ночью, а дружеская беседа все еще продолжалась, пока, наконец, всех четверых не одолела дремота. Они заснули крепким сном под неумолчный рокот прибоя.
Глава XXV. В океане
На рассвете они отвязали лодку и вышли в море. Мальчики помогли рыбаку поднять косой парус и наладить снасти. Феликс сидел на корме. Он взял у рыбака нож и усердно кроил себе войлочную шапку, задумав смастерить ее так, чтобы она совершенно закрывала клеймо. А боясь, как бы по рассеянности не снять шапку и не обнажить клейменый лоб, он еще прикрепил к ней две суживавшиеся книзу лопасти, которые закрывали уши и завязывались у подбородка.
Закончив работу, Феликс гордо нахлобучил свое изделие на голову и потребовал, чтобы все полюбовались им. Шапка вышла нескладная и плохо сидела на голове, но моряки ведь носят всякие, самые причудливые шапки, значит, успокаивали себя его товарищи, он не привлечет к себе внимания. Но Феликс так неосторожно вертелся во все стороны, желая похвастать, до чего умело он прикроил ее на затылке, что едва не свалился за борт. Это несколько отрезвило его. Он взял на себя обязанность вычерпывать воду и усердно орудовал предназначенной для этого огромной раковиной. Дела ему хватало: со всех сторон в лодку летела водяная пыль, а на дне было несколько небольших пробоин.
На второй день они увидели деревья, а причалив и оглядевшись вокруг, нашли источник, наполнили водой мехи и просмоленный по пазам ящик, привязанный к корме лодки. Теперь им должно было хватить воды на несколько дней. Они уже достигли той части Африки, где много небольших портовых городов, и старались держаться подальше от взморья; ведь они не знали, как к ним отнесутся в какой-нибудь мавританской гавани.
Они дочиста съели все, что у них было, но рыбак быстро научил мальчиков ловить сетями рыбу, которую они поздно вечером пекли в золе на берегу. Временами рыбак показывал свое искусство в метании пращи и без промаха бил диких птиц. Наскоро ощипав, готовили их тем же способом, что и рыбу.
Однажды они увидели речку, по прибрежным скалам струившуюся в море, и смогли спокойно, ничего не опасаясь, снова наполнить мехи и просмоленный ящик. В другой раз пошел проливной дождь, и стоявшее в лодке ведро наполнилось до краев. Это тоже обеспечило их водой на много дней.
Так они медленно, упорно продвигались вдоль берега. Мальчики быстро привыкли к этой жизни; суровые требования, которые она изо дня в день предъявляла к ним, почти изгладили из их памяти все пережитое.
Однажды разразился шторм, но рыбак чуял ненастье, и они успели вытащить лодку на берег, прежде чем оно их настигло. Обычно они не прерывали плаванья и при сильном ветре. Даже Феликс и тот не так уже страшился моря. Но свою шапку он, несмотря на все уговоры, носил день и ночь не снимая.
— Всякое бывает. Неровен час, можно и в открытом море напороться на кого-нибудь, а я второй раз не намерен подвести всех нас. Кроме того, я должен привыкнуть носить шапку, чтобы мне было в ней удобно и не захотелось не ко времени почесать макушку.
Наконец, они добрались до Геркулесовых столпов, до пролива, за которым расстилается Атлантический океан. Некоторое время им пришлось плыть вдоль берега на север; затем они обогнули большой мыс, и на противоположной стороне Марон увидел землю.
— Испания, — сказал рыбак.
— Испания! — воскликнули беглецы, а рыбак повернул руль и повел лодку через пролив — порочь от берегов Африки. Приближаясь к противоположному берегу пролива, они увидели высокую скалу Кальпе, словно страж стоящую над водами, а позади Кальпе тянулись луга, покрытые сочной, кое-где пожелтевшей от солнца травой.
— Теперь уже недолго, правда? — спросил Бренн, погрузив руку в прохладную воду.
— Мы должны быть в Гадесе через два-три дня, — ответил рыбак. — Так сказывали другие, сам я никогда там не бывал.
Бренн вдруг встревожился.
— А что, — спросил он, — там, я думаю, всюду торчат римские чиновники?
— Уж это наверно!
Наклонясь к Марону, Бренн шепнул:
— Нельзя допустить, чтобы они нашли наше золото. Что, если таможенные надсмотрщики вздумают обыскать лодку?
Повернувшись к рыбаку, он громко сказал:
— Тебе, наверно, придется платить стояночный сбор или какие-нибудь другие сборы?
Рыбак пожал плечами. Он понятия не имел о портовых порядках, но ему не хотелось признаться в этом.
— Они спросят, откуда мы приплыли, — сказал он, помолчав. — Что им ответить?
— Разве мы не можем сказать, что мы рыбаки из какой-нибудь испанской гавани на Средиземном море? Мы можем наплести, что нас занесло гораздо дальше на юг, чем мы хотели.
— Ловко придумано, если только не подвернется кто-нибудь из этой гавани, — возразил рыбак.
— Что ж, надо пойти на риск. Какую гавань мы назовем?
Подумав, рыбак сказал:
— Малаку.
Беглецам названия незнакомых мест ничего не говорили, и все четверо быстро столковались: они укажут Малаку, а отвечать чиновникам будут на том морском жаргоне, на котором изъяснялся рыбак.
— Нам нужно запастись хорошим уловом, чтобы все было, как у заправских. рыбаков, — заметил Бренн.
Итак, все подробности прибытия в Гадес были предусмотрены. Трое друзей чуяли, что минута последнего, величайшего напряжения вот-вот наступит. Бренн окинул взглядом зыбившиеся вокруг синие водные просторы и сказал:
— Вот мы, наконец, и в океане!
— Как! — заорал Феликс и пригнулся к самому дну лодки, где его тотчас обдало брызгами не вычерпанной воды. Убедившись, что ничего страшного не произошло, он опасливо поднял голову и укоризненно сказал:
— Стыдно так шутить! Я из-за тебя пребольно стукнулся. К чему ты это выдумал? В океане всякие водяные чудовища, и ураганы, и водовороты, и сирены, чего-чего там только нет! А здесь — вокруг та же вода, что и раньше. Он сплюнул за борт.
— Это океан, — упрямо повторил Бренн.
— Вот уж не думал, не гадал! — крикнул Феликс, с глубочайшим презрением глядя на волны. — После этого я никогда в жизни не поверю никаким россказням! Я всегда воображал, что океан — конец света и что там слышно, как солнце шипит, когда оно погружается в волны.
Глава XXVI. Гадес
На следующий день рыбак направил лодку вдоль берега, и мальчики терпеливо вновь и вновь забрасывали сеть, покуда не оказался изрядный улов. Они оставили только крупную рыбу, и весь вечер трудились, запрятывая в брюхо каждой рыбины одну-две золотые монеты. Они занимались этим на глазах у рыбака; таиться было бы бесполезно, а за время плаванья они прониклись доверием к нему. Он, несомненно, догадался, что все трое беглые рабы. Человек, по-видимому, не очень отзывчивый, он все же сблизился с мальчиками за долгие дни нелегкой дружной работы веслами и рулем. «Добротой он не отличается, — думали беглецы, — но выдать он нас не выдаст».
Понимая, что денег у них более чем достаточно, они дали рыбаку еще пять золотых, и он засмеялся своим скрипучим, гортанным смехом.
— Мы, рыбаки, мечтаем поймать золотую рыбку. Как попаду домой, все подумают, что я ее выловил.
По примеру мальчиков, он взял несколько рыбин и засунул в каждую одну-две монеты.
Надежно разместив, таким образом, свое богатство, он завернул каждую рыбину в тряпицу и положил их отдельно от прочих.
Все четверо налегали на весла, надеясь приплыть в Гадес до наступления темноты; но пришла ночь, а огней Гадеса все не было видно. Бросили якорь в ближайшем заливе и, как могли, старались побороть свое нетерпение.
Их расчеты не оправдались. На рассвете к заливу пришло несколько крестьян из ближней деревушки. Рыбак с грехом пополам объяснился с ними и узнал, что до Гадеса еще несколько миль, а поближе, за мысом находится городок Безиппо.
Беглецы были рады, что вовремя узнали об этом, иначе они приняли бы Безиппо за Гадес и причалили там. Примирившись с задержкой, они купили у крестьян молока, сыра и хлеба и снова пустились в путь, держась подальше от берега. После довольно длительного питания одной рыбой так приятно было попить козьего молока и поесть хлеба с сыром!
В этот вечер они бросили якорь по ту сторону Безиппо. За двое суток улов успел попортиться. Пришлось проделать кропотливую работу — вытащили все золотые монеты, выкинули всю рыбу в море и снова забросили сети, моля судьбу о том, чтобы на другой день очутиться в Гадесе.
Но только на третье утро они увидели мощные береговые укрепления и сразу поняли, что перед ними тот город, куда они стремились. Он был гораздо больше, чем Безиппо. Да, это в самом деле был огромный портовый город: вдоль пристаней чернел лес мачт, а от набережных, где высились пакгаузы и стройные колоннады, во все стороны расходились широкие улицы, на которых величественные общественные здания чередовались с роскошными особняками.
Взяв курс прямо на вход в гавань, рыбак ловко провел туда лодку и некоторое время водил ее взад и вперед, в поисках подходящего причала: они не решались пристать к какой-нибудь из внушительных набережных, возле которых высились торговые суда, окруженные шумной толпой матросов и грузчиков, и лениво раскачивались изящные суда для прогулок по морю.
Наконец, они высмотрели пристань поскромнее, где стояло на якоре несколько утлых суденышек, таких же невзрачных, как их собственное, и туда рыбак направил свою лодку. Они пришвартовали ее и ухитрились по бортам других лодок добраться до деревянных сходней, которые вели к набережной. Сперва они думали, что им вообще удастся проскользнуть незамеченными, — немногие матросы, находившиеся на судах, не обращали на них никакого внимания. Но не успели они ступить на набережную, как навстречу им из своей будки вышел крючконосый таможенник в сопровождении двух помощников и человека, несшего письменные принадлежности.
— Вы откуда? — грубо спросил он.
Рыбак начал что-то объяснять на своем тарабарском наречии, говоря так быстро и туманно, как только мог.
— Скажи толком, — рявкнул таможенник, — не то я велю бить тебя палками по пяткам, покуда ты не наберешься ума.
Рыбак стал выражаться яснее, и таможенник, которому морской жаргон был знаком, понял его речь.
— М-да… рыбу привезли, — протянул он, заглянув через набережную в лодку, и поманил своих помощников:
— Обыщите этот сброд!
Мальчики делали вид, что не понимают приказаний, которые таможенник отдавал на латинском языке, и благодарили судьбу за то, что они догадались запрятать золото во внутренности рыб. Накануне они снова долго провозились, вынимая монеты из протухших рыбин и засовывая их в свежие.
— М-да, — снова протянул таможенник. — Принеси-ка мне полдюжины этих рыбин. У твоего товара лакомый вид.
Бренна от страха прошиб холодный пот. Если найдут запрятанные в рыбинах монеты, неминуемо возникнут подозрения и таможенники начнут доискиваться, кто такие эти рыбаки из Малаки. Однако он и виду не показал, что понял латинскую речь чиновника.
К счастью, перепуганный рыбак опять начал что-то говорить, путаясь в словах, обращаясь то к таможеннику, то к мальчикам, то снова к таможеннику. Бренн воспользовался этой сумятицей и по сходням проворно соскользнул в лодку. Там он, заискивающе улыбаясь, взял из рук помощника таможенника отобранные им рыбины и быстро выпотрошил их. Ловко сделав надрез, он, держа рыбу за бортом, окунал ее в воду и тщательно прополаскивал, так что монеты тонули вместе с потрохами. Вычищенную рыбу он вернул помощнику, а тот вручил ее своему начальнику. Видя, с какой покорностью ему уступили отборную рыбу, таможенник несколько смягчился.
— Вы должны подчиняться правилам, действующим в гавани, — сказал он рыбаку, — внесите моему писцу все установленные сборы, тогда никто вас не тронет.
Он повернулся и ушел. Его помощники несли за ним рыбу.
Явился писец с роговой чернильницей в руках. Он потребовал уплаты стояночного и других сборов. Бренн отлично понимал, что писец хитрит, но не стал вмешиваться, как его ни бесило самодовольство плута, воображавшего, что он всех может провести. Для Бренна дело было же деньгах; его возмущало, что писец — подлый обманщик. Но ведь ничего нельзя было ни сказать, ни сделать. К счастью, у рыбака были мелкие монеты, сдача, полученная от крестьян при покупке съестного, и он смог уплатить востроглазому писцу требуемую им сумму, не вынимая золотых монет, иначе не обошлось бы без допроса.
Наконец, все формальности были выполнены. Мнимые рыбаки взяли напрокат у одного из грузчиков несколько плетеных корзин, снова залезли в свою лодку и занялись рыбой.
«Вряд ли, — так они рассуждали, — нас обыщут снова; потому нужно пойти на риск и вынуть монеты из рыбин, ведь во всяком другом месте, кроме гавани, трудно будет выпотрошить улов, не привлекая внимания».
Они чистили рыбу, сидя у кормы; вынутые монеты клали себе на колени, а затем — в кошели. Время от времени монета выскальзывала из их рук, покрытых чешуей и слизью, и шла ко дну, но с этим приходилось мириться. Лишь бы хватило денег на путешествие до Британии, — говорили они себе, — а уж сколько там монет застрянет в портовом иле, это ничего не значит.
Доверху наполнив все плетенки, мнимые рыбаки из Малаки сошли со своим грузом на набережную и спросили дорогу к рынку. Там, поторговавшись немного, они заплатили за место под одним из навесов. Разложив товар, мальчики и Феликс попрощались с рыбаком, оставив ему его десять золотых и всю выручку за рыбу, и на свой страх пошли разыскивать какой-нибудь корабль, отправляющийся в Британию, на Оловянные острова.
Но никто из тех, кого они спрашивали об этом, ничего не мог сказать; только какой-то старик, покачав головой, заявил, что теперь ни один корабль не делает всего рейса. По его словам, олово стали отправлять прямо через пролив в Арморику[98], в Галлию, а оттуда на мулах везли в Массилию[99].
— Впрочем, — обнадежил он беглецов, — быть может, найдется кормчий, который по-прежнему совершает это далекое плавание на север.
— Поищите недельку или месяц, а то и дольше — кто его знает…
Эта неопределенность угнетала троих друзей. Восторг, охвативший их с той минуты, как они ступили на пристань, стал угасать, и они снова явственно ощутили, что находятся до вражеском городе. Вспомнили грубого таможенника и содрогнулись. Один ложный шаг — и они погибнут безвозвратно. Их, бывших рабов, будут судить за побег и, наверно, пошлют работать в страшные свинцовые рудники Испании. Они поняли, что нужно скрыться, уйти подальше от кишащих людьми шумных улиц.
Глава XXVII. Сдаются комнаты
Они шли от пристани к пристани, расспрашивая каждого встречного об Оловянных островах, и никто ничего не знал об этом далеком крае. Как Феликс и Марон ни старались щадить сокровенные чувства Бренна, все же не раз они поглядывали на него с укоризной. Им начало казаться, что Британия — где-то на противоположном конце света, а Оловянные острова — создание его пылкой фантазии.
Наконец, когда трое друзей, устав до изнеможения, уже готовы были отказаться от дальнейших поисков, они увидели моряка, стоявшего, прислонясь к столбу, и задали ему все тот же вопрос — нет ли в гавани корабля, готовящегося плыть к Оловянным островам.
— Есть. Завтра или послезавтра отчалит, — гласил неопределенный ответ.
— Откуда? С какой пристани? — спросили они, замирая от волнения.
Моряк помолчал, не спеша почесал нос и сказал:
— Дайте подумать.
Он прищурил один глаз и почесал за ухом; посмотрел сначала по набережной вверх, затем по набережной вниз. Трое друзей ждали, кипя нетерпением. Неужели из-за тупости этого парня они не попадут на корабль?
После долгого раздумья моряк отвалился от столба.
— Сдается мне, что от этой пристани, — сказал он, указывая на ту, у ворот которой они стояли, — и корабль как будто вон тот, в самом конце.
Мальчики помчались по сходням к судну и узнали от матроса, что судно в самом деле поплывет к Оловянным островам, а отчалит оно только в третьем часу утра[100], во время прилива. Еще он им сказал, что кормчего сейчас нет, вернется он только к ночи и пытаться повидать его до утра бесполезно: он наотрез откажет, если его тревожить, когда он собирается на боковую.
— Как ты думаешь, он возьмет пассажиров? — спросил Бренн упавшим голосом, боясь, что надежда на спасение рухнет, если на борту не окажется места.
— Возможно, — ответил матрос, — если ему заплатят вперед. — Он посмотрел на Феликса и мальчиков, — ему явно не верилось, что у них. есть деньги. — Но вам придется прийти еще раз утром и поговорить с ним самим. Кроме кормчего, никто ничего вам не может сказать.
Беглецы отдали словоохотливому парню всю мелкую монету, какая у них нашлась; хотя он был всего лишь матрос, они считали нужным задобрить его, чтобы он похлопотал за них. Окинув корабль долгим взглядом, полным восхищения и тревоги, они ушли было с пристани, но вернулись, чтобы спросить матроса, в самом ли деле корабль отчалит наутро не раньше трех часов. Щедрый дар расположил матроса в пользу беглецов, и он заверил их, что «Надежда Геркулеса» никак не может сняться с якоря прежде, чем прилив достигнет высшей точки. А если они сомневаются, — прибавил он, — то любой матрос на любой пристани скажет им то же самое; это произойдет рано утром.
Несколько успокоившись, беглецы вышли на улицу и стали обсуждать, где бы им приютиться на ночь. Уходить далеко не хотелось, так как было боязно, что утром может произойти какая-нибудь задержка. Углубляться в извилистые переулки, где они под утро, пожалуй, долго будут плутать, прежде чем выйдут назад к пристани, тоже казалось им рискованным. Поэтому они пошли переулком, который вывел их на главную улицу, как раз напротив ворот пристани, и брели по ней, пока не увидели шестиэтажный дом с надписью: «Сдаются комнаты». Внизу помещался трактир, остальные этажи были, по-видимому, заняты под жилье. Эта часть города была безлюдна, а дом имел мрачный, запущенный вид.
Ни дом, ни место не внушали доверия, но имели то огромное преимущество, что до пристани, где стояла «Надежда Геркулеса», было совсем близко.
— Ну как — попытаемся? — несмело спросил Бренн — ему не хотелось убеждать товарищей зайти.
У Феликса и Марона было такое же чувство.
— От пристани близко, — сказал Марон.
— Грязновато здесь, — заметил Феликс. Ну, от грязи мы вряд ли подохнем, — прибавил он, смеясь, — послушать меня, так можно подумать, что был завсегдатаем роскошных бань, а не замызганным истопником, которому и помыться-то не доводилось, разве что дождь иногда вымочит с головы до ног.
— Надо же куда-нибудь приткнуться, — настаивал Бренн, опасавшийся, что на них обратят внимание, если они долго будут толковать на улице. — Идем!
Он вошел в трактир. Феликс и Марон последовали за ним. Там как будто не было никого, кроме хозяина и раба, держащего в руках швабру. У хозяина вид был еще менее располагающий, чем у дома. Неряшливо одетый человек с клочковатой рыжей бородкой стоял за прилавком; передних зубов у него не было.
— Что вам требуется, ребята? — спросил он вошедших. — Винца хотите? Или, может, чего другого? Меня знает каждый моряк. Я так у них и зовусь: «Друг моряков». Так давайте поговорим начистоту. Что вам нужно?
— Комнату на ночь, — сказал Бренн; он уже раскаивался, что зашел в этот вертеп, но ему невмоготу было дольше бродить по улицам.
— Вы ее получите, — угодливо ответил трактирщик. — Самую лучшую комнату во всем доме. Такую, какой не погнушались бы люди и познатнее нас с вами, хотя бравый моряк, такой, как вы и я, не имеет себе равных. Я всегда так говорю: моряк — соль земли, потому что в родном соленом море он весь пропитывается солью.
Отпустив эту остроту, трактирщик захихикал, защелкал языком и попытался ткнуть Феликса локтем в бок. Но Феликс сердито заворчал и отстранился; при этом движении его кошель раскрылся и золотые монеты посыпались на пол.
— Что я вижу! — закричал трактирщик. — Желтые кружочки! Ну и счастливцы! Не трудитесь объяснять, откуда у вас это богатство, я и сам смекну!
Мальчики и Феликс проворно подобрали монеты, со звоном раскатившиеся по всей комнате. Теперь им совсем уже не хотелось оставаться в этом доме. Они уже подумывали, как бы выбраться оттуда, — и вдруг увидели, что поодаль, в нише, сидят несколько человек, все бородачи со свирепыми лицами.
— Пойдем наверх, — сказал хозяин, схватив Феликса за руку. — Я покажу вам вашу комнату. Только не подумайте уйти. Разбитные парни, да еще с деньгами, нам всегда по вкусу, будьте как дома!
Он повернулся к людям, сидевшим в нише, словно ожидая от них подтверждения, а те, что-то пробурчав в ответ, встали и сгрудились у наружной двери.
Бренн понял, что всякая попытка уйти из трактира кончится потасовкой, в которой бородачи, разумеется, одержат верх. «Даже если нас не убьют, — говорил он себе, — у нас отнимут все деньги, и никогда уже „Надежда Геркулеса“ не доставит нас на Оловянные острова! Самое разумное, что можно сделать, — это притвориться, будто мы охотно принимаем предложение трактирщика».
Он бросил на пол одну из подобранных им монет и так бойко, как только мог, воскликнул:
— Угощаю всех!
— Вот это дело, — захихикал трактирщик. — Ты молод, но, видно, уже прошел хорошую школу. Деньги не капуста, сами не растут. Не хотите ли сыграть в кости со всей честной компанией?
— Попозже, — сказал Бренн, — сначала покажи нам комнату.
— Ладно, — ответил хозяин и пошел к лестнице, предварительно сделав бородачам знак рукой и сказав им: — Пейте, ребята, а золотой положите на стойку. Пусть наши новые друзья поудобнее расположатся у себя в комнате, а потом — всей компанией сразимся в кости!
С этими словами он стал подниматься по лестнице, уходившей вверх из темного угла комнаты. Было ясно: хозяин не хотел драки в трактире, пока на улице, как она ни была малолюдна, еще могли оказаться прохожие, которые, услыхав крик, прибежали бы. Он и не подозревал, что Феликс и мальчики не меньше его самого боялись иметь дело с властями. Очевидно, он задумал уговорить пришельцев играть в кости и, плутуя, обобрать, либо вместе со своей шайкой напасть на них поздней ночью в отведенной им комнате.
Идя впереди трех друзей по темной лестнице, хозяин то и дело отпускал шуточки, со скрытой целью выведать, много ли у новых постояльцев золота.
— Ну и хитрюги же вы, — говорил он как бы между делом, — мне думается, вы из тех краев, где град — и то из золота. А если богача в тех краях ткнуть ножом в бок, то из него заместо крови тоже посыплются золотые монеты — только знай подбирай их да складывай к себе в ларец!
Он опять захихикал, довольный своей шуткой. Дойдя до самого верхнего этажа, он открыл дверь и ввел троих друзей в неприглядное чердачное помещение.
— Только эта комната и свободна, — сказал он жалобно.
Комната была мрачная, с грязными стенами; вся обстановка состояла из колченогой кровати, стола и табурета.
— Ладно, сойдет! Принеси нам еды и вина, — ответил Бренн. Он уже догадался, что трактирщик нарочно отвел их на чердак, чтобы с улицы не услышали, если бы им пришлось звать на помощь.
— А после ужина вы сойдете вниз сыграть в кости с хорошими людьми?
— Разумеется!
Трактирщик радостно ухмыльнулся и прихрамывая вышел из комнаты.
Едва он успел уйти, как Марон подбежал к окну и выглянул вниз, на улицу.
— Слишком высоко. Не достать до земли, даже если мы скрутим веревку из простынь и наших плащей в придачу. Мы дали заманить себя в ловушку.
— Что же мы могли сделать, — возразил Бренн, — когда эта шайка загородила выход? А звать на помощь нам, понятное дело, никак нельзя, даже если б было кого звать.
— Мы, прямо сказать, попали в переделку, — сказал Феликс, усевшись на кровать, заскрипевшую под его грузным телом. — Справиться с этой шайкой мы не можем, позвать на помощь мы не можем, уйти отсюда мы тоже не можем. Как же нам быть?
— А не спрятаться ли нам где-нибудь в других комнатах? — предложил Бренн.
— В нижних этажах всюду полно людей, — ответил Марон, — а комнаты под нами заперты. Я потихоньку потрогал двери, когда мы шли по лестнице: хромой отвернулся на минутку.
— Подождем, пока принесут ужин, — решил Бренн, — тогда загородим дверь и хорошенько подумаем.
Вскоре раб принес хлеб, сыр, большой глиняный сосуд с вином и деревянные чаши. Как только он ушел, трое друзей заставили всей скудной мебелью дверь, на которой не было ни засова, ни щеколды.
— Если они навалятся все разом, боюсь дверь недолго устоит, — с невеселой усмешкой заметил Феликс.
Бренн крупными шагами расхаживал по комнате.
— Слушай, поешь, — сказал ему Марон. — На сытый желудок скорее что-нибудь придумаем.
Они сели на пол и принялись за еду. Феликс хотел было налить себе вина в чашу, но Бренн удержал его, сказав:
— К вину, наверно, примешано снотворное.
Феликс кивнул головой и с сожалением отставил чашу.
— Ты прав! А мне так хочется пить! Ох, и разделался бы я с этим негодяем, только попади он мне в руки!
Солнце уже садилось. «Скоро, — подумал Бренн, — в комнате будет совсем темно». Он тщательно осмотрел все закоулки, но нигде не нашел ни тайника, ни второго выхода. Он выглянул в окно, а затем занялся потолком. «Даже если бы удалось проделать дыру в крыше, — подумал он, — это ни к чему не привело бы, ведь смежные дома на целых три этажа ниже». Потолок чердака почему-то не оштукатурили; длинные, грубо обтесанные балки были целиком на виду.
— Если мы выворотим одну-две балки, — сказал Бренн, — мы сможем понадежнее загородить дверь.
— От этого проку будет мало, — печально заметил Марон. — У них топоры.
Бренн снова подошел к окну и вгляделся в дом, находившийся напротив. Дом был пятиэтажный. Посмотрев на улицу, Бренн определил, что ширина ее — самое большее пятнадцать футов, и спросил себя, сможет ли он с подоконника спрыгнуть на крышу этого дома, но быстро сообразил, что ему негде разбежаться и он неминуемо грохнется вниз. Нет, спрыгнуть на эту крышу невозможно, но будь у него доска, он мог бы перебраться по ней. Крыша была плоская, в ней виднелся люк, устроенный, вероятно, для того, чтобы жильцы могли в жаркие летние дни подышать на крыше воздухом или развесить белье для просушки.
— Если нам удастся выворотить балку, — молвил Бренн, сам пугаясь своей мысли и в то же время сознавая, что он должен ее высказать, — я смогу, как только стемнеет, переползти по ней на противоположную крышу. А уж оттуда я спущусь на улицу и мигом сбегаю за помощью.
Феликс и Марон устремились к окну.
— А кто тебе окажет помощь?
— Я побегу к кормчему того корабля, дам ему много денег и расскажу, что мои друзья в разбойничьем притоне и жизнь их в опасности. Если я ему щедро заплачу, он наверняка отпустит со мной нескольких матросов.
— А почему бы нам всем не перелезть? — спросил Марон.
— Я не могу, — заявил Феликс, весь побелев. — Я оборвусь; но это не причина, чтобы вы, ребята, не перебрались вдвоем.
— Нет, я тоже останусь, — сказал Марон. — Кроме всего, втроем мы провозимся гораздо дольше, и эти злодеи, чего доброго, заметят нас снизу. Пусть Бренн действует так, как он надумал.
Феликс попытался переубедить Марона, но тот твердо стоял на своем.
— Пусть идет Бренн, это его мысль, и это самое правильное, что можно сделать, — доказывал Марон. — Он больше всех годится для этого, — ведь он сможет поговорить с кормчим о Британии. А я останусь с Феликсом.
— Ладно! Но сперва нам нужно выворотить балку, — сказал Бренн.
Потолок был низкий; став на стол, они хорошенько рассмотрели балки. Почти все были основательно приколочены гвоздями, пропущены в пазы и вделаны в кирпичную кладку. Однако две из них сидели не так прочно; по-видимому, их кое-как прикрепили после того, как были прилажены основные деревянные части. Исследовав дело, Бренн обнаружил, что с одной из этих небрежно приделанных балок хлопот будет немного, так как крыша в этом месте протекала; от дождя большой гвоздь на одном конце балки заржавел, а дерево разрыхлилось. Убедившись в этом, Бренн отошел в сторону, а Феликс принялся за работу. Он ухватил балку за подгнивший конец и расшатывал изо всех сил, покуда не вырвал его из кладки. Известковая пыль, труха и щепки разлетелись во все стороны. Но дальше балка не шла.
— Надо проделать дыру в крыше, — сказал Феликс.
— Давай!
Феликс нашел обломок черепицы, и, орудуя им наподобие рычага, вынул с полдюжины черепиц, которые, одну за другой, передавал Марону, а тот осторожно клал их на пол. Затем Феликс приподнял балку за высвобожденный конец и стал дергать ее во все стороны, чтобы расшатать большой гвоздь на противоположном конце. Гвоздь скрипел и скрежетал, и мальчики с минуты на минуту ждали, что трактирщик начнет колотить в дверь.
Но шум не доходил до нижних этажей. Марон смочил гвоздь вином, чтобы скрежет был не так слышен. Он помогал Феликсу, стоя на табуретке и пользуясь вытащенной из кровати перекладиной как рычагом. Они долго бились, прежде чем им удалось вырвать гвоздь. Чтобы балка не загрохотала при падении, Марок быстро ухватил конец и бесшумно опустил его на пол.
Теперь нужно было проделать вторую дыру в крыше и просунуть туда балку так, чтобы можно было выставить другой ее конец наружу. Солнце зашло, уже смеркалось, но зрение беглецов было так напряжено, что они почти не заметили перемены.
На лестнице послышались шаги; они с замиранием сердца подумали, что их замысел раскрыт. Но это был всего лишь раб, которому трактирщик поручил позвать их вниз — сыграть в кости.
— Придем немного погодя, — через дверь крикнул Бренн. Раб ушел.
Тем временем стемнело. Они осторожно выставили балку за окно и без особого труда перекинули ее на противоположную крышу. Ширина балки не превышала одного фута. Если раньше переход по ней представлялся страшным воображению, то теперь узкая балка, перекинутая между двумя домами, наглядно показывала, как это трудно и опасно в действительности.
Плотно набив золотом один из кошелей, друзья повесили его Бренну на шею, под тунику. Бренн взобрался на подоконник. Балка лежала наклонно, поэтому он решил ползти по-рачьи, чтобы не закружилась голова; но даже не видя пропасти под ногами, он не мог без ужаса думать о ней. Напряжением воли он заставил себя сосредоточиться на одной мысли — как половчее ухватиться за балку, на которой ему предстояло проделать этот путь, и, стараясь забыть обо всем остальном, он вылез из окна.
Глава XXVIII. Освобождение из ловушки
Всякий раз, когда Бренн в последующие годы вспоминал об этом переходе, он обливался холодным потом. Но в ту пору он не испытывал такого ужаса; балка была плохо остругана, и при каждом движении занозы впивались ему в руки и ноги; наклон становился все круче, и Бренн чувствовал, как балка дрожит под ним. Но он продолжал ползти, машинально перебирая руками и ногами, продвигаясь все дальше вниз, по направлению к крыше, которую не мог видеть. Он знал, что Марон и Феликс стоят у окна и крепко держат балку, чтобы она не съехала, но не решался поднять глаза и взглянуть на них, так же как не решался кинуть хоть беглый взгляд на улицу, расстилавшуюся внизу.
Время тянулось нестерпимо долго. Узкая балка представлялась его затуманенному сознанию намного уже, чем она была, и мальчик едва не лишился чувств. Спустя мгновение он опомнился и, более чем когда-либо уверенный в себе, вновь ощущая упругость в мышцах, крепко-накрепко обхватил балку.
Еще несколько раз изогнувшись всем телом, Бренн почувствовал, что его ноги коснулись крыши. Но при мысли, что опасность исчезнет лишь после того, как он. извиваясь, сделает еще два-три движения, у Бренна чуть было снова не закружилась голова. Ценою огромного усилия воли он преодолел охватившую его слабость, заставил себя сдвинуться с места и спустя минуту, цел и невредим, очутился на крыше.
Он отпустил балку и лег навзничь, обуреваемый противоречивыми чувствами, то радуясь, то вдруг сомневаясь в том, что неимоверное напряжение миновало. Затем он услышал, как Феликс и Марон медленно втащили балку назад в комнату, чтобы загородить ею дверь.
Вдруг его взяло сомнение: что, если люк заперт и он рисковал жизнью понапрасну? Страх заставил его приподняться; но ему еще не верилось, что хватит сил встать, и он на четвереньках пополз в тот угол, где с чердака приметил люк. Он нащупал ступеньку и бодро стал спускаться по лесенке, отважась, наконец, выпрямиться. У конца лесенки была дверь; чтобы открыть ее, Бренну пришлось только поднять щеколду.
Благословляя судьбу, он осторожно вышел на площадку и прислушался. Снизу доносился громкий говор и звон чаш. Он бесшумно прокрался во второй этаж и, осторожно выглянув из-за поворота, увидел, что обширное помещение нижнего этажа полно людей, распивающих вино.
«Что делать? — подумал Бренн. — Они, должно быть, просидят там еще долгие часы, а некоторые из них, вероятно, живут в этом доме. Да и вообще, не могу я без конца стоять на лестнице».
Вдруг он весь похолодел. Кто-то поднимался по лестнице. Недолго думая, Бренн подошел к первой же двери, которую увидел, и открыл ее.
Комната, где он очутился, тонула во мраке; но понемногу глаза Бренна, вначале еще ослепленные огнем светильников, горевших внизу, привыкли к темноте, и он различил окно.
«Я на втором этаже, — припомнил Бренн, — а с чердака видно было, что в этом этаже всюду небольшие балконы».
Кто-то заворочался и приподнялся во мраке; Бренн понял, что попал в чью-то спальню.
— Это ты, Гегер? — спросил женский голос.
«Она приняла меня за своего мужа», — подумал Бренн.
— Да, — пробормотал он приглушенным голосом, словно зевая, и стал ощупью пробираться к окну.
— Что с тобой такое? — спросила женщина.
Но Бренн уже был у окна. Быстро отдернув занавеску, он выбежал на балкон, перелез через перила, спустился на руках как можно ниже и спрыгнул. Женщина пронзительно закричала, и Бренну показалось, что он услышал, как распахнулась дверь.
Он ударился ногами о мокрую землю и тотчас стремглав побежал по переулку. За своей спиной он слышал глухой шум, но не мог разобрать, погоня ли это или кричат гуляки, бражничавшие в нижнем этаже. Но что бы там ни было, он бесповоротно решил, что никому не дастся в руки.
В темноте он с кем-то столкнулся, сбил человека с ног, сам едва удержался в равновесии и понесся дальше.
Спустя несколько минут Бренн уже был на главной улице, а оттуда мигом домчался до пристани, где стояла «Надежда Геркулеса». Радуясь, что на корабле еще горели огни, он вбежал на пристань; матрос окликнул Бренна и велел остановиться, но он вскочил на мостки и потребовал, чтобы его провели к кормчему.
— Мне нужно условиться с ним… насчет отплытия… назавтра, — проговорил он задыхаясь.
— Завтра и приходи.
Подведя матроса к фонарю, Бренн вытащил из-под туники туго набитый кошель, раскрыл его и показал матросу золотые монеты. Онемев от изумления, матрос живо поднялся на палубу, вскоре вернулся оттуда и провел Бренна к кормчему в его каюту.
— Что значат эти россказни о каком-то мешке с золотом? — спросил кормчий, коренастый человек с коротко подстриженной бородкой и пронизывающими голубыми глазами. — Верно, парень с перепою пришел ко мне и понес такую дичь!
Бренн молча положил на стол доверху набитый кошель, откуда посыпались монеты. Кормчий взял одну, внимательно разглядел чекан, звякнул ею об стол и испытующе взглянул на Бренна.
— Что это за деньги?
— Плата за то, чтобы доставить нас троих в Британию.
— Здесь гораздо больше, чем нужно; ты, наверно, знаешь это. Деньги краденные?
— Нет, — ответил Бренн, которому резкое, но не враждебное обращение кормчего придало смелости. — Мы нашли это на судне, потерпевшем крушение у африканского побережья.
Кормчий заглянул ему в глаза и сказал:
— Мне думается, ты говоришь правду. Но чего ради ты предлагаешь мне такую кучу денег?
— Мне нужна твоя помощь, — воскликнул Бренн и торопливо рассказал все, что произошло.
— Я знаю этот вертеп, — молвил кормчий, жестом приказав Бренну замолчать. — В прошлом году там ударом ножа убили одного из моих матросов. Негодяя-трактирщика давным-давно следовало отправить в рудники, но он, видно, подкупил какое-то важное лицо. Мы выручим твоих друзей.
Он повернулся к матросу, который привел Бренна и теперь ждал у двери.
— Кликни десяток самых дюжих людей и дай им дубинки. Этот парень поведет вас, куда нужно. Смотрите, вытащите его приятелей из этого разбойничьего логова. Матрос побежал вниз, а Бренн со слезами на глазах взволнованно обратился к кормчему:
— Не знаю, как и благодарить тебя…
— Благодарить не за что, — отрезал тот. — Ты заплатил мне за услугу; но я охотно доставил бы тебя в Британию даром, в награду за то, как ты перебрался по балке…
Он повел Бренна из каюты на палубу, где уже выстроились матросы, и сказал им:
— Идите за этим парнем и действуйте так, как он скажет. Если разобьете несколько голов, вам заэто ничего не будет.
Матросы одобрительно хмыкнули и вслед за Бренном сошли на пристань.
Глава XXIX. На выручку
Дойдя до трактира, отряд остановился. Один из матросов зашел туда разузнать, что происходит. Вернувшись, он сообщил, что в трактире всего двое людей, но сверху, с лестницы, доносится шум. Бренн в сопровождении матросов тотчас вбежал в трактир, и два раба, сторожившие у входа, живо удрали куда-то на задворки.
Бренн ринулся вверх по лестнице. Шум становился все сильнее, и он понял, что трактирщик и его шайка ломятся в дверь чердака. Матросы шли за ним по пятам, сжимая в руках дубинку.
— Выходите! — орал во всю глотку трактирщик, беснуясь на площадке лестницы, среди своей банды.
Он первый увидел Бренна и матросов и завопил, предостерегая своих. Но матросы уже набросились на громил, и те разбежались. Трактирщик остался на площадке и, жалобно причитая, забился в темный угол.
— Теперь можете открыть! — крикнул Бренн своим, и в отверстие, через которое раньше летели черепицы, улыбаясь выглянули Феликс и Марон. Недавние осажденные быстро убрали преграду, воздвигнутую из убогой мебели с прибавлением балки. Спустя несколько минут дверь открылась; и друзья Бренна радостно протянули ему руки.
— Да, малость повредили дом старому прохвосту, — сказал Феликс. — Придется ему потратиться на починку крыши.
— Уйдем скорее из этой смрадной трущобы, — воскликнул Бренн.
Моряки весело загоготали и гурьбой спустились по лестнице, плотно окружив обоих спасенных. У стойки они остановились и пустили чашу в круговую, как ни возражал против этого Бренн, опасавшийся, что трактир — место сбора бандитов и может подоспеть подкрепление. Но страхи оказались напрасными, — никто не явился. Они вышли на улицу и благополучно дошли до самой пристани.
— А как насчет отплытия в Британию? — спросил Марон.
— Все в порядке, — ответил, Бренн, — кормчий — молодец, замечательный человек, лучше не сыскать.
Кормчий встретил их у мостков; ему не терпелось узнать, чем кончилась спасательная экспедиция. Он немногословно приветствовал Марона и Феликса, кое о чем расспросил их, похвалил матросов, добродушно пошучивая, и велел отвести новых пассажиров в свободную каюту.
— Как будто кончились наши бедствия, — сказал Бренн. — Но я все еще не могу этому поверить. Может, поверю, когда мы благополучно выйдем из гавани.
— Подальше от ретивых чиновников, — подхватил Феликс, — которые, чего доброго, захотят узнать, почему у человека шапка надвинута на лоб.
В эту ночь беглецы почти не сомкнули глаз. Они поминутно просыпались, то беседовали о пережитых невзгодах, то говорили друг другу, как хороша каюта (которая была не хуже и не лучше всякой другой), и как хороши судно и кормчий (для этого уж были некоторые основания), и как хорош весь мир (из чего видно, как они были счастливы), — если только судно выйдет из гавани рано утром.
Когда забрезжил рассвет, они не решились выйти из каюты, хотя им страшно хотелось понаблюдать приготовления, посмотреть, как работают матросы, своими ушами услышать приказания, означающие, что корабль вот-вот отчалит. Им принесли завтрак, но они не выглянули наружу, твердо решив не трогаться с места, покуда корабль не отойдет от берега.
Им казалось, что они уже много часов провели в каюте. При каждом звуке они тревожно вздрагивали, спрашивая себя, не явился ли на судно проныра-чиновник. А вдруг рыбак с Балеарских островов совершил какую-нибудь оплошность и с перепугу рассказал все? Или негодяй трактирщик возвел на них поклеп? Они уже не сомневались в том, что корабль задерживается; что же могло его задержать, как не распоряжение властей? Бренн высунул из каюты голову, но ничего не увидел.
Наконец, они почувствовали, что корабль снялся с якоря. Все трое с трепетом выжидали, все еще сомневаясь. Вскоре пришлось увериться, что это на самом деле так, — и тотчас они выбежали из каюты на залитую солнцем палубу, где гулял ветер. Стоя у борта, они смотрели на сновавших вокруг матросов. Свежий ветер с моря, теперь ставшего для них родной стихией, обвевал их разгоряченные лица, а лязг и скрежет, раздававшийся, когда судно делало поворот, ласкал их слух.
Судно вышло из гавани на вольные воды необъятного океана, быстро удаляясь от стран, подвластных Риму.
— Какое чудесное зрелище, — воскликнул Феликс. — Эх, хорошо бы иметь два глаза, чтобы вволю им насладиться!
Заключение
Спустя два месяца, после чудесных дней спокойного плавания в ясную погоду и тревожных дней борьбы с ненастьем, «Надежда Геркулеса» оказалась почти у цели. Сначала судно обогнуло Испанию, затем поплыло вдоль берегов Галлии; достигнув крайней западной оконечности Арморики, оно взяло курс на Оловянные острова и гору Великанов[101] и понеслось прямо на северо-запад, в открытое море.
— Земля! — крикнул наблюдатель.
Бренн напряженно смотрел вдаль, но ничего не мог различить. Вскоре на горизонте возникла голубоватая полоса, выступавшая все отчетливее по мере того, как корабль продвигался вперед. То были Оловянные острова — сильно выпяченная западная оконечность Британии, которую первые мореплаватели принимали за группу островков: открыв острова Силли[102], они затем многочисленные мысы самой Британии тоже считали островами.
«Надежда Геркулеса» бросила якорь в бухте, над которой нависли скалы небольшого пустынного острова. На самой высокой из скал стояло укрепление. Каменная дамба, длиною в несколько сот ярдов, соединяла остров с берегом самой Британии. По дамбе двумя. встречными потоками сновали люди, шли вьючные животные с тяжелой поклажей. У невзрачного причала, с подветренной стороны острова, стояло на якоре еще несколько суденышек. Возле причала и на берегу самой Британии виднелись построенные из камня и дерева хижины; над отверстиями в крыше клубился сизый дым очагов.
— Это гора Великанов! — воскликнул Бренн, указывая на остров. — Люди говорят, что скалы раскидали по острову великаны, когда они в незапамятные времена воевали между собой. Здесь-то и выплавляют серебро и олово, Я раз побывал тут с дядей, совсем еще ребенком.
— Значит, это и есть Британия, — сказал Феликс. — Ну, что ж, жить как будто можно, не так уж она отличается от других стран. Только камней здесь больше.
— Прошу тебя, не суди о Британии по этому месту, — с жаром возразил Бренн. — Моя деревня — к востоку отсюда, прямиком по берегу. Путь нетрудный, и скоро мы будем дома!
Кошель, висевший у пояса Бренна, был еще наполовину набит золотыми монетами; кормчий отказался взять с них больше той платы, которую счел справедливым назначить.
С берега люди приветствовали корабль. Отчалившая оттуда ладья вскоре приблизилась к корме «Надежды Геркулеса».
— Мы еще увидимся с тобой на берегу, — крикнул Бренн кормчему, стремясь поскорее ступить на родную землю. Он движением руки велел лодочнику подплыть вплотную. По канату, свисавшему с борта, Бренн мигом соскользнул в лодку. Марон и Феликс тотчас последовали за ним. Лодка накренилась под их тяжестью, и лодочник проворно направил ее к берегу.
Как только в воде стало просвечивать песчаное дно и замелькали водоросли, Бренн выпрыгнул из лодки и с радостным криком стрелою помчался к берегу. Ему чудилось, что родная земля откликается на его взволнованный привет. Исполненное благодарности сердце, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди.
«Да, — думал он, — стоило вытерпеть такие муки, чтобы вернуться домой, чтобы по-настоящему понять, всей душой ощутить, как сильна любовь к своей стране и своему народу. И не только этим одарили меня все пережитые невзгоды. Я приобрел друзей, на которых могу положиться во всем. Поистине, верные, испытанные друзья — величайшее благо, которого человек может ждать от судьбы».
Обернувшись, он увидел, что Марон и Феликс замешкались у берега с робким видом пришельцев, стоящих у чужого порога. Он протянул к ним руки, и они, приободрившись, двинулись вперед более уверенным шагом. Подойдя к Бренну, Марон взял его за правую руку, Феликс — за левую.
Все трое с улыбкой смотрели в глаза друг другу. За ними шумел рынок, где шла купля-продажа олова, Над ними раскинулось ярко-синее летнее небо.
Наконец-то дома!
Перевод: Н. Рыкова, А. Кулишер
Подземный гром
Катарине Сусанне Причард
Зачем взирать нам на былое,
Когда сегодня ум кипит
И разрешить нам предстоит
Тьму сложных роковых проблем,
Когда атомный взрыв грозит
Вмиг уничтожить все Живое?
Века различны — ясно всем,
Но в переменах ловим взглядом
Рисунок давний, вечно новый.
Его встречаем всякий раз,
Ряд бурных фаз в уме сличая.
С исходом строя родового
К паденью каждый шаг ведет,
Надежды светлые рождая.
При взрыве роста в грозный час —
Избыток страсти, скорби гнет,
Прозренья, щедрость, дерзкий взлет —
Из пут постылых к новой жизни,
Глухому аду вопреки,
Мечты, боязнь, порыв тоски,
Жестокой власти усиленье,
Кипенье яростной борьбы,
Разломы воль, весы судьбы,
Эдема позднее виденье.
Все эти знаменья времен —
И в наши дни и в древнем Риме —
Становятся для нас все зримей,
И будет нами уяснен
Былого смысл, коль вникнем в сети
Свободы и судьбы слепой,
Любви, проникнутой враждой, —
Распутаем сплетенья эти.
Быть может, мудрость обретем,
Коль узрим скрытые истоки
Стремлений низких и высоких.
Тогда, блеснув из бездны лет,
Нам озарит заветный свет
И жизни бурное цветенье
И все затронутое тленьем,
Что мир хранит. И наконец
Мы обретем в глуби сердец
Запас несокрушимых сил.
Творить мы станем с новым рвеньем,
Удел земной нам будет мил
[103].
Джек Линдсей
И оглушительный грохот, подобный подземному грому.
Нерон
…и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: иди и смотри…
…и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власяница, и луна сделалась как кровь.
…и будет сожжена огнем… И восплачут и возрыдают о ней цари земные… когда увидят дым от пожара ее.
Апокалипсис, VI, 1 и 12, XVIII, 8–9
Лязг незримых мечей, голосов зловещих раскаты
В дебрях лесных, к живым приближаются тени умерших.
Лукан, «Фарсалия»[104]
Знайте, бойцы, лишь на краткую ночь еще вы свободны:
Надо последний свой час в это малое время обдумать.
Жизнь не бывает кратка для того, кто в ней время имеет,
Чтоб отыскать свою смерть…
Лукан, «Фарсалия», Книга 4[105]
Вот и свобода тебе, вот тебе отпущенье на волю!
«Кто же свободен еще, как не тот, кому можно по воле
Собственной жизнь проводить? Коль живу, как угодно мне, разве
Я не свободней, чем Брут?» — «Твой вывод ложен, — сказал бы
Стоик тебе, у кого едким уксусом уши промыты. —
Правильно все, но отбрось свое это „как мне угодно“».
Персий, «Сатиры», 5[106]
Ужас их все возрастал. Им виделось: треснув, на землю
Падают своды небес. Им чудилось: рушатся горы,
Все погребая крутом, — и грозный мрак поглощал их.
Их тревожил покой, пугали немые просторы,
Небо, лучами звезд увитое, словно власами.
Как человек, в лесах заблудившийся ночью глухою,
Смотрит с тревогой во мрад и ловит невнятные звуки,
Робкой стопою бредет в непроглядных дебрях, пугаясь
Призраков черных дерев, его обступивших с угрозой, —
Так страшились они.
Валерий Флакк[107]
Передавая кинжал, непорочная Аррия Пету,
Вынув клинок из своей насмерть пронзенной груда!
«Я не страдаю, поверь, — сказала, — от собственной раны,
Нет, я страдаю о той, что нанесешь себе ты».
Марциал, «Эпиграммы», Книга I, 13[108]
Если, как стоик, ты смерть, Херемон, восхваляешь без меры,
Должен я быть восхищен твердостью духа твоей?
Но ведь рождает в тебе эту доблесть кружка без ручки
Да и унылый очаг, где даже искорки нет,
Вместе с циновкой в клопах и с брусьями голой кровати,
С тогой короткой, тебя греющей ночью и днем.
О, как велик ты, когда без черного хлеба, без гущи
Красного уксуса ты и без соломы живешь!
Ну, а коль был бы набит подголовок твой шерстью лаконской,
Если б с, начесом лежал пурпур на ложе твоем,
Если б и мальчик тут спал, который, вино разливая,
Пьяных пленял бы гостей свежестью розовых губ, —
О, как желанны тебе будут трижды Нестора годы
И ни мгновенья во дню ты не захочешь терять!
Жизнь легко презирать, когда очень трудно живется:
Мужествен тот, кто сумел бодрым в несчастии быть.
Марциал, «Эпиграммы», Книга XI, 56[109]
Это тебя заботит? Меня нисколько. Я докажу тебе, что я господин. А ты не можешь этого сделать. Всесильный бог освободил меня. Неужели ты думаешь, что он допустит, чтобы его сын был рабом?
Эпиктет, Избранные мысли
…я стал расспрашивать старика… о причинах современного упадка, сведшего на нет искусство — особенно живопись, не оставившую после себя ни малейших следов. «Жажда к деньгам все изменила, — сказал он. — В прежние времена, когда царствовала нагая добродетель, цвели благородные искусства и люди соревновались — кто из них принесет большую пользу будущим поколениям… Не удивляйся, что пала живопись: людям ныне груды золота приятнее творений какого-нибудь сумасшедшего грекоса Апеллеса или Фидия».
Петроний, «Сатирикон», LXXXVIII
Тот благороден, тот вправе рожденьем гордиться,
Кто бесстрашен в бою, чья не дрогнет рука.
Петроний[110]
Вечность заключает в себе противоположности, присущие всем вещам.
Сенека
Я с радостью узнал от людей, приехавших от тебя, что ты живешь в дружбе со своими рабами. Так и подобает такому разумному и образованному человеку, как ты. Говорят, они рабы. Нет, прежде всего люди. Рабы? Нет, товарищи. Рабы? Нет, непритязательные друзья. Рабы? Нет, скорее товарищи по рабству, если принять во внимание, что Фортуне равно подвластны как раб, так и свободный.
Сенека
Рабы будут освобождены, а их господа будут лишены жизни.
Оракул Гончара (распространенный в Египте на греческом языке)
Часть первая
Приезд в Рим

I. Луций Кассий Фирм
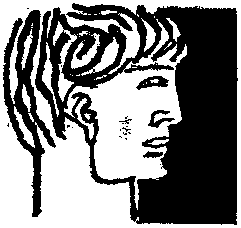 Когда я подъезжая к Воротам, вокруг меня уже сгущались хмурые сумерки. Мгла поднималась над землей, все застилая кругом, и навстречу ей спускалась густая серая паутина с тяжело нависшего неба. Шея моей гнедой лошади потемнела от пота, и я пожалел, что гнал ее без передышки после того, как сломалась коляска. Как будто, если бы я не застал последний отсвет дня над Городом, это означало бы неудачу, дурное предзнаменование, какой-то нелепый, опрометчиво допущенный просчет. По небу еще растекалось слабое, призрачное сияние, и от этого все на земле казалось сумбурным и предательски ненадежным. Неразбериха усиливалась у самых Ворот, где в потемках скупо разливал свет смоляной шипящий факел. Наступил час пропуска в Город грузовых повозок. Несколько заждавшихся возничих, громко ругаясь и щелкая бичами, устремились вперед, чтобы проехать первыми. Две повозки сцепились колесами так, что затрещали все деревянные сочленения. Их ринулся объезжать хозяин колесней, на которых были кое-как увязаны бревна; одно из них, скользнув, покатилось по дороге, вызывая злобные крики толпы и проклятия застрявших позади возничих.
— Перевяжи как следует бревна либо поворачивай обратно, — потребовал привратник.
— Разве тут повернешь? — ответил возничий. — Бревна были увязаны надежно. Верно, какой-нибудь прохвост вздумал поживиться!
Между тем к воротам подъезжали все новые возы и крытые повозки.
— Знаю твою мерзкую физиономию, — сказал привратник. — Ты работаешь у Скавра. Не думай, что это тебе пройдет даром.
Подбежал стражник с факелом. Колеблющееся пламя рывком выхватило из потемок разыгравшуюся сцену. Запрыгали тени, потом они сгустились и стали расползаться по земле, готовые поглотить все вокруг. В неверном свете факела лица, осклабленные, испуганные, напряженные, превратились в багровые и зеленые маски с искаженными чертами, со скошенными носами, в разинутых ртах торчали клыки, шевелились длинные уши, в выпученных глазах дико вращались блестящие зрачки. Над толпой возвышался стоявший на бревнах возничий в разорванной тунике, со спутанными волосами, которые падали на глаза, зиявшие, как черные провалы. Я направил свою лошадь между возом и стеной, подальше от привратника. Зеваки, с интересом следившие за перебранкой, теснились у колесней. Их нимало не тревожило, что посунувшиеся набок бревна могли упасть и раздавить их. Я натянул поводья, лошадь вскинула голову, женщина, испугавшись ее оскаленной морды, юркнула под самый воз. Мужчина в кожаном фартуке схватил было меня за колено, но я взмахнул плетью. Женщина с испугу уронила корзину с зеленью.
— Что там творится? — крикнул привратник. Мне удалось проскользнуть мимо колесней.
Мой раб Феникс следовал за мной, хотя в последнюю минуту ему преградила дорогу женщина, которая ткнула в морду его лошади клетку из ивовых прутьев, где шипел гусь. Улица за Воротами была погружена в темноту, лишь кое-где слабо мерцали отсветы факелов; большинство лавок были наглухо закрыты. Лишь в одной еще горел светильник на прилавке, очерчивая световой линией стоявшую перед ним фигуру толстяка. Я придержал лошадь и стал ждать Феникса. Из-за Ворот донесся скрежет копыт по булыжной мостовой. Вскрикнула женщина. Сгустившиеся потемки словно все кругом придавили. В огромном Городе кипела жизнь, но в ней было что-то затаенное и враждебное. Ничего похожего на приветливое сияние, застать которое я торопился весь день. То были полные опасностей заросли, где на каждом шагу меня подстерегали топь или пропасть, логово зверя или засада. Человек, загородивший светильник, прислонился к прилавку и наблюдал за мной. В доме напротив, в окне первого этажа сквозь прореху в занавеске пробивалась полоска света.
Кто-то причитал, кто-то распевал песни. Я сидел, напряженно выпрямившись в седле, прислушиваясь к глухому, как бы подземному гулу ночного города. Проехавший вперед Феникс возвратился.
— Тут поблизости таверна.
— Вот и отлично, — ответил я, довольный, что не надо искать и решать самому. Мы свернули в боковую улочку, поуже и потемнее. По проезжей дороге со скрипом и лязгом двинулась головная крытая повозка, за ней потянулись другие, возничий запел «Как лысый муж вернулся с виллы». В нише над дверью тускло светил фонарь из рога, но мне так и не удалось разобрать надпись на висевшей под ним забрызганной грязью вывеске.
Феникс спрыгнул с коня и постучал. Напротив кто-то плотнее прикрыл ставни. Чуть подальше кто-то выплеснул из окна на улицу содержимое ночного горшка. Стук повозок по мостовой теперь сливался в непрерывный грохот. Залаяла собака. Дверь таверны приотворилась, и оттуда высунулась голова мужчины со всклокоченной бородой, он сердито спросил, что нам нужно.
— Заезжай. — Хозяин вытер рукавом нос. — Только не говори потом, что было слишком темно и ты не мог прочесть цен. Вот они — все выставлены на стене. Я не такой, как иные, — пробормочут себе под нос цену, а наутро сдерут вдвойне. Конюшня вон там, направо.
Я соскочил на землю и стоял, держась рукой за потник, — у меня онемели ноги и кружилась голова.
— Вещи прибудут завтра. Я приехал позднее, чем рассчитывал.
— Не ты первый, не ты последний, — неожиданно развеселившись, пробасил хозяин, и я подосадовал, что пустился в объяснения. — Каких только я не навидался! И таких и сяких. — Он сдавленно хихикнул. — Ежели хочешь содержать таверну, то научись разбираться в людях. А я про них чего не знаю, так того и знать не стоит. — Он отступил в сторону. — Проходи. Помещение не велико, зато чистое. Не то что в иных здешних тавернах, где берут приплату за клопов. Будешь доволен «Пигмеем и слоном».
Он втолкнул меня в комнату, еле освещенную желтым огоньком коптящего светильника, в углу приткнулись трое пьянчуг, что-то сонно бормотавших, а на табурете, выпрямившись, сидела пышная девица, подбирая распустившиеся волосы. Теперь я мог разглядеть круглое измятое лицо хозяина, от одного уха у него мало что осталось, и в прищуренных, мигающих глазках прыгали желтые блики. Возле двери спал загулявший здоровяк, широко раскрыв рот, прислонившись к стене и крепко сжимая в руке пустой кошелек. На стене над ним был нарисован хозяин, подающий вино трем игрокам в кости, и написано: «Честная игра — вот это мне по нутру!» Тут хозяин обратился ко мне:
— Для начала выпьем, а? — Он провел копчиком языка по тонким губам, точно слизывая с них остатки рыбного соуса. — Не какой-нибудь местной дряни! Я вижу, с кем имею делю, ты из тех, кто знает, что ему по душе, и готов платить, когда его не обманывают. Кто-нибудь тебе нахваливал мою таверну? Нет. Жаль. Я люблю, чтобы постояльцы уезжали от меня довольными. Надуешь-то человека только одни раз, а честным путем можно наживаться столько раз, сколько котится кошка. «Ватикан» все же получше уксуса. — Он указал приплюснутым пальцем на пьяниц. — А стоит дешево. Нищие же бывают разборчивы. Лишь бы не блевали на мой чистый пол. Эй, Гедона, принеси-ка самого лучшего вина, до того кувшина с краевой звездой.
У девушки снова распустились волосы. Двое сидевших в углу оглянулись, третий продолжал что-то бормотать, спящий оглушительно захрапел. Служанка закинула волосы за спину, оглядела меня долгим оценивающим взглядом и пошла, шлепая по полу босыми ногами.
— Кто растрепал тебя на этот раз? — спросил хозяин, подмигнув.
— Никто, — ответила она, не оборачиваясь, и вышла — круглая, сочная, как виноградина, налитая спелым соком и солнечным светом.
— Этот твой никто — превредный озорник. — Он снова подмигнул. — Славная девушка, как видишь, я люблю ее подразнить. Мы тут все живем дружно, да и как иначе? Так легче, да и работа лучше спорится. Вот уже три года, как она у меня. Уж такая беспечная девушка. Ленива, как кошка, а свое дело делает. — Он повернулся и людям в углу. — Аммат, ты снова завел свои побасенки. От них людей в сон клонит. — Хозяин подошел к прилавку, где на треножнике кипятилась вода, и заглянул в сосуд, Аммат, ковыряя в носу, равнодушно смотрел на нею.
Гедона принесла вино и остановилась, упершись руками в широкие бедра. Снова всего меня оглядела, подавляя зевоту.
— Откуда?
На ее жарких щеках обозначились ямочки, а глаза были совсем янтарные.
Я улыбнулся и почувствовал, как горячо разлилось у меня по жилам красное вино. Хозяин некоторое время выжидал, что я отвечу, лотом сказал;
— Не задавай вопросов, не услышишь лжи.
— Просто спросила. Он мне кого-то напомнил. Да нет, обозналась.
И, отвернувшись, она вновь принялась закручивать в узел волосы.
Человек, храпевший у двери, упал ничком, и она помогла ему подняться. Я опорожнил кружку и швырнул хозяину, который подхватил ее и сделал вид, что ее тяжесть пригнула его чуть не до полу. Затем он новея меня наверх по боковой лестнице. Шесть нижних ступеней были каменные, а дальше — деревянные. На втором этаже хозяин прошел по коридору до двери и распахнул ее широким жестом. Дверь застряла, и ему пришлось ее приподнять — одна из петель была сорвана.
— Совсем забыл про это, — проговорил он деловым тоном. — Завтра непременно починю.
В руке у него был светильник, и в его тусклом свете я разглядел кровать с соломенным тюфяком и табурет.
— Оставь мне светильник.
— За это добавочная плата. Я предпочитаю не оставлять огня своим постояльцам. Разве нельзя раздеться в темноте? Впрочем, ты, я вижу, трезвый и разумный, уж ладно, пускай остается. — Он почесал всклокоченную бороду. — А теперь заплати мне за все вперед. Ведь так просто выскользнуть отсюда чуть свет, хотя бы у конюшни и сидела на цепи собака. Понятно, я ни на что не намекаю. Но встречается этакий забывчивый народ, да и у всякого заведения свои правила. — Он стал подсчитывать на пальцах. Я достал деньги аз кошелька на поясе. — Ежели тебе понадобится еда, либо вино, не то захочешь женщину, — добавил он, ухмыльнувшись на прощание, — дай знать либо сойди вниз. В любой час, только после полуночи двойная плата.
Он продолжал стоять, словно актер, который позабыл свои прощальные остроты и все ожидает, что его проводят взрывом аплодисментов. Я кивнул, и он наконец ушел, тихонько посмеиваясь. Я проверил окно. Ставни плохо затворялись. Я распахнул их и выглянул наружу. Передо мной чернела каменная стена и полоса тусклого неба. Неподалеку в переулке плакал ребенок. С проезжей дороги доносился непрерывный шум повозок и голоса, то громкие, то затихающие, скрежет колес, звон цепей, звяканье сбруи и надсадное мычание вола., Возничие кричали, щелкали бичи, когда, повозка застревала в колеях дороги, пронзительно ржали кони. Возвращавшиеся домой гуляки нескладно тянули какие-то песни, взвизгнула и засмеялась женщина. Понемногу этот смутный непрерывный шум слился с потемками и стал как бы самой беспредельностью. Мне представлялось, что я парю над неведомым простором Рима, что я уже не заперт в темной и убогой дыре, а охватываю Город во всей его полноте, все его ночное бытие. Теперь я уже не жалел, что приехал слишком поздно и не сбылась моя надежда разом увидеть все его семь холмов, увенчанных храмами и дворцами, его людные улицы, залитые могучим светом ветреного солнечного дня. Мне нравилась таинственная неизмеримость примолкшей разнузданной ночи с ее суровым обещанием иной жизни, опасной и непредвиденной, прозябающей под строгим покровом дня. Я закрыл глаза, и мне почудилось, будто взошла луна. Услыхав дробный шум шагов, я очнулся, и у меня закружилась голова, как в тот момент, когда я спрыгнул с лошади. Вернувшийся из конюшни Феникс поправил ножом фитиль в светильнике, фитиль слегка разгорелся, и на выщербленной оштукатуренной стене обозначилась горбатая тень раба.
Я снова повернулся к окну. Откуда-то потянуло холодом, свежий воздух овеял мне лицо. Пришел конец безветрию, царившему весь день. Передо мной закружился не то клочок папируса, не то сухой лист. Описывая спирали, на мгновение он неподвижно повис, потом его унесло в косматые потемки. Листок, улетевший в неведомый простор.
— Я выйду прогуляться. Оставайся и стереги вещи.
Феникс присел на корточки, и в его темно-карих глазах блеснул испуг, когда он обтирал кургузыми пальцами лезвие ножа. Я потрепал его жесткие волосы и вышел из комнаты. На лестнице я прошел мимо человека, от которого воняло ворванью. Хозяин обслуживал четырех новых посетителей. Я велел принести мне в комнату хлеба, сыра и маслин и заплатил за все.
Увидев, что я выхожу, хозяин прищурился.
— В такой поздний час? Как же ты найдешь дорогу? Ведь ты сказал, что ты здесь чужой?
Ничего такого я ему не говорил и по его взгляду понял, что он меня в чем-то заподозрил. Очевидно, решил, что я должен с кем-то встретиться. Он хотел было взять меня под руку и подвести к двери, но я увернулся, сказав, что просто хочу немного размять ноги, и вышел наружу.
На темной улице меня внезапно охватило чувство свободы. Радовало движение в безгранично раздвигающемся пространстве. Как будто я уже несколько месяцев прожил взаперти в этой комнатушке. И все же темнота ограничивала меня, заключая все мои чувства в пределах небольшого глухого круга. Я решил запомнить угол, за который надо было сворачивать к таверне. В чужом городе все выглядит необычно даже при дневном свете, когда видишь и другую сторону улицы. По крайней мере Ворота были сейчас ярко освещены сосновыми факелами, укрепленными на столбах и горевшими дымным, потрескивающим красно-зеленым пламенем. Огни виднелись кое-где в незатворенных окнах, откуда выглядывали женщины с пышными блестящими волосами, на плечах у них маслянисто блестели золотые пряжки. По дороге по-прежнему тянулись повозки почти непрерывной вереницей; временами встречалась коляска, на узкой вымощенной дорожке теснились пешеходы. Я сразу же угодил в толчею. Мне нравилось здесь все — даже то, что меня прижимали к стене или чуть не сталкивали в сточную канаву. В случайно пробивавшемся луче или потоке света я мог разглядеть прохожих, их усталые, замкнутые или оживленные, обращенные к друзьям лица, их глава, вспыхивающие быстрым, как ртуть, огоньком. Грубые лица в шрамах, молодые смуглые лица, хитрые лица в глубоких морщинах, словно изрезанные, истерзанные крючками, с которых они жадно хватали наживку, лица, вырубленные топором из узловатой древесины, лица, изваянные из старого камня неспешными руками горного потока, а порой — лицо женщины, похожей на пантеру Вакха, блистающее из темных дебрей волос. Все это уже не раз встречалось мне раньше, да и таверна ничем не отличалась от других. Но сейчас, в бездонных потемках Города, все выглядело совсем по-иному — жутким и манящим. Еще никогда я не чувствовал себя слитым с огромной ночью, полной людей. Даже в Массилии я воспринимал ночь как божественное море, поглощающее все человеческие дела. А здесь я вступил в ночь, наполненную людьми. Казалось, непроглядная ночь впитала в себя их мысли, всосала их пористые тела.
Некоторое время, не опасаясь заблудиться, я шел по главной улице, по которой двигались повозки. Я был уверен, что знаю, в какой стороне Тибр. Мне хотелось хотя бы найти реку и поглядеть на ее мрачные волны, осмотреться в населенной людьми темноте, поглотившей все границы. Я хорошо сделал, что отправился на прогулку. Иначе я задыхался бы всю ночь в комнатушке. Я наткнулся на любовников, которые лежали, обнявшись, на пороге чьих-то дверей; они примолкли, пригревшись на своем тряпичном ложе. Снова залаяла собака. Человек с ручной тележкой проехал мне по ноге колесом, и пошел дальше, что-то непрерывно бормоча. Собака проскочила у меня между ног. Затем, после временного затишья, прогромыхала крытая повозка, нагруженная мешками и корзинами с овощами. Мне приходили на память фразы из «Энеиды», строки из первой книги «Фарсалии», прочитанной мною перед самым отъездом из Кордубы.
Я остановился, прислушиваясь к ожесточенной перебранке двух мужчин, но так и не понял, из-за чего они поссорились. Женщина дернула меня за руку и побежала дальше. Снова кто-то запел «Как лысый муж вернулся с виллы». В затянутой сеткой повозке блеяли козы. С балкона свесилась женщина с распущенными волосами: ее рвало. Башмачник стучал молотком и кашлял. Рим, Матерь народов. Я наступил на черенки горшка из-под рыбного соуса, стал шарить рукой, чтобы узнать, на что я наткнулся, и поранил себе палец. Мимо меня быстро прошел человек, и его силуэт мелькнул на фоне залитого бледным сиянием неба. В дверных проемах прятались бедняки, надеясь, что их не заметят и им удается там соснуть, когда стихнет движение. В тупике, примыкавшем к боковой улочке, шла шумная азартная игра. Чья-то косматая рожа придвинулась ко мне вплотную, и я невольно отшатнулся, услыхав хриплый окрик: «Скоро ты там?» Мне стало не по себе, и я захотел вернуться, но тут потянуло запахом реки. Или это от моей окровавленной руки пахло рыбой? Двое гуляк, пошатываясь, вышли из двери, и она тотчас за ними захлопнулась. Они продолжали орать и драться на улице, когда послышался грохот приближающейся к ним коляски. Я услыхал хруст и поспешил прочь.
Шум усиливался. Я нырнул в переулок. Мне не хотелось быть замешанным в уличный, скандал, в первый же вечер попасть в руки блюстителей порядка. Разве я мог заблудиться, имея такую веху, как Ворота? Но вот в потемках я поскользнулся на нечистотах и грузно привалился к стене. Неожиданно я обхватил обеими руками какой-то предмет, находящийся в нише. Я повис в темноте, чувствуя, что подо мной дыра, бездонная пропасть, в которую проваливались мои беспомощно кружившиеся мысли. Обретя почву под ногами, я начал осторожно ощупывать предмет, за который держался, — изваяние женщины. К ее груди припал младенец. Рогатая голова. Я догадался: Изида. Отступив с благоговением в сторону, я стал вглядываться во мрак, и мне показалось, что я различаю контуры богини-кормилицы, как бы излучавшей слабое золотистое сияние. Поклонившись уличному алтарю, воздвигнутому каким-нибудь местным почитателем богини, я потихоньку удалился. Я свернул направо, в узкий проход, не сомневаясь, что он приведет меня обратно на главную улицу, но через несколько мгновений передо мной открылась река, — цель моих стремлений. Продвигаясь ощупью, я дошел до места, где над низкой кирпичной стеной склонилось высокое дерево, и остановился под ним.
Мимо меня непрестанно текли, тускло отсвечивая, темные воды, белели клочья пены, порой вспыхивающие беглыми искрами. Над головой редели облака, появлялось все больше мигающих звезд. Предзнаменование, желанное предзнаменование! Глядя сверху из гудящей темноты на широкий ток реки, я словно присутствовал при самом зарождении Рима из враждующих и согласных начал. Шорохи, ропот, смутное громыхание растворялись в тишине, в движёнии, обтекающем сверху и снизу надежную и яркую сумятицу дня. Начало всех вещей. Минутная пауза в сновидении, когда возбуждение столь велико, что еще не стряхнувший дрему человек не знает — испытывает ли он страх или желание, ему ясно лишь одно, что он на пороге всецелой метаморфозы, сбрасывания привычных масок. Продажность и предательство, безмятежность и согласие. А воды текут и текут, безжалостные и милостивые…
Какие обряды отражают священный характер последней декады января, поры посева?.. Я постарался вспомнить соответствующие строки из «Фастов» Овидия, которые учил в школе:
Когда я подъезжая к Воротам, вокруг меня уже сгущались хмурые сумерки. Мгла поднималась над землей, все застилая кругом, и навстречу ей спускалась густая серая паутина с тяжело нависшего неба. Шея моей гнедой лошади потемнела от пота, и я пожалел, что гнал ее без передышки после того, как сломалась коляска. Как будто, если бы я не застал последний отсвет дня над Городом, это означало бы неудачу, дурное предзнаменование, какой-то нелепый, опрометчиво допущенный просчет. По небу еще растекалось слабое, призрачное сияние, и от этого все на земле казалось сумбурным и предательски ненадежным. Неразбериха усиливалась у самых Ворот, где в потемках скупо разливал свет смоляной шипящий факел. Наступил час пропуска в Город грузовых повозок. Несколько заждавшихся возничих, громко ругаясь и щелкая бичами, устремились вперед, чтобы проехать первыми. Две повозки сцепились колесами так, что затрещали все деревянные сочленения. Их ринулся объезжать хозяин колесней, на которых были кое-как увязаны бревна; одно из них, скользнув, покатилось по дороге, вызывая злобные крики толпы и проклятия застрявших позади возничих.
— Перевяжи как следует бревна либо поворачивай обратно, — потребовал привратник.
— Разве тут повернешь? — ответил возничий. — Бревна были увязаны надежно. Верно, какой-нибудь прохвост вздумал поживиться!
Между тем к воротам подъезжали все новые возы и крытые повозки.
— Знаю твою мерзкую физиономию, — сказал привратник. — Ты работаешь у Скавра. Не думай, что это тебе пройдет даром.
Подбежал стражник с факелом. Колеблющееся пламя рывком выхватило из потемок разыгравшуюся сцену. Запрыгали тени, потом они сгустились и стали расползаться по земле, готовые поглотить все вокруг. В неверном свете факела лица, осклабленные, испуганные, напряженные, превратились в багровые и зеленые маски с искаженными чертами, со скошенными носами, в разинутых ртах торчали клыки, шевелились длинные уши, в выпученных глазах дико вращались блестящие зрачки. Над толпой возвышался стоявший на бревнах возничий в разорванной тунике, со спутанными волосами, которые падали на глаза, зиявшие, как черные провалы. Я направил свою лошадь между возом и стеной, подальше от привратника. Зеваки, с интересом следившие за перебранкой, теснились у колесней. Их нимало не тревожило, что посунувшиеся набок бревна могли упасть и раздавить их. Я натянул поводья, лошадь вскинула голову, женщина, испугавшись ее оскаленной морды, юркнула под самый воз. Мужчина в кожаном фартуке схватил было меня за колено, но я взмахнул плетью. Женщина с испугу уронила корзину с зеленью.
— Что там творится? — крикнул привратник. Мне удалось проскользнуть мимо колесней.
Мой раб Феникс следовал за мной, хотя в последнюю минуту ему преградила дорогу женщина, которая ткнула в морду его лошади клетку из ивовых прутьев, где шипел гусь. Улица за Воротами была погружена в темноту, лишь кое-где слабо мерцали отсветы факелов; большинство лавок были наглухо закрыты. Лишь в одной еще горел светильник на прилавке, очерчивая световой линией стоявшую перед ним фигуру толстяка. Я придержал лошадь и стал ждать Феникса. Из-за Ворот донесся скрежет копыт по булыжной мостовой. Вскрикнула женщина. Сгустившиеся потемки словно все кругом придавили. В огромном Городе кипела жизнь, но в ней было что-то затаенное и враждебное. Ничего похожего на приветливое сияние, застать которое я торопился весь день. То были полные опасностей заросли, где на каждом шагу меня подстерегали топь или пропасть, логово зверя или засада. Человек, загородивший светильник, прислонился к прилавку и наблюдал за мной. В доме напротив, в окне первого этажа сквозь прореху в занавеске пробивалась полоска света.
Кто-то причитал, кто-то распевал песни. Я сидел, напряженно выпрямившись в седле, прислушиваясь к глухому, как бы подземному гулу ночного города. Проехавший вперед Феникс возвратился.
— Тут поблизости таверна.
— Вот и отлично, — ответил я, довольный, что не надо искать и решать самому. Мы свернули в боковую улочку, поуже и потемнее. По проезжей дороге со скрипом и лязгом двинулась головная крытая повозка, за ней потянулись другие, возничий запел «Как лысый муж вернулся с виллы». В нише над дверью тускло светил фонарь из рога, но мне так и не удалось разобрать надпись на висевшей под ним забрызганной грязью вывеске.
Феникс спрыгнул с коня и постучал. Напротив кто-то плотнее прикрыл ставни. Чуть подальше кто-то выплеснул из окна на улицу содержимое ночного горшка. Стук повозок по мостовой теперь сливался в непрерывный грохот. Залаяла собака. Дверь таверны приотворилась, и оттуда высунулась голова мужчины со всклокоченной бородой, он сердито спросил, что нам нужно.
— Заезжай. — Хозяин вытер рукавом нос. — Только не говори потом, что было слишком темно и ты не мог прочесть цен. Вот они — все выставлены на стене. Я не такой, как иные, — пробормочут себе под нос цену, а наутро сдерут вдвойне. Конюшня вон там, направо.
Я соскочил на землю и стоял, держась рукой за потник, — у меня онемели ноги и кружилась голова.
— Вещи прибудут завтра. Я приехал позднее, чем рассчитывал.
— Не ты первый, не ты последний, — неожиданно развеселившись, пробасил хозяин, и я подосадовал, что пустился в объяснения. — Каких только я не навидался! И таких и сяких. — Он сдавленно хихикнул. — Ежели хочешь содержать таверну, то научись разбираться в людях. А я про них чего не знаю, так того и знать не стоит. — Он отступил в сторону. — Проходи. Помещение не велико, зато чистое. Не то что в иных здешних тавернах, где берут приплату за клопов. Будешь доволен «Пигмеем и слоном».
Он втолкнул меня в комнату, еле освещенную желтым огоньком коптящего светильника, в углу приткнулись трое пьянчуг, что-то сонно бормотавших, а на табурете, выпрямившись, сидела пышная девица, подбирая распустившиеся волосы. Теперь я мог разглядеть круглое измятое лицо хозяина, от одного уха у него мало что осталось, и в прищуренных, мигающих глазках прыгали желтые блики. Возле двери спал загулявший здоровяк, широко раскрыв рот, прислонившись к стене и крепко сжимая в руке пустой кошелек. На стене над ним был нарисован хозяин, подающий вино трем игрокам в кости, и написано: «Честная игра — вот это мне по нутру!» Тут хозяин обратился ко мне:
— Для начала выпьем, а? — Он провел копчиком языка по тонким губам, точно слизывая с них остатки рыбного соуса. — Не какой-нибудь местной дряни! Я вижу, с кем имею делю, ты из тех, кто знает, что ему по душе, и готов платить, когда его не обманывают. Кто-нибудь тебе нахваливал мою таверну? Нет. Жаль. Я люблю, чтобы постояльцы уезжали от меня довольными. Надуешь-то человека только одни раз, а честным путем можно наживаться столько раз, сколько котится кошка. «Ватикан» все же получше уксуса. — Он указал приплюснутым пальцем на пьяниц. — А стоит дешево. Нищие же бывают разборчивы. Лишь бы не блевали на мой чистый пол. Эй, Гедона, принеси-ка самого лучшего вина, до того кувшина с краевой звездой.
У девушки снова распустились волосы. Двое сидевших в углу оглянулись, третий продолжал что-то бормотать, спящий оглушительно захрапел. Служанка закинула волосы за спину, оглядела меня долгим оценивающим взглядом и пошла, шлепая по полу босыми ногами.
— Кто растрепал тебя на этот раз? — спросил хозяин, подмигнув.
— Никто, — ответила она, не оборачиваясь, и вышла — круглая, сочная, как виноградина, налитая спелым соком и солнечным светом.
— Этот твой никто — превредный озорник. — Он снова подмигнул. — Славная девушка, как видишь, я люблю ее подразнить. Мы тут все живем дружно, да и как иначе? Так легче, да и работа лучше спорится. Вот уже три года, как она у меня. Уж такая беспечная девушка. Ленива, как кошка, а свое дело делает. — Он повернулся и людям в углу. — Аммат, ты снова завел свои побасенки. От них людей в сон клонит. — Хозяин подошел к прилавку, где на треножнике кипятилась вода, и заглянул в сосуд, Аммат, ковыряя в носу, равнодушно смотрел на нею.
Гедона принесла вино и остановилась, упершись руками в широкие бедра. Снова всего меня оглядела, подавляя зевоту.
— Откуда?
На ее жарких щеках обозначились ямочки, а глаза были совсем янтарные.
Я улыбнулся и почувствовал, как горячо разлилось у меня по жилам красное вино. Хозяин некоторое время выжидал, что я отвечу, лотом сказал;
— Не задавай вопросов, не услышишь лжи.
— Просто спросила. Он мне кого-то напомнил. Да нет, обозналась.
И, отвернувшись, она вновь принялась закручивать в узел волосы.
Человек, храпевший у двери, упал ничком, и она помогла ему подняться. Я опорожнил кружку и швырнул хозяину, который подхватил ее и сделал вид, что ее тяжесть пригнула его чуть не до полу. Затем он новея меня наверх по боковой лестнице. Шесть нижних ступеней были каменные, а дальше — деревянные. На втором этаже хозяин прошел по коридору до двери и распахнул ее широким жестом. Дверь застряла, и ему пришлось ее приподнять — одна из петель была сорвана.
— Совсем забыл про это, — проговорил он деловым тоном. — Завтра непременно починю.
В руке у него был светильник, и в его тусклом свете я разглядел кровать с соломенным тюфяком и табурет.
— Оставь мне светильник.
— За это добавочная плата. Я предпочитаю не оставлять огня своим постояльцам. Разве нельзя раздеться в темноте? Впрочем, ты, я вижу, трезвый и разумный, уж ладно, пускай остается. — Он почесал всклокоченную бороду. — А теперь заплати мне за все вперед. Ведь так просто выскользнуть отсюда чуть свет, хотя бы у конюшни и сидела на цепи собака. Понятно, я ни на что не намекаю. Но встречается этакий забывчивый народ, да и у всякого заведения свои правила. — Он стал подсчитывать на пальцах. Я достал деньги аз кошелька на поясе. — Ежели тебе понадобится еда, либо вино, не то захочешь женщину, — добавил он, ухмыльнувшись на прощание, — дай знать либо сойди вниз. В любой час, только после полуночи двойная плата.
Он продолжал стоять, словно актер, который позабыл свои прощальные остроты и все ожидает, что его проводят взрывом аплодисментов. Я кивнул, и он наконец ушел, тихонько посмеиваясь. Я проверил окно. Ставни плохо затворялись. Я распахнул их и выглянул наружу. Передо мной чернела каменная стена и полоса тусклого неба. Неподалеку в переулке плакал ребенок. С проезжей дороги доносился непрерывный шум повозок и голоса, то громкие, то затихающие, скрежет колес, звон цепей, звяканье сбруи и надсадное мычание вола., Возничие кричали, щелкали бичи, когда, повозка застревала в колеях дороги, пронзительно ржали кони. Возвращавшиеся домой гуляки нескладно тянули какие-то песни, взвизгнула и засмеялась женщина. Понемногу этот смутный непрерывный шум слился с потемками и стал как бы самой беспредельностью. Мне представлялось, что я парю над неведомым простором Рима, что я уже не заперт в темной и убогой дыре, а охватываю Город во всей его полноте, все его ночное бытие. Теперь я уже не жалел, что приехал слишком поздно и не сбылась моя надежда разом увидеть все его семь холмов, увенчанных храмами и дворцами, его людные улицы, залитые могучим светом ветреного солнечного дня. Мне нравилась таинственная неизмеримость примолкшей разнузданной ночи с ее суровым обещанием иной жизни, опасной и непредвиденной, прозябающей под строгим покровом дня. Я закрыл глаза, и мне почудилось, будто взошла луна. Услыхав дробный шум шагов, я очнулся, и у меня закружилась голова, как в тот момент, когда я спрыгнул с лошади. Вернувшийся из конюшни Феникс поправил ножом фитиль в светильнике, фитиль слегка разгорелся, и на выщербленной оштукатуренной стене обозначилась горбатая тень раба.
Я снова повернулся к окну. Откуда-то потянуло холодом, свежий воздух овеял мне лицо. Пришел конец безветрию, царившему весь день. Передо мной закружился не то клочок папируса, не то сухой лист. Описывая спирали, на мгновение он неподвижно повис, потом его унесло в косматые потемки. Листок, улетевший в неведомый простор.
— Я выйду прогуляться. Оставайся и стереги вещи.
Феникс присел на корточки, и в его темно-карих глазах блеснул испуг, когда он обтирал кургузыми пальцами лезвие ножа. Я потрепал его жесткие волосы и вышел из комнаты. На лестнице я прошел мимо человека, от которого воняло ворванью. Хозяин обслуживал четырех новых посетителей. Я велел принести мне в комнату хлеба, сыра и маслин и заплатил за все.
Увидев, что я выхожу, хозяин прищурился.
— В такой поздний час? Как же ты найдешь дорогу? Ведь ты сказал, что ты здесь чужой?
Ничего такого я ему не говорил и по его взгляду понял, что он меня в чем-то заподозрил. Очевидно, решил, что я должен с кем-то встретиться. Он хотел было взять меня под руку и подвести к двери, но я увернулся, сказав, что просто хочу немного размять ноги, и вышел наружу.
На темной улице меня внезапно охватило чувство свободы. Радовало движение в безгранично раздвигающемся пространстве. Как будто я уже несколько месяцев прожил взаперти в этой комнатушке. И все же темнота ограничивала меня, заключая все мои чувства в пределах небольшого глухого круга. Я решил запомнить угол, за который надо было сворачивать к таверне. В чужом городе все выглядит необычно даже при дневном свете, когда видишь и другую сторону улицы. По крайней мере Ворота были сейчас ярко освещены сосновыми факелами, укрепленными на столбах и горевшими дымным, потрескивающим красно-зеленым пламенем. Огни виднелись кое-где в незатворенных окнах, откуда выглядывали женщины с пышными блестящими волосами, на плечах у них маслянисто блестели золотые пряжки. По дороге по-прежнему тянулись повозки почти непрерывной вереницей; временами встречалась коляска, на узкой вымощенной дорожке теснились пешеходы. Я сразу же угодил в толчею. Мне нравилось здесь все — даже то, что меня прижимали к стене или чуть не сталкивали в сточную канаву. В случайно пробивавшемся луче или потоке света я мог разглядеть прохожих, их усталые, замкнутые или оживленные, обращенные к друзьям лица, их глава, вспыхивающие быстрым, как ртуть, огоньком. Грубые лица в шрамах, молодые смуглые лица, хитрые лица в глубоких морщинах, словно изрезанные, истерзанные крючками, с которых они жадно хватали наживку, лица, вырубленные топором из узловатой древесины, лица, изваянные из старого камня неспешными руками горного потока, а порой — лицо женщины, похожей на пантеру Вакха, блистающее из темных дебрей волос. Все это уже не раз встречалось мне раньше, да и таверна ничем не отличалась от других. Но сейчас, в бездонных потемках Города, все выглядело совсем по-иному — жутким и манящим. Еще никогда я не чувствовал себя слитым с огромной ночью, полной людей. Даже в Массилии я воспринимал ночь как божественное море, поглощающее все человеческие дела. А здесь я вступил в ночь, наполненную людьми. Казалось, непроглядная ночь впитала в себя их мысли, всосала их пористые тела.
Некоторое время, не опасаясь заблудиться, я шел по главной улице, по которой двигались повозки. Я был уверен, что знаю, в какой стороне Тибр. Мне хотелось хотя бы найти реку и поглядеть на ее мрачные волны, осмотреться в населенной людьми темноте, поглотившей все границы. Я хорошо сделал, что отправился на прогулку. Иначе я задыхался бы всю ночь в комнатушке. Я наткнулся на любовников, которые лежали, обнявшись, на пороге чьих-то дверей; они примолкли, пригревшись на своем тряпичном ложе. Снова залаяла собака. Человек с ручной тележкой проехал мне по ноге колесом, и пошел дальше, что-то непрерывно бормоча. Собака проскочила у меня между ног. Затем, после временного затишья, прогромыхала крытая повозка, нагруженная мешками и корзинами с овощами. Мне приходили на память фразы из «Энеиды», строки из первой книги «Фарсалии», прочитанной мною перед самым отъездом из Кордубы.
Я остановился, прислушиваясь к ожесточенной перебранке двух мужчин, но так и не понял, из-за чего они поссорились. Женщина дернула меня за руку и побежала дальше. Снова кто-то запел «Как лысый муж вернулся с виллы». В затянутой сеткой повозке блеяли козы. С балкона свесилась женщина с распущенными волосами: ее рвало. Башмачник стучал молотком и кашлял. Рим, Матерь народов. Я наступил на черенки горшка из-под рыбного соуса, стал шарить рукой, чтобы узнать, на что я наткнулся, и поранил себе палец. Мимо меня быстро прошел человек, и его силуэт мелькнул на фоне залитого бледным сиянием неба. В дверных проемах прятались бедняки, надеясь, что их не заметят и им удается там соснуть, когда стихнет движение. В тупике, примыкавшем к боковой улочке, шла шумная азартная игра. Чья-то косматая рожа придвинулась ко мне вплотную, и я невольно отшатнулся, услыхав хриплый окрик: «Скоро ты там?» Мне стало не по себе, и я захотел вернуться, но тут потянуло запахом реки. Или это от моей окровавленной руки пахло рыбой? Двое гуляк, пошатываясь, вышли из двери, и она тотчас за ними захлопнулась. Они продолжали орать и драться на улице, когда послышался грохот приближающейся к ним коляски. Я услыхал хруст и поспешил прочь.
Шум усиливался. Я нырнул в переулок. Мне не хотелось быть замешанным в уличный, скандал, в первый же вечер попасть в руки блюстителей порядка. Разве я мог заблудиться, имея такую веху, как Ворота? Но вот в потемках я поскользнулся на нечистотах и грузно привалился к стене. Неожиданно я обхватил обеими руками какой-то предмет, находящийся в нише. Я повис в темноте, чувствуя, что подо мной дыра, бездонная пропасть, в которую проваливались мои беспомощно кружившиеся мысли. Обретя почву под ногами, я начал осторожно ощупывать предмет, за который держался, — изваяние женщины. К ее груди припал младенец. Рогатая голова. Я догадался: Изида. Отступив с благоговением в сторону, я стал вглядываться во мрак, и мне показалось, что я различаю контуры богини-кормилицы, как бы излучавшей слабое золотистое сияние. Поклонившись уличному алтарю, воздвигнутому каким-нибудь местным почитателем богини, я потихоньку удалился. Я свернул направо, в узкий проход, не сомневаясь, что он приведет меня обратно на главную улицу, но через несколько мгновений передо мной открылась река, — цель моих стремлений. Продвигаясь ощупью, я дошел до места, где над низкой кирпичной стеной склонилось высокое дерево, и остановился под ним.
Мимо меня непрестанно текли, тускло отсвечивая, темные воды, белели клочья пены, порой вспыхивающие беглыми искрами. Над головой редели облака, появлялось все больше мигающих звезд. Предзнаменование, желанное предзнаменование! Глядя сверху из гудящей темноты на широкий ток реки, я словно присутствовал при самом зарождении Рима из враждующих и согласных начал. Шорохи, ропот, смутное громыхание растворялись в тишине, в движёнии, обтекающем сверху и снизу надежную и яркую сумятицу дня. Начало всех вещей. Минутная пауза в сновидении, когда возбуждение столь велико, что еще не стряхнувший дрему человек не знает — испытывает ли он страх или желание, ему ясно лишь одно, что он на пороге всецелой метаморфозы, сбрасывания привычных масок. Продажность и предательство, безмятежность и согласие. А воды текут и текут, безжалостные и милостивые…
Какие обряды отражают священный характер последней декады января, поры посева?.. Я постарался вспомнить соответствующие строки из «Фастов» Овидия, которые учил в школе:
Я возношу за вас свои мольбы, земледельцы, —
Так молитесь и вы! Ведь люди долгие годы
Лютые войны вели, на мечи променяв свои плуги.
Конь боевой сменил вола, дротик — мотыгу.
Ныне ж война лежит в цепях у вас под ногами.
Вновь запрягайте вола, семена бросайте в борозды
Вспаханной вами земли. Церера вскормлена миром,
Подхваченный ветерком, с дерева сорвался увядший лист и, пролетая, коснулся моей щеки. И вдруг воды захлестнули мое сознание, волны подхватили меня и закружили в водоворотах, похищая волю и разрушая ее. Сонм неясных призраков пронесся передо мной, словно отраженные тенями тени, а меж тем великий поток, весь в мелких воронках, мощно развертывался по кривой. Мне хотелось поддаться течению, как лист, сорванный с дерева, и погрузиться в неведомые воды.
Пораненный палец болел. Как мог Город, чьи стены воздвигнуты на крови убитого брата, стать мирной землей Цереры, в которую бросают семена? Однако Мир возвещал о его благой мощи. Эту кровь он, несомненно, искупил. Я стряхнул с себя чары журчащих вод и тут жё заметил свет в решетчатом окне. Выпить глоток и спросить, как Пройти, к Воротам. Наверное, Феникс, растянувшись на полу, сейчас хнычет, считая себя погибшим, обреченным на голодную смерть в чужом беспощадном Городе. Я толкнул дверь и вошел в низкую чадную комнату; на скамьях сидели люди, пили и разговаривали, дремали, мертвецки пьяные или сломленные усталостью. За кирпичным прилавком девушка с блестящими золотисто-рыжими волосами лениво помахивала зеленой веткой в такт мотиву, который наигрывал на флейте взлохмаченный юноша. Он сидел, протянув ноги на табурет и прислонившись к стене. Она монотонно напевала песенку «Девушка из Сиракуз»!
«Колечком на пальце играя,
Ты сердцем играешь моим,
И молвишь: „Вошел в мои двери,
И выйдешь ты скоро из них“.
Любви не купить поцелуем —
Так делай свое без него»
[112].
Я ждал. Наконец она умолкла и обмахнулась веткой. Хозяин — низкорослый человек, лысый, с клоками седых волос над ушами — подошел ко мне и не дал мне даже открыть рта.
— Лучшее, что у нас есть, господин, — сказал он угодливо. — Из наших собственных виноградников близ горы Массик.
Он обратился было к девушке, потом решил сам сходить за вином. Когда он принес флягу, я предложил певице и флейтисту выпить со мной. Оба они уставились на меня. Я тут же пожалел, что пригласил их, — не хотелось нарушать одиночества. Но юноша уже спрыгнул с табурета, изящно выпрямился после прыжка и поблагодарил меня по-гречески. Мне почти не приходилось говорить по-гречески после окончания школы, разве что немного в Массилии. Тем не менее я ответил по-латыни, быть может испытывая особые чувства к Риму, и спросил, не из Сицилии ли он родом. Да, он был оттуда, но в Сиракузах он никогда не слыхал такой песни.
— Кажется, я тоже родилась в Сицилии, — заговорила девушка. — Но ничего не помню. Оно и понятно.
По ее взгляду я догадался, что она влюблена в сицилийца, но он не слишком ею увлечен. Вино оказалось сносным, мы опорожнили флягу, и я попросил вторую.
Флейтист был сыном мелкого судовладельца из Мессаны, вольноотпущенника, который несколько раз в год приплывал в Остию. Девушка была рабыней хозяина таверны и надеялась, что юноша выкупит ее на свободу. Вообще я не склонен был заводить случайные знакомства. У себя на родине я никогда бы не стал угощать вином в таверне такую пару. Но здесь это мне нравилось, интересовало меня, я становился уверенней в себе, вникая в чужую жизнь и выслушивая признания, доступные всякому, кто при деньгах и готов внимать. Под влиянием утомления и вина мои дурные предчувствия прошли, и я ощутил в себе более чем повышенную способность проникать в сознание других и читать их мысли. Мне даже казалось, что я способен влиять на судьбу своих собеседников и направлять ее. Я начал придумывать, как бы мне соединить эти два существа, не прибегая к чрезмерным расходам. Кому, как не этому юнцу Келаду, надлежало выкупить девушку? Я нахваливал их обоих, льстил им, полагая, что этим способствую их взаимному влечению. Попробовал подвигнуть несколько вялого любовника на признание. Стал разрабатывать план похищения девушки — он мог бы увезти ее в Сицилию, совершив плавание без отца, пока тот находился дома.
Длиннолицый гуляка со шрамом поперек лба вдруг уселся между молодыми людьми.
— Я тоже горазд петь!
Обняв девушку, он привлек ее к себе и хотел схватить за подбородок. Она укусила ему руку. Флейтист с брезгливой гримасой нехотя ударил оскорбителя в челюсть. Удар был неуверенный, но человек был пьян и потому упал навзничь, задев прилавок и опрокинув светильник, где пылало пять огней. На другой стороне прилавка что-то мгновенно вспыхнуло. Из задней комнаты прибежал, ругаясь, хозяин. Загоревшаяся занавеска извивалась в пламени, рассыпаясь черным пеплом. Выходная дверь была забита людьми, которые рвались наружу. Келад и девушка стояли у лестницы, держась за руки, и равнодушно наблюдали за происходящим. Язык пламени, вырвавшись из-за прилавка, лизнул голову распростертого на полу человека и опалил ему волосы. Он завопил, и я помог ему подняться. В глубине помещения хозяин орал на рабов, требуя воды. В дверях, пробиваясь наружу, двое мужчин тузили друг друга. Третий налетал на них, стараясь проложить себе путь головой. Огонь подобрался к задней двери, рабы суетливо плескали воду из ведер куда попало. После мягкого сияния светильника разгоревшееся пламя казалось ослепительным, желтые и красные отблески метались по стенам и по полу, где чернели клочки обгорелой Ткани и вились струйки шипящего дыма. Жирное лицо хозяина как будто расплавилось, оно лоснилось от пота, и на нем выделялись темные пятна припухших век. На драчунов в дверях падали удары огненных крыльев, влюбленные были словно изваяны из немеркнущего золота. На какое-то мгновение я ощутил, что в этом узоре ничто не может быть изменено, момент был запечатлен навеки, любовники будут жить, возродившись в колеблющихся золотых пеленах пламени, содержатель таверны истает со всем своим имуществом, крикуны погибнут при непрестанных столкновениях гневных, пересекающихся огненных полос. А мне, наблюдателю, найдется ли мне место в этом узоре обновляющего огня?
Сделав над собой усилие, я указал на лестницу.
— Можно по ней выбраться отсюда?
Завороженная игрой огня девушка не ответила, но Келад кивнул мне и двинулся вперед. Я последовал за ним. Он отпер ставни небольшого окна и пролез в него. Девушка отступила назад, предлагая мне лезть первым. Мы очутились на крыше сарая. Келад нащупал ногами край цистерны, затем спрыгнул во двор. Я проделал то же самое, потом помог спуститься девушке, у нее были влажные ладони. На дворе теснились рабы и соседи, ярко освещенные факелом и отблесками пламени, падавшими из задней двери таверны. Но вот водвор ворвалась ночная стража с ведрами, баграми и топорами. Один из них видел, как я спрыгивал с крыши, и схватил меня. Я бросился назад, но споткнулся об ограду садика. Упал ничком, зарывшись лицом во влажную землю. Стражник поднял меня; в ноздри забился сырой запах, — запах необъятной земной темноты. Как будто я побывал в могиле, во мраке непроглядных небес или вод. Упал, как семя из рук Цереры, в темное влажное чрево земли.
Мне все еще не было ясно, что за люди напали на меня и волокут вверх по ступеням лестницы небольшого каменного здания. Один из них остался караулить меня в прихожей; прислонившись к столбу, я с удивлением разбирал каракули на стене: «Хватит скандалов, я измучился как собака! Пусть это остается другим. Отстаньте! Будь прокляты все пьяницы, кроме меня!»
Посреди помещения виднелся кирпичный бассейн, в стороне — алтарь Гению Века, а рядом — куча просмоленных полотняных ведер. Пол выстлан истертыми черными и белыми плитками. К помещению примыкал вымощенный камнем дворик, где некогда был разбит цветник. Я догадался, что находившееся за двориком здание не что иное, как казармы; на лавках расположились стражники. Они играли в кости среди груды кирпича и мусора. Мой страж отказался со мной разговаривать, но отрывисто бросил, что я в казарме Седьмой Когорты.
Затем меня повели в скудно обставленное боковое помещение со стенами, расписанными геометрическим узором. На табурете сидел центурион и читал какой-то свиток.
— Что там стряслось? — спросил он. Внимательно осмотрел меня острым взглядом, не вставая с места. Старший стражник рассказал, что в «Большом журавле» возник пожар, по-видимому, при потасовке, ничего особенного, огонь потушен, у одного из задержанных рана на голове, а вот этот был замечен, когда выпрыгивал из слухового окна, что и показалось подозрительным. Отбивался — надо полагать, это один из драчунов либо бродяга, который хотел воспользоваться суматохой и что-нибудь стянуть. Нет, при обыске у него ничего не нашли, но он мог в темноте незаметно избавиться от улик.
Центурион отпустил людей, указав, что достаточно одного стражника, чтобы караулить в прихожей арестованного. Потом почесал подбородок и с любопытством оглядел меня.
— Ты слышал… Что скажешь?
Я ответил, что прибыл в Рим поздним вечером, снял комнату возле Ворот и отправился на прогулку. В городе я впервые, зовут меня Луцием Кассием Фирмом, из Кордубы. Он заметил, что сейчас еще не время для мореплавания. Я уже успокоился и мог в свою очередь как следует его рассмотреть. Его лицо, как и обстановка комнаты, было простым, непритязательным, крепким. Окажись черты его чуть потяжелее, он выглядел бы обрюзгшим, но этого не было. Сожми центурион чуть плотнее губы, выражение сделалось бы суровым, теперь же оно было просто твердым. Слегка более напряженные брови придавили бы лицо, но сейчас морщина между ними была неглубокой, и оно оставалось ясным. За твердым взглядом серых глаз таилась улыбка. Что-то забавляло центуриона. Ко мне вернулось самообладание, и я стал рассказывать о себе. У нас были торговые дела в Массилии и Генуе, требовавшие моего присутствия в течение нескольких месяцев, так что я морем приплыл в Массилию еще в конце лета, а сюда добирался по суше.
— Я выполняю поручения отца. Он городской советник в Укубах, но у нас есть дом и в Кордубе.
Он взял с полки табличку и мельком взглянул на нее. Я не знал, действительно ли он искал справку или же это просто игра.
— Надо быть благоразумней, Луций Кассий, — сказал он, вдруг подняв голову. — Уж очень быстро ты доехал от Центуцелл.
На мгновение я растерялся. Я не упоминал, где у коляски сломалась ось.
— Поломка случилась в нескольких стадиях оттуда. А под вечер лошадь моего раба повредила себе ногу.
Центурион встал и оказался ниже ростом, чем я предполагал. Он заложил руки за спину.
— Между прочим, меня зовут Марк Юлий Патерн. Не выпить ли нам прежде, чем я отправлю тебя в твою таверну? Нечего и говорить, что мы ни в чем тебя не обвиняем. Извини моих людей за усердие — оно вполне оправданно при нынешних обстоятельствах. Со времени Великого Пожара они особенно бдительны.
Он хлопнул в ладоши и приказал принести вина. Пока он разливал его, вошел центурион-преторианец, в повседневной форме, с тростью и мечом. Как я потом узнал, — Гай Сульпиций Аспер. Рассказ Патерна о моем приключении не слишком его заинтересовал.
— В Помптинских болотах идут облавы, — бросил он в мою сторону, торопливо и отрывисто, словно думая о другом. Он почесал себе икру тростью. — И в сосновых лесах к югу от Волтурна. Схватят нескольких заморенных воришек. Землевладельцы будут довольны. Поменьше станет пропадать овец и уток. Но при таких облавах в Город всегда пробирается еще больше воров, так что приходится держать особый дозор.
Казалось, он меня в чем-то укорял. Тон педанта, с оттенком насмешки — над собой или над слушателями?
Я ответил, что ни на что не жалуюсь. Аспер спросил, что я намерен делать в Риме. Заниматься торговыми делами?
— В известной мере. Но больше всего я хочу посмотреть Город — это главное. Я здесь впервые. Я собираюсь посетить поэта Марка Аннея Лукана, племянника Луция Аннея Сенеки. — Они улыбнулись, их забавляло, что я, считая их невеждами, называл родню поэта. — Может быть, мне посчастливится встретиться и с дядей, — продолжал я, все более запутываясь.
Аспер кивнул. Мне хотелось дать им понять, что я сам поэт и достаточно известный в Кордубе, где, по моему мнению, к поэзии предъявлялись более высокие требования, чем полагали в римских литературных кругах. Мне не хотелось говорить, что я родственник Аннеев, их кузен в каком-то колене. Такое дальнее родство ценилось и не забывалось в провинции, но в Риме вряд ли было принято им хвастать. У Аспера было длинное худое лицо, прорезанное глубокими продольными морщинами, жесткие черты и глубоко сидящие серые глаза. Меня удивляло внимание, с каким он слушал, и я перехватил взгляд, каким он обменялся с Патерном. Во взгляде этом не заключалось вопроса, то было скорее предложение внимательно слушать все, что я рассказывал. Уж не вели ли они игру, подталкивая меня к какому-нибудь высказыванию, которое можно было бы использовать против меня? Или они подозревали меня в каком-то преступлении, о котором до сих пор не упоминали? Я сразу же замолк и допил свое вино.
Мои собеседники переменили тему. Аспер спросил Патерна, как идет перестройка участка, тот стал ворчать.
— Баня все еще не готова, и большинство людей ночуют вне казарм. Дворец всегда на первом месте, и подрядчики забирают для него всех работников. Пока это будет продолжаться, работы здесь никогда не закончатся.
Аспер сочувственно хмыкнул, а Патерн с улыбкой заявил, что сомневается, найду ли я самостоятельно дорогу к «Пигмею и слону». Аспер предложил меня проводить, и Патерн поблагодарил его.
— Тогда я могу не посылать человека. У нас, как всегда, недостает людей.
Мы вышли. Аспер, как бы что-то вспоминая, заговорил о «Пигмее и слоне»:
— Ничего особенно плохого не скажешь. Разумеется, там и азартная игра и разврат, а год назад в одной из комнат произошло убийство. Полиция не смеет даже заикнуться об усилении мер против игры в кости, уж коли их мечут на ступенях казарм городской стражи. Да и при более строгих законах стражники все равно присоединятся к игрокам. — Он сардонически усмехнулся: — Счастье твое, что тебя не избили. Стражники не слишком церемонятся. Можно ли их порицать за это в городе, где дома то и дело рушатся или горят, а воры вовсю орудуют у них за спиной? Вот они чуть что и бьют тревогу.
Он рассказывал, как трудно наводить порядок после Великого Пожара и сколько дополнительных забот, помимо повседневных — возни с убийствами, грабежами и насилиями, доставляет строительство нового Рима. Задал вопрос-другой о Бетике. Потом добавил, что сам начинал службу в городской страже, куда легче всего устроиться молодому человеку из деревни, без денег и связей. Родом он из Сентина в Умбрии.
— Я помог и Патерну сюда поступить. Он тоже из Сентина. Как и мой друг в гвардии, которого тебе, может, придется повстречать. Но пожарные, по правде сказать, жалкая братия, хоть их и оплачивают из казны регулярных войск. Большинство из них — сброд, всякие вольноотпущенники, добивающиеся права гражданства, которое дают после шести лет службы.
Мой спутник хорошо знал дорогу и шагал быстро. Я не хотел просить его идти помедленнее. И потому помнил о земле, по которой торопливо и неуверенно ступал в темноте. Когда он заговорил о Сентине, мне пришли на память строки о зимних посевных праздниках. «Милостивая Земля и Церера, матери злаков, дарящие нам полбу и мясо плодовитой свиньи. Одна наделяет злак силой, другая — почву плодородием. Дайте земледельцу богатые урожаи, дайте семенам непрерывно прорастать без морозов, посылайте благоприятные ветры, дожди, отгоняйте птиц, муравьев, зловредные росы, плевелы и овсюг».
Аспер своей твердой походкой и резким ровным голосом скорее напоминал сельского хозяина, чем солдата. Споткнувшись, я ухватил его за руку.
Повернув за угол, мы увидели убогую похоронную процессию: покойник лежал, запеленатый, на расхлябанных, взятых напрокат носилках, впереди несли чадные факелы и огарки свечей, вдова причитала на языке, который Аспер назвал арамейским: С крыши упала черепица, едва не угодив в покойника. Вдова воздела кверху исхудалые руки, пронзительно выкрикивая проклятия. Узнав, что Аспер бывал в Массилии, я заговорил об этом городе, где провел два месяца.
— Они любят свежие овощи, — сказал он, пропуская мимо ушей мои замечания о предприимчивости тамошних коммерсантов.
Наконец мы достигли дверей таверны. Аспер постучал и вызвал хозяина, который принялся жаловаться, пока не разглядел, кто перед ним. Аспер потрепал меня по плечу и ушел.
Они с Патерном были осведомлены о моем приезде. Эта мысль терзала меня, пока я снимал забрызганную грязью тунику и укладывался на скрипучую кровать. Спинка была гнилая, и я вышиб ногой планку. Покрывало, едва я его натянул, стало рваться. Нам дали только одно одеяло, ночь была сравнительно теплой для этого времени года. Феникс затворил ставни, запер их на засов и завесил старым половиком. Потом он возился со щеколдой у двери, стараясь сделать так, чтобы ее нельзя было отпереть, и наконец задул нагоревший светильник, продолжая бормотать об опасностях, каким он подвергался в часы моего отсутствия. Соломенный матрац и подушка из морской травы шуршали. Какой тут сон! Однако я заснул.
И проснулся рано. В трещине стены возилась ящерица. Феникс храпел на полу, его ступни с искривленными пальцами торчали из-под короткой попоны. Свет пробивался сквозь щели в ставнях острыми холодными клинками. Штукатурка растрескалась и только потому не осыпалась, что была оплетена густой паутиной. Я снова задремал, потом почувствовал, словно выхожу из глубоких вод или из душной земляной пещеры и попадаю в колючее пламя, в какой-то завывающий вихрь. Разбудивший меня вой оказался плачем ребенка за дощатой перегородкой, на которой постояльцы вырезали свои имена и нацарапали замечания: «Здесь я спал с Эвноей, а сейчас она пошла зарабатывать нам на обед», «Хозяин запекает крыс в свои мясные пироги», «Нет ночного горшка», «Клио съела вороньи яйца и рожала целую неделю», «Что я буду нынче есть? Должно быть, самого себя».
В соседней комнате мать хрипло напевала колыбельную песню. Со всех сторон долетали звуки: люди в доме и в переулке двигались, что-то швыряли, на что-то жаловались, зевали. Я не сразу сообразил, где я. Казалось, все было вывернуто наизнанку. Потом я узнал комнату, с облегчением вспомнил, что встречаю утро в Риме, и поднялся. И тут же испугался. Разом воскресли все события ночи, сплелись в клубок, где перемешались пожар, драки, падение в темноте, нескончаемый водный поток, арест, расспросы. Возникло смутное ощущение опасностей, таящихся за этими событиями, которые, несомненно, были связаны между собой и имели некий смысл.
Вздрогнув от резкого шума, проснулся Феникс, вскочил и отворил ставни. В окна хлынул яркий свет. Вскоре я принялся жевать черствый хлеб и оливы и вновь обрел хорошее настроение. Выло нечто дружественное в добродушно-уродливом лице преданного Феникса, мне даже нравилось, что у него торчали из ноздрей и ушей рыжие волосы. Как-то в Укубах после того, как молоденькая рабыня посмеялась над его торчащими ушами, он несколько недель не снимал с головы повязку, надеясь, что она прижмет уши к голове. Он пришел в отчаяние, когда, сняв повязку, обнаружил, что уши, еще краснее обычного, торчат по-прежнему, как у нетопыря.
— Мы пойдем к Марку Лукану, а не к банкиру, — сказал я, внезапно, между двумя глотками, приняв решение. С тех пор как мы покинули Испанию, я обсуждал этот вопрос. Мой отец предполагал, что я остановлюсь у Тита Юлия Присциана, вольноотпущенника, финансиста, грека по происхождению, пользовавшегося большим влиянием а имперских канцеляриях. Отец и дядя были связаны с ним деловыми интересами и поручили Мне сделать ему несколько новых предложений, надеясь, что он их примет.
Я должен был также выяснить, не преувеличены ли слухи о его влиятельности. Я не смел никому признаться, что сокровенной целью моей поездки в Рим было знакомство с литературными кругами и что, если только мне это удастся, я не скоро вернусь в Кордубу. С Луканом у нас было родство с двух сторон. Отец приходился дальним родственником Аннеям, а мать не только была пятиюродной сестрой Ацилии, матери Лукана, но дружила с ней в детстве. Через своего дядю Гнея я раздобыл письмо от бывшего начальника города Кордубы, который служил агентом у Мелы, отца Лукана. Поэтому я лелеял надежды на дружественный прием, хотя и боялся показаться тщеславным, чересчур подчеркивая наше родство.
Ночные треволнения выглядели сейчас не слишком страшными. Все, с кем я встретился до сих пор — хозяин «Большого журавля», юноша-сицилиец и его девушка, центурион охраны и гвардеец — оказались вежливыми и дружелюбными людьми. Феникс быстро собрал вещи, смел остатки еды в щель под кроватью и вышел вслед за мной. Но едва мы вышли из комнаты, как меня снова одолели сомнения. Ехать ли верхом по Городу? Как мне следовало одеться? Далеко ли до дома Лукана? Я не хотел явиться туда с таким видом, словно ожидаю приглашения остановиться у него. Наоборот, мне следовало создать впечатление, что я горю желанием засвидетельствовать ему свое почтение, но никак не обнаруживать какого-либо расчета. Внизу у лестницы мы встретили хозяина, который, очевидно, нас подслушивал. Он осведомился, хорошо ли я спал. От него исходил запах колбас, дымившихся в мисках с подливкой из чабреца. Раб доставал яйца из корзины с гороховой мукой, где они хранились зимою. Гедона, у которой распущенные волосы падали на лицо и на голых отвислых грудях темнели крупные соски, выглядела старше, чем накануне вечером; она встретила меня широкой приветливой улыбкой. Подметая опрысканный водой пол, она то и дело останавливалась, чтобы потянуться и зевнуть: «О, моя спина!» На левом колене у нее краснело родимое пятно.
— Порекомендуй своим друзьям мою таверну, — сказал хозяин. — Как видишь, ничего лишнего с постояльцев я не беру, хотя и мог бы — место удобное, у Ворот. Овощи со своих огородов, в трех стадиях отсюда. — При свете дня он казался робким, и вид у него был заискивающий.
Я зашел в конюшню и стал разглядывать лошадей. Мне очень хотелось проехать на коне по улицам Рима, но я забыл спросить хозяина, разрешалось ли ездить по городу верхом в дневное время, к тому же мне не хотелось сразу же отправиться к Лукану. Мне следовало сперва собраться с мыслями, впитать в себя кое-что от города и хотя бы немного освоиться. Появиться у дверей дома верхом значило бы подчеркнуть, что я уверен в хорошем приеме. Поэтому я вернулся в таверну, договорился, что лошади останутся здесь, и получил в этом расписку. Затем возникли сомнения другого рода. Облачиться ли сразу в тогу, рискуя запачкать ее и измять, если предстоит длинный путь? Мне страстно хотелось идти пешком, и я решил остаться в дорожном плаще и тунике, поручив Фениксу нести упакованную в корзину тогу. Наконец мы отправились. У меня было чувство, словно мы потеряли очень много времени, хотя день только еще начинался.
Мы зашагали улицей, по которой я брел накануне среди причудливых отсветов и теней. Сейчас я видел только грязь и суматоху. Люди оживленно сновали, выходили, спотыкаясь и подслеповато моргая, на свет из домов, давно нуждающихся в починке, либо шли, беззаботно насвистывая. Слышался разноязычный говор. Торговцы тщательно подметали улицу перед своими лавками и ни на йоту больше, а потом ворчали на прохожих, наносивших свежую грязь на их участок. Свои товары они раскладывали перед лавками на досках, положенных на козлы, и развешивали на веревках, протянутых между шестами. Поток пешеходов направлялся к реке, мало кто делал покупки, разве что останавливался у съестных лавок. Ремесленники уже работали. Плотники пилили или пробивали долотом в досках дыры, стоя по щиколотку в солнечно-желтых стружках. Ювелиры сверкающими молоточками выковывали изделия из золота на плоских камнях. Пастухи с соседних пастбищ тащили крынки с молоком. Пекари навязывали работникам и школьникам свои караваи. Нищие сидели, скорчившись, в дверных проемах и протягивали костлявые искалеченные руки или выставляли напоказ свои язвы. Еще совсем недавно, освещая дорогу фонарями в предрассветных сумерках, прошла основная масса школьников, но и теперь все еще встречались мальчики и девочки, которые шли то в одиночку, то в сопровождении раба. В этом бедном квартале лишь у немногих мальчиков были слуги или педагоги, которым поручают нести корзину или ящик с книгами и письменными принадлежностями. Убогие школы легко было обнаружить по голосам учеников, хором повторяющих урок где-нибудь под навесом на крыше маленькой лавки или под сенью дерева во дворе с вытоптанной травой. В нише, где стоял алтарь, посвященный Ларам — а не моей Изиде, — лежал скорченный труп. Прохожие делали вид, что не замечают его: неизвестно, умер ли этот человек от голода или убит. В любой момент могли появиться стражники, скорые на руку и хватающие без разбору. Какой-нибудь соглядатай уже наверняка сообщил о мертвом теле. Цирюльники брили своих клиентов, расположившись посреди переулка и не обращая внимания на создаваемый ими затор. Разносчики нараспев хрипло выкрикивали всевозможные товары. Я едва успевал оглядываться по сторонам, жадно подмечая все происходящее на улице, радуясь, что не надел тогу, которая тут наверняка не осталась бы целой. Мне хотелось, чтобы в моем сознании навсегда запечатлелась эта картина, непрестанно изменяющаяся, но отражающая все ту же нужду, надежду и отчаяние. И спустя сорок лет я мог бы, оглянувшись назад, столь же четко увидеть эти сцены, полные жизни, такой беспечной и непостижимой.
Ближе к Тибру, разложив перед собой стопки монет на неопрятных колченогих столах, сидели ростовщики — желтолицые люди с бегающими хитрыми глазами и вздувшимися жилами на руках. Одни из них с тупым ожиданием уставились на свои деньги, другие то и дело их перекладывали, словно опасались неверно сосчитать прятавшиеся друг под дружкой монеты или страшились, что изменится курс после недавней паники. Улицу перегородили колесни с обтесанным бревном, срочно потребовавшимся для постройки дома. Днем разрешалось возить только строительные материалы. Меня обступили старьевщики с поношенным платьем и заплатанным бельем. Солдат отдавил мне ногу и даже не оглянулся. Я порвал обо что-то тунику, но кошелек на запястье был в сохранности. Феникс так боялся от меня отстать, что не соблазнился поглазеть на фокусника с мартышкой, сидевшей верхом на козе и размахивавшей тоненьким позолоченным дротиком. Обойдя колесни, я очутился на берегу реки. Одноглазый матрос, державший кусок дерева — обломок разбитого судна, завернутый в плащ, — просил подаяния.
— Выброшен волнами на берег Альбы, — тянул он уныло, — на скалистые берега Альбы, на жуткие берега Альбы… Спасен Небесными Близнецами, покровителями мореходцев. Выброшен на берег Альбы… — Он замолчал, чтобы сплюнуть, и плевок, перелетев через голову стоявшей рядом девушки, угодил прямо в реку.
Подозрительные личности с мутными глазами предлагали серные спички в обмен на битое стекло. Возле моста снова образовался затор.
Хилый смазливый сирийский мальчишка сунул мне за пазуху руку.
— Подай мне что-нибудь для моей умирающей матери. — Увидев, что я улыбнулся, он тут же добавил с неожиданно похотливым выражением глаз: — И для меня что-нибудь. Чего тебе хочется в обмен?
Я бросил ему в грязную ладонь медяк. Он прижался было ко мне, но я его отстранил. Очутившись на безопасном расстоянии, мальчишка начал глумиться:
— Я попросил монетку для умирающей мамы, а он хотел изнасиловать меня.
Я обрадовался, когда мне удалось пробраться по мосту на противоположный берег, и не оглядывался, чтобы посмотреть, поспевает ли за мной Феникс.
Портовые грузчики сновали на пристанях вдоль берега, выгружая зерно с барж, доставлявших его с кораблей и со складов в Остии, или нагружая баржи битым кирпичом, привезенным из кварталов, уничтоженных пожаром. Битый кирпич сплавляли вниз по Тибру и топили в болотах в устье реки. В трюмы с тачек сбрасывали кирпич, камни, обломки дерева и штукатурку, и в воздух поднимались тучи пыли. Иной раз, поскользнувшись на доске, с мостков срывался грузчик и летел вместе с тачкой в воду.
На этой стороне реки было меньше оборванцев и разносчиков. Я остановился на минуту и наконец почувствовал, что действительно нахожусь в Риме, который может быть назван Владыкой Мира. Заметив поблизости пьедестал от упавшей статуи, я взобрался на него. Несмотря на следы пожара, кругом чувствовалось царственное величие. Справа Большой Цирк, как будто уже полностью восстановленный. Слева дворцы и храмы, окруженные зеленью деревьев и цветников. В закопченных стенах — проломы. И все же широкая панорама строительных работ производила более сильное впечатление, чем не тронутые пожаром или восстановленные здания. Легионы каменщиков бегали по наклонным доскам с лотками или мешали раствор. Лебедки поднимали тяжелые каменные блоки. То и дело подъезжали повозки с новыми материалами. Синева дня становилась плотнее, хотя ее и пронизывала легкая сияющая дымка. Необъятная деятельность, разбросанная и все же согласованная, а не воздвигаемые строения, была самым существенным в этой картине.
Проплыл на носилках крупный темнобородый мужчина с набрякшими веками, нахмуренный, полный сознания Собственного величия, явно недовольный, что неотложное дело заставило его так рано покинуть дом; за ним худощавый мужчина, который читал свиток, почесывая подбородок и выпячивая нижнюю губу, словно переживая прочитанное. Затем прошествовал высокий мужчина в тоге, шел он медленно, поддерживаемый под руку слугами и сопровождаемый свитой, почтительно следующей за ним в нескольких шагах. Сойдя вниз и повернув налево, я встретился с пышным паланкином, который несли на плечах нубийские рабы. Не лежит ли за алыми, расшитыми золотом занавесками богатая женщина, похлопывая себя бутоном африканской розы по приоткрытым губам? На миг край занавески приподнялся. Женщина взглянула на меня, но я так и не смог ее рассмотреть. Мне захотелось бросить все дела и пойти вслед за паланкином: не было ли движение занавески призывом, на который я не ответил? Я остро ощутил ее присутствие, словно тяжело дышал на узком ложе, придавленный ее пышной белой грудью, и тепло ее тела сливалось с навязчивым ритмом стихов Проперция.
Но я сразу же забыл о ней. Я потерял дорогу. В Кордубе и во время путешествия я не раз, стараясь не быть назойливым, расспрашивал людей, хорошо знавших Город. Мне казалось, что я могу представить себе направление главных улиц, расположение холмов и прославленных храмов. И вот я заблудился. Где-то невдалеке от Форума. Мне не хотелось без крайней нужды спрашивать дорогу.
Акведук через овраг. Арка. Мне подумалось, что я иду в верном направлении. Все же я послал Феникса узнать дорогу. Он ходил наугад из стороны в сторону, пытаясь заговорить с прохожими. Я уже хотел его окликнуть, когда он приметил на дороге, вымощенной черным базальтом, молодого раба, который нес лоток, где стояли флаконы духов. У них завязался долгий оживленный разговор. Я стал терять терпение и собрался его прервать. Но вот Феникс вернулся ко мне с довольной усмешкой.
— Теперь я знаю, где склон Скавра.
Вскоре мы свернули в переулок и остановились перед двухэтажным домом с окнами по фасаду, расположенными высоко над землей. Чтобы не вышло ошибки, я послал Феникса справиться. Когда он пошел на главную улицу, я снова почувствовал беспокойство. Почему Лукан должен принять во мне участие? В лучшем случае я мог рассчитывать на его снисходительные замечания. Теперь я досадовал, что не надел тоги. Пока я стоял в тихой улочке, из отворенных дверей дома вышли несколько человек в потрепанных тогах и залатанной обуви — клиенты[113], явившиеся на утренний поклон и за обычной подачкой. Они подозрительно и свысока оглядели мою дорожную потертую одежду, и у меня возникло желание сорвать с плеч этих низкопоклонников изношенные одеяния, в которые они были столь тщательно и театрально задрапированы. Они вполголоса обменивались замечаниями, как люди, привыкшие шептаться между собой, разговаривали, едва поворачивая голову и еле шевеля губами.
Феникс вернулся и заверил меня, что дом действительно принадлежит Аннею Лукану. Во дворе на скамье сидел привратник с палкой в руке, а у ног его — цепная собака; он сердито спросил меня, кто я такой. Пес поднял лохматую голову, натянул цепь и зарычал. Привратник приказал ему лечь. Я назвал себя. Это не произвело на него никакого впечатления. Тогда я предъявил свои письма. Он стал их разглядывать, поворачивать, для чего-то понюхал шнур и печати на табличках, потом нехотя послал их домоправителю.
Я ожидал добрую четверть часа и все это время старался выглядеть спокойным и самоуверенным. Мимо меня проходили клиенты и рабы, бросая в мою сторону любопытные и пренебрежительные взгляды. Собака то и дело принималась ворчать и лаять. Одному клиенту, попавшему в немилость, привратник не разрешил войти, несмотря на его сетования и ссылки на больную жену, которую он принес на носилках. Но вот меня пригласили в атрий.
В увитых зеленью нишах — бюсты, по стенам — портреты предков. Я сел на мраморную скамью, оглянулся на рабов в форменной одежде и стал рассматривать суровые лица на портретах между колоннами. Я видел одно и то Же лицо, написанное в разные моменты исполненного горечи существования, а не длинную череду предков. Нельзя было почерпнуть ободрения, глядя на эти тяжелые выступающие подбородки, широколобые массивные головы, холодные сердитые глаза. Мне вдруг показалось, что в уголке сада, который был отсюда виден, мелькнула женская фигура. Но не успел я присмотреться, как ветви, качнувшись, сомкнулись и с них слетела птица. Затем вошел домоправитель, молчаливый, угрюмого вида. Письма он передал, но сомневался, что господин успеет сегодня меня принять. Разговаривая со мной, он оглядывался по сторонам, словно подозревал, что за полированными колоннами совершается что-то недозволенное. Закрыв глаза, он еле кивнул в ответ на поклон клиента и непрестанно шевелил губами, как бы подсчитывая потери и убытки. Внезапно мне стало невмоготу, и я почувствовал, что не могу ни минуты долее оставаться в этом доме в несоответствующей одежде. Я попросил домоправителя дать мне возможность переодеться и подозвал Феникса, отлично при этом сознавая, что такого вида слуга не способен внушить доверие. Однако домоправитель, строго взглянув на одного из слуг, кому-то кивнул, затем велел подростку, пахнувшему корицей, показать мне комнату.
Я переоделся в маленькой полутемной комнате, смежной с атрием. Тога оказалась более смятой, чем я предполагал, и даже кое-где слегка запачканной. Молодой раб, презрительно усмехаясь, помог Фениксу облачить меня в нее. Потом я вернулся в вестибюль, сел на мраморную скамью и стал ждать. Я был сбит с толку, обижен и раздавлен, словно вступил в мир, где уже никто не считался с моей волей. Все же в тоге я чувствовал себя несколько увереннее, хотя она и была измята. Наконец явился другой служитель — номенклатор. По сравнению с домоправителем он был приветлив, хотя и сдержан. Он получил распоряжение ввести меня.
Мы прошли несколько красиво убранных комнат. У меня осталось лишь смутное впечатление от гладких блестящих поверхностей и просторных помещений. Затем я предстал перед Луканом. Он прервал разговор, любезно взял меня за руку и выразил удовольствие, что я, как он слышал, направился сразу же к нему. Поскольку я никому не говорил, откуда я сюда прибыл, было очевидно, что управляющий доложил ему о моем появлении в дорожной одежде.
— Мне всегда приятно встретить земляка из Кордубы, хотя я уехал оттуда ребенком.
— Даже ребенком ты проявлял хороший вкус, — хихикнул его друг, которого он назвал Афранием Квинтианом. Я знал, что это сенатор. Лукан был не так высок ростом и не так внушителен, как я его себе представлял. Крепко сложен, мускулист, светлые дуги бровей, широко расставленные глаза, несколько мясистая, тяжеловатая нижняя часть лица. Но взгляд серых глаз был проницательный, выразительный и на диво мягкий, что никак не вязалось с его коренастой фигурой и твердыми чертами. Афраний был значительно выше ростом, то и дело двигал бровями и губами, разговаривая, он покачивался, быть может потому, что уже выпил или еще не пришел в себя после ночной попойки. У него были красноватые глаза и слегка дрожали руки, когда он поправлял складки своей тоги. Ему свойственна была насмешливость, даже дерзость, впрочем не отталкивающая.
— Мы испытываем благоговение к земле, где родились, хотя бы и покинули ее в младенчестве, — заметил Лукан с улыбкой, как бы оправдывая Афрания и вместе с тем приглашая меня принять насмешливую нотку за дружескую снисходительность. Он играл перстнем с печаткой — с этой его манерой мне предстояло вскоре познакомиться.
Мне хотелось сказать что-нибудь в похвалу «Фарсалии» и спросить, как подвигается поэма. Хотя моя мать и приходилась пятиюродной сестрой его матери Ацилии, я решил не упоминать об этом родстве при Афрании. В ответ на вопросы я коротко рассказал о некоторых наших делах, и наконец мне удалось перевести разговор на «Фарсалию». Упомянув о восстановительных работах в Риме, я сказал, что публичное чтение поэмы Лукана, посвященной пожару, имело огромный успех и что все мы надеемся увидеть следующие книги поэмы.
— Ты ведь сам сочиняешь, — иронически бросил Афраний.
Я вспыхнул, а Лукан потребовал вина.
— Я обычно не пью в это время, но нам надлежит отметить эту встречу.
— Добрый поступок украшает любой час дня, — хихикнул Афраний и оперся на красивого юного раба с черными бровями, который стоял рядом с ним, мрачно улыбаясь.
Я упомянул, что собираюсь передать Юлию Присциану кое-какие письма и, вероятно, остановлюсь у него. Лукан сразу же прервал меня.
— Тебе отведут здесь две комнаты. Я настаиваю на этом.
Меня поразило его лицо, когда твердые, тяжелые черты осветила мягкая, обаятельная улыбка. В его обращении приветливость сочеталась с небрежным равнодушием. Но, очевидно, он искренне хотел, чтобы я остановился у него. Это звучало почти как приказ.
Я пробормотал, что не смей рассчитывать на такую удачу. И прибавил, что преклоняюсь перед его дарованием и считаю его преемником Вергилия. Когда-нибудь и мне представится случай оказать ему услугу. Я говорил вполне чистосердечно. Я был действительно высокого мнения о его стихах. Но только сейчас, захлебываясь от радости, я обнаружил, насколько оно высоко. И тут же решил переработать свои собственные поэмы в стиле, который приближался бы к сжатой выразительности его стихов, вытравить всякую слащавость.
Афраний слонялся по комнате, трогал то один предмет, то другой — бронзовый подсвечник с горлицами или алебастровую подставку, затем возвращался к нам.
Он поглядел на кончики пальцев.
— Тут еще молодой человек из Испании… Как его зовут? Ах да, Марциал. Талант небольшой, но язвительный.
И слишком уж он нуждается. Я едва не подарил ему небольшое поместье, но потом раздумал. Пожалуй, он перестанет писать, если ему будет нечем возмущаться. Или, еще хуже, все свое негодование обрушит на благодетеля. — Он снова оперся на плечо юноши-раба. Я почувствовал, что тому не нравится, чтобы на него облокачивались, но он считает это знаком внимания. Афраний стал разглядывать выложенный стеклянной мозаикой потолок и вздохнул.
Я искал повода продолжить разговор о «Фарсалии». Пока что мне удалось высказать лишь несколько общих мест. Я хотел блеснуть тонкостью своего понимания, выразить свои личные взгляды и тем самым укрепить в Лукане добрые чувства, которые заставили его пригласить меня остановиться в его доме. Я сказал, что в Кордубе мы восхищались главным образом строками об императоре.
— Мы ему безгранично признательны за оказанные нам благодеяния. Еще никогда наш город так не процветал, как последние Десять лет. Городской совет недавно постановил воздвигнуть новую статую, и мой дядя принимал в этом начинании живейшее участие… — Тут я осекся, заметив на губах Лукана натянутую улыбку, смысла которой не мог разгадать. Мы стали пить вино. Чтобы исправить неловкость, я начал декламировать стихи, которые мне особенно нравились. Я знал их наизусть.
— Но коль иного пути не нашли для прихода Нерона
Судьбы, и грозной ценой покупается царство всевышних
Вечное, и небеса подчиниться могли Громовержцу,
Только когда улеглось сраженье свирепых титанов, —
Боги, нельзя нам роптать
[114].
Такого рода последствия вполне оправдывают гражданскую войну. Я продолжал читать и дошел до строк, где дается апофеоз Нерона после его кончины. В этих строках поэт умоляет его не выбирать ни Северный, ни Южный полюс для своего божественного пребывания.
— Видеть оттуда твой Рим твое солнце лишь искоса сможет.
Если ты ступишь ногой на край безмерного свода —
Дрогнет под тяжестью ось; блюди равновесие мира,
Став посредине небес
[115].
Афраний захихикал.
— Ты оценишь эти стихи, мой юный испанский друг, когда своими глазами узришь величавую фигуру нашего увесистого императора.
Я почувствовал, что цитата не имела успеха, но не догадывался о причине неудачи. На губах Лукана застыла напряженная недобрая улыбка. Однако в следующий момент он небрежно приказал только что вошедшему домоправителю:
— Отведи моему другу две комнаты в правом крыле. Он будет ужинать с нами сегодня вечером.
Я не мог не бросить торжествующего взгляда на домоправителя, сохранявшего привычное бесстрастное выражение. Глубоко растроганный, я сказал Лукану:
— Я у тебя в долгу, но надеюсь когда-нибудь доказать тебе свою благодарность.
Он шутливо похлопал меня по спине.
— Тебё нужно как следует выкупаться и отдохнуть.
— Не торопись закладывать свою душу, — сказал Афраний с насмешливой улыбкой, на сей раз, видимо, не понравившейся Лукану. — Всегда легче заплыть в глубокую воду, чем вернуться на берег. Я знаю это. — Он поцеловал в ухо своего любимца-раба, а тот мотнул головой.
Спустя несколько дней мне уже казалось, что я всю жизнь прожил в Риме. Я присутствовал на утренних приемах Лукана и обычно отправлялся с ним по его просьбе в город по делам или со светскими визитами. Он поздравлял какого-нибудь знакомого с новым назначением или сменившую нескольких мужей матрону с очередной помолвкой, скреплял своей печатью документы в храме Дианы, присутствовал при церемонии облачения в тогу какого-нибудь наследника, достигшего совершеннолетия, слушал выступление адвоката или грамматика, навещал больного, участвовал в качестве почетного заседателя в суде претора. Вся эта рутина становилась уделом человека с его общественным положением, если тот не был болен или не решил стать в позу стоика. В остальное время я бродил по Городу, осматривал храмы и лавки, наблюдал за обширными восстановительными работами, разгуливал под портиками. Посещение Присциана я отложил. Впереди было сколько угодно времени.
Я встретился с Марциалом. Лукан увидел его на улице по дороге к храму Дианы и послал за ним человека. С первого взгляда он показался мне застенчивым и недоверчивым. Возможно, на меня повлияли слова Афрания, тем более что я был расположен подмечать слабости у своего соперника — поэта из Испании. Вдобавок он проявлял известную самоуверенность. Тем не менее мы условились встретиться на следующий день и погулять вдвоем по Марсову полю.
Погода испортилась. Подули холодные ветры, и больше не казалось, что весна внезапно ворвалась в разгар зимы. С утра шел дождь, и я уже подумывал послать к Марциалу Феникса с тем, чтобы отложить встречу на несколько дней. Не выходивший из дому Лукан заметил как бы в свое оправдание, что круг обязанностей, которых он не может избежать — ведь он «не так стар, как мой почтенный дядя», — без толку поглощает его время; но именно эти функции являются связующим началом в жизни общества. «Пока у нас нет ничего лучшего, мы должны жертвовать своим временем и энергией». Мне было ясно: ему досадно, что приходится сидеть дома. До сих пор я воспринимал его общественные обязанности как некую необходимость. Но когда он нашел нужным их оправдывать, я, сочувствовал, что он выше всего этого, и мне стало непонятно, почему он мучается, почему оправдывает свой образ жизни. Эти мысли меня огорчили, и я отогнал их.
Ненастная погода напомнила мне, что февраль — месяц очищений, когда происходит незримая, но отчаянная борьба семян в темных недрах земли, борьба солнца со сковавшим его холодом — ради сочетания с землей. В это время духи умерших бодрствуют и их следует держать в подчинении. Перед обедом дождь неожиданно прекратился. Я встретился с Марциалом, как было условлено. Я был в хорошем настроении, хотя чувствовал себя не вполне уверенно: кое в чем я сознавал свое превосходство, а в другой области должен был играть роль ученика. Хотя Марциал жил сравнительно недавно в Риме, он знал его прекрасно и уже стяжал имя хотя бы второстепенного, но поэта. Я решил поставить его на место и снисходительно похвалил его.
— О, писать эпиграммы может любой, — ответил он небрежно, — или воображать, что может. Если бы существовало самостоятельное искусство эпиграммы, его испакостили бы и уничтожили дилетанты своими импровизациями.
Мне захотелось продолжить беседу и высказаться в защиту длинных поэм с четко поставленной темой. Однако не легко было спорить с человеком, который не хотел ничего принимать всерьез, особенно же литературные гипотезы. В аллеях было свежо, на деревьях и кустах еще висели капли дождя, их стряхивала, взлетая, птица, или же они срывались от собственной тяжести и падали на нас. Я только что собирался назвать Лукана, когда мне на нос упала капля и отвлекла меня. Я перевел разговор на самого Марциала и стал расспрашивать о его жизни в Риме. Низкорослый, с круглым лицом, он казался простоватым и покладистым, пока собеседник не замечал острый, насмешливый огонек в его глазах и нервное подергивание тонко очерченных губ. Он охотно поддакивал, что ему хорошо известна жизнь Рима и городские скандалы. Для него не было ничего святого. Когда он чего-нибудь не знал, не сомневаюсь, он дополнял картину своими домыслами, убежденный, что наименее вероятное предположение всегда может оказаться наиболее близким к истине.
Как только разговор перешел с литературы на жизнь, он огляделся и решительно заявил, что ему не доставляет ни малейшего удовольствия прогулка среди мокрых деревьев и колонн. Он предложил зайти выпить и повел меня по запутанному лабиринту улочек и переулков в винный погребок, где его хорошо знали. Хозяин был испанец из Малаки, и с первого взгляда его можно было принять за более смуглого двойника Марциала, но, в противоположность покровительственно-ироническому тону поэта, он проявлял неподдельную веселость.
— Любой друг Марка Марциала здесь желанный гость, — сказал он. — Это единственное место в Риме, где можно выпить кокосовой водки и получить все, что захочешь.
Мы уселись в углу. Против воли я был им очарован и покорен. Марциалу нравилось гасить искры моих восторгов, дать мне показать мое невежество и тут же выложить какую-нибудь историю, полную ядовитой клеветы. Он был простодушным и вместе с тем изощренным, и в этом было что-то подкупающее. Временами я попросту не понимал беглых намеков, жаргонных словечек, скрытой иронии.
Меня подводило собственное тщеславие. Мне не хотелось задавать слишком много вопросов. Вместе с тем я подозревал, что он втайне тоскует о своей родной Билбиле, несмотря на ее неприглядность и уродующие ее железные рудники, которых я никогда не видал.
— Я не жил в особняках, — сказал он мне на прощание с оттенком презрительной иронии, к которой примешивалась откровенная зависть. — Не принимай слишком всерьез своих хозяев. Мы, бедные образованные провинциалы, должны сохранять свое достоинство.
Я не испытывал особенного желания снова с ним встретиться.
В домашней библиотеке Лукана я прочел его произведения, которые еще не достигли Кордубы. Его поэму о Трое, его «Сильвы» и другие ранние произведения. Просматривая книги на полках, я натолкнулся на «Сатиры» Персия, о котором как-то при мне упоминали, как о друге юности Лукана. Они показались мне проникнутыми горечью и раздражением, непохожими на стихи других поэтов из-за обилия загадочных эллиптических оборотов и неоправданной сжатости. В общем нечто весьма отличное от могучей риторики и патетики, свойственных поэзии Лукана, чьи приемы и восхищали и отталкивали меня. Я упомянул о «Сатирах» в разговоре со своим хозяином, присовокупив, что стилистические крайности автора уж чересчур бросаются в глаза. Лукан улыбнулся и не стал возражать. Просто сказал, что горячо любил поэта, который умер двадцати восьми лет от роду. (Самому Лукану было двадцать шесть лет, я был на два года моложе его, но выглядел он старше своего возраста.) Вступление первой сатиры засело у меня в голове, хотя я истарался вычеркнуть его из памяти — мне претила манера автора, его стихи казались мне неискренними, каким-то тупиком, темным и опасным пустырем, поросшим чертополохом, изрытым ямами и усеянным острыми камнями.
О заботы людей! О, сколько на свете пустого!
«Кто это станет читать?» Вот это? Никто! «Ты уверен?»
Двое иль вовсе никто. «Это скверно и жалко!» Да так ли?
Полидам и троянки, боюсь я, что ль, Лабеона
Мне предпочтут? Пустяки! Зачем тебе следовать вкусам
Смутного Рима? Зачем стараться выравнивать стрелку
Ложных весов? Вне себя самого судьи не ищи ты
[116].
Это презрение уязвило меня. Я понимал, почему такого рода поэмы не доходили до Кордубы. Библиотекарь, седой грек из рабов Лукана, шепелявый и хромой, заметив, что я читаю «Сатиры», перестал жаловаться, что продают шероховатый и рыхлый пергамент. Он сказал мне, что Лабеон был второстепенным поэтом и что он перевел «Илиаду», однако старик не знал, кто такой Полидам. Может быть, автор имел в виду гомеровского Полидама, чье имя Цицерон приложил к Катону и к своему другу Аттику. Смысл оставался для меня неясен. Библиотекарь полагал, что это нарицательное имя для самовлюбленных педантов и глупых старух, читающих нравоучения. Я решил, что Персий, быть может, зная или предчувствуя свою раннюю смерть, дал волю своей горечи, своей обиде на жизнь — ведь он провел слишком много времени в одиноком углу, в нищете, снедаемый завистью и отчаянием, которые исказили его восприятие мира. Дурная манера писать. Я был рад, что Лукан не усвоил склонности своего друга к загадкам и иносказаниям.
В библиотеку зашел Лукан со своим секретарем-скорописцем. Он хлопотал о галерее портретов знаменитых писателей, задумав расширить свою библиотеку, хотел украсить ее ими. Он стал диктовать письма к своему другу, проживавшему в Вероне, который обещал ему достать копии самых схожих портретов Катулла и Корнелия Непота.
Библиотекарь сказал:
— Не забудь указать точный размер, не то нам придется с копий делать новые копии.
Лукан кивнул.
— Да, дело не столько в расходах и в потере времени, как в том, что каждая последующая копия все дальше отходит от подлинника. Именно поэтому я обращаюсь к Вибию прямо в Верону. — Он повернулся к секретарю. — Припиши следующее: «Прошу тебя пригласить самого лучшего художника в городе, ибо как ни трудно уловить сходство, когда пишут с натуры, несравненно труднее его соблюсти при копировании». — Он внимательно посмотрел на портрет Вергилия, уже висевший на месте. — Пиши дальше: «Еще прошу тебя проследить, чтобы художник не забывал о сходстве, желая щегольнуть своим мастерством или по иной причине. Кроме того, если ты не найдешь в Вероне человека, которому можно доверить работу, дай мне знать, и я пошлю художника из Рима». — Он взглянул на Свиток в моей руке и снисходительно улыбнулся: — Ты все еще занят беднягой Авлом? Он был бы польщен, если бы знал об этом. Есть нечто притягательное в загадках, не правда ли?
Я видел его жену Поллу Аргентарию за обедом в домашнем кругу в день моего приезда. Она оказалась не такой величавой, как я ожидал. Она была стройна, изящна, у нее были влажные капризные губы, очень тонкие золотистые волосы, слегка завивающиеся на концах. Она как бы излучала сияние. Она поднимала широкие дуги бровей, выражая искреннее удивление по любому поводу, не смеялась, но, казалось, то и дело готова была рассмеяться, в уголках губ, в глазах сквозило затаенное веселье. Она напоминала развитую не по летам девочку, играющую роль матроны, которая так опьянена успехом, что вот-вот готова себя выдать: смотрите, как ловка я, всех вас вожу за нос!
Из сказанных мимоходом, но явно неспроста слов Лукана, подхваченных Марком Клодием Флакком, человеком с чешуйчатым лицом, приживальщиком, не упускавшим случая угодить и польстить хозяину, я узнал, что она пишет свое имя через два «л». (Меня удивило, что Лукан выслушал комментарии Флакка, хотя вообще он не замечал его присутствия. Впоследствии он пояснил, как бы извиняясь, что обязан этому человеку, вовремя предупредившему его о попытке врагов его опорочить.) В манере писать «Полла» вместо «Пола» есть деревенский или скорее старомодный оттенок, намек на древнее происхождение ее семьи, не желавшей раствориться в городской среде. Марциал упоминал об отсталых патриотах, которые растягивают до невозможности гласные, так что у них получается какое-то ржание, они проглатывают «е» и напирают на «и», желая походить на горцев. Они разыгрывают из себя этаких трудолюбивых катонов, обрабатывающих каменистую почву плугом несгибаемой морали.
Обед проходил спокойно. Полла больше молчала, а я старался поменьше на нее смотреть. Сотрапезники обсуждали судебные процессы, о которых я ничего не слышал. Самым интересным собеседником был Мунаций Грат, богатый подрядчик, представитель среднего сословия, говоривший очень низким голосом. Он гордился им и старался говорить все басовитее и басовитее, пока слова его не потонули в некоем густом рыке.
— Никогда не приглашай Фабулла на обед, — разглагольствовал он. — Он вечно голоден. Уже возвестили четыре часа и объявили перерыв в заседании суда, на средах обучали петухов и зайцев — происходили игры в честь Флоры, — и все же он завернул ко мне, надеясь на угощение. Мне пришлось послать за рабами и приказать им немедленно вымыться. «Тебе горячей воды, Фабулл? — спросил я его. — А ведь у нас еще не принесли холодной. Кухня закрыта, плита не растоплена. Подумай только, еще далеко до пяти часов. Всего час пополудни». Тут меня осенило: «Фабулл, — сказал я ему, — ты опоздал к завтраку».
Полла покинула нас рано, и я утратил всякий интерес к разговору. После этого я лишь однажды мельком видел ее близ атрия, и мне показалось, что лицо ее вспыхнуло. Феникс указал мне на ее домоправителя, у которого на поясе висела чернильница, вызывающе красивого египтянина, с лицом замкнутым, словно могила, полная летучих мышей, скорпионов и старого золота. Я не мог себе представить, о чем она разговаривает с Луканом, когда они остаются вдвоем. Если они когда-нибудь остаются вдвоем.
Рим — пуп земли. Толпа невоспитанных пешеходов на улицах, размах строительных работ, трудность понимания всевозможных наречий, на которых тебе отвечают, бесконечное разнообразие товаров, выставленных прямо на мостовых, крики ученых попугаев и скворцов, окликающих прохожих, вонючие доки, где несмолкаемый галдеж и где я видел, как большой камень выскользнул из петли лебедки и проломил дно баржи, увлекая за собой в пучину грузчика. Все шумят: фигляр, выкидывающий свои трюки под аккомпанемент дудок и волынок возле многоструйного фонтана в виде конуса; мастер, работающий на станке; человек, правящий пилу в нескольких шагах от него. Эти картины ежедневно освежали у меня в памяти прописные истины, почерпнутые на школьной скамье. Рим, где можно купить все и всех. Я жаждал выразить в величавых стихах ощущение великих судеб Города, могущества, изливающегося из всех долин между его холмами неоскудевающим потоком на весь мир. Потоком, приносящим мир воюющим народам, вовлекающим варваров в круг цивилизаций, распространяющим повсюду веру в свободу, основанную на законе. Закон ныне воплощен в одном человеке — в императоре, стоящем над всеми партиями и расовыми различиями, выше всех общественных перегородок. Свобода, которую ревниво оберегала Республика и растратила в жестоких распрях, ныне примирилась с законом, одинаковым для всех людей (кроме рабов). Конечно, еще не было достигнуто совершенство. Но, оценивая труды Августа, Клавдия и Нерона, я считал, что ими намечен путь к примирению двух начал. Несомненно, принцип свободы, основанной на законе, будет распространяться, несмотря на упорное противодействие и всяческие искажения, и преодолеет ограничивающие его факторы. Как сказал Цицерон, все мы порабощаемся законом, дабы стать свободными людьми.
Все же я усматривал пробел в этих формулах, вернее, затруднения, которые трудно разрешить. Доколе император воплощал в себе закон, все шло хорошо. Но что могло заставить его исполнять эту роль и помешать выступить в роли тирана? Правда, с одной стороны был Сенат, с другой — народ. Сенат, где заседали крупные землевладельцы, и народ — уже лишенный конституционных прав и выступающий лишь в качестве огромной безгласной силы. Разумеется, Сенат, представляющий собой моральную силу, подкрепленную земельной собственностью и капиталами, наряду с немыми, но настоятельными требованиями народа мог в известной мере уравновесить волю к самовластию, присущую единоличному правителю, внушить ему сознание нравственного долга и понимание своей роли осуществителя всего необходимого для человечества, руководителя, водворяющего равновесие и единение. Разве Август не заявлял недвусмысленно, что какие бы изменения он ни вводил, всегда останутся неприкосновенными два великих вековечных принципа? Закон обеспечивал все права и свободы, на какие мог претендовать римский гражданин, и был поставлен выше всякой власти. О Римском государстве имел попечение весь римский народ. Эти принципы охватывали неприкосновенность личности и имущества, святость очага и дома, нерушимость гражданских прав. И кто, кроме императора, мог их обеспечить после хаоса, до которого докатилась Республика?
Я сидел у, себя в комнате, глядя в окно на исхлестанный дождем сад и протягивая руки к жаровне, где горел древесный уголь. В эти дни умершие приходят в движение, кишат повсюду, прорывают, подобно кротам, ходы во влажной земле. Это отнюдь не дни дурных предзнаменований. Во всяком случае, если умершие по-прежнему остаются членами семьи и их связь с живыми непрестанно поддерживается в соответствии с предписаниями священного закона. Все храмы сейчас закрыты, свадьбы запрещены и должностные люди появляются без своих регалий. Но что может произойти, если эту связь нарушат, устранят преграды и взбешенные, мстительные мертвецы будут роиться над домами живых, словно полчища алчных демонов?
При этой мысли я невольно содрогнулся. Но я отогнал ее. На смену ей пришло неприятное воспоминание о том, как Лукан и Афраний встретили мою цитату из «Фарсалии». Я стал повторять эти строки, и в свете насмешки Афрания они показались мне ироническими, как будто к чрезмерным похвалам прибегали для того, чтобы поглумиться над тучностью императора и над его тщеславием. Как мог поэт унизиться до такой пошлой насмешки? Насмешки чересчур грубой, чтобы быть замеченной. Рушились все представления о равновесии, которые создались у меня в голове. Закон и свобода никак, не уравновешивались, если центром вселенной становился жирный державный шут. Я снова перечитал «Фарсалию», стараясь, оттолкнувшись от явного значения, уловить сокровенный смысл.
Однажды я едва не поделился своими сомнениями с Луканом. Мы прогуливались с ним по саду в неярком утреннем свете. Садовник тщательно счищал скребком мох со статуи Эроса. Я спросил Лукана, считает ли он Катона идеальным героем. Он не сразу ответил, и я уже собирался с духом, чтобы повторить вопрос, когда он заговорил вполголоса, с ноткой горечи и сарказма или, может быть, презрения к себе:
— Что имеешь ты в виду, Марк Катон? — Он сделал патетический жест, обращаясь к герою своей поэмы. — Теперь уже нет речи о свободе. Уже давно от свободы остались лишь обломки да мусор. Вопрос в том, Цезарь или Помпей будет править государством. Должен ли ты, Катон, участвовать в этом споре? Ведь это не твоя забота. Сейчас избирают тирана. Не все ли тебе равно, кто возьмет верх? Наверху может очутиться самый лучший, но в выигрыше наверняка окажется самый худший.
Лукан как-то болезненно улыбнулся и погрузился в молчание. Мне хотелось его спросить, зачем же он пишет «Фарсалию». Хочет ли он описать бессмысленное столкновение, из которого мудрый человек может извлечь единственную мораль, что следует держаться подальше от всякой политики? Вряд ли поэма писалась с такой целью. Но подлинный ее смысл сейчас был для меня менее ясен, чем когда-либо.
Я постарался преодолеть свои сомнения и сосредоточиться на том, что казалось бесспорным, — на возрастании римского могущества. Наступит день, когда на всю землю распространятся блага римского мира. Кто еще остается за его пределами, кроме диких обитателей северных гор, болот и лесов? И древних, пришедших в упадок царств на Востоке, лишенных животворной идеи, подобной нашей? Терпеливо и упорно наступая, мы проникнем на студеный Север. Затем, когда наше могущество еще более укрепится, силы и умение Рима будут применены для распространения на Восток, которым на некоторое время удалось завладеть грекам после Александра.
Способность римлян крепко сочленять самые разнородные элементы подтверждалась на каждом шагу на улицах. Рабы и вольноотпущенники, лавочники и покупатели, люди сотен различных национальностей каким-то образом составляли нечто единое, называемое римлянами. Восточный князь в высокой митре, греческий ученый в сопровождении негра, несущего его свитки, и праздношатающийся германец с густой пышной шевелюрой, семит с правильными чертами лица, нервный, как породистый конь. Прибрежные таверны были набиты грузчиками и портовыми рабочими, матросами и военными моряками, зимующими в казармах в Риме, жилистыми крепкими людьми из всех портов и рыбачьих поселков Сирии, Киликии, Понта, Киренаики, Туниса и Испании.
Несколько раз я думал навестить центуриона — мне хотелось это сделать, но я воздерживался, уверенный, что он, как и преторианец, все разузнал обо мне. И вот однажды я повстречался с преторианцем. Я вышел из дому посмотреть на луперков, опоясанных ремнями из шкур жертвенных коз, на толпы этих жрецов, бегающих вокруг Палатинского холма и хлещущих женщин ремнями, вырезанными из тех же шкур. Но меня задержали всякие житейские мелочи, и я обнаружил, что опаздываю на эту церемонию. Все же я решил посмотреть, в какой обстановке она происходила. И пока я шел в одиночестве, во мне росло чувство, что я пропустил нечто очень важное, нечто такое, что помогло бы мне яснее представить себе картину Рима. Это был обряд, дошедший до нас из глубокой древности, из таинственных недр веков, а я из-за пустяков опоздал и не увижу его. Феникс сказал мне, что Полла будет гулять в саду, потом куда-то делся шнурок от сандалий, Лукан попросил меня проверить несколько писем, посылаемых им в связи с заказом портретов писателей, и все в таком роде… День был на редкость теплый и ясный. Почему наделяющие плодородием ремни из козьей кожи назывались «фебруа»? Почему изображающие волков члены братства носили козьи шкуры, так что в народе их называли козлами? Я все прибавлял шагу, хотя знал, что ничего не увижу. Тут меня окликнул Аспер.
Он кивнул мне и прошел мимо, потом вернулся и подозвал меня. С ним был другой гвардеец, он нас познакомил, сказав, что это трибун Гавий Сильван. Атлетически сложенный человек с веселым и приятным выражением лица, с прямыми бровями и глубокой бороздкой над переносицей. У него были спокойные, налитые светом серые глаза, он долго не отводил от меня уверенного, оценивающего взгляда, не проявляя при этом назойливости. Трибун производил впечатление независимого человека, справедливого и бесстрашного, в известном смысле счастливого. Присущая ему отчужденность скорее вытекала из благожелательности и сознания своей силы, чем из эгоистической самовлюбленности. Мне еще не случалось встречать человека, который сразу же производил бы впечатление столь прекрасно контролируемой энергии. Казалось, он сам для себя окончательно определил, в чем ценность человека, и прочно на этом остановился. Однако он не вступал в разговор.
Аспер предложил выпить вина и повел нас вокруг Форума Юлия в Субуру, у входа в которую висели окровавленные бичи. На вывеске значилось: «Львица», но на дверном косяке было написано: «Три Газели готовы к тому, к чему вы готовы, зная, как они к этому готовы». Тут же были нарисованы три обнаженные девушки о головами газелей. За главным помещением виднелся небольшой дворни с увитыми плющом беседками и облетевшими лозами. Жалобно стонала невидимая флейта, на полукруге мозаичного пола танцевала девушка, медленно и плавно изгибаясь под аккомпанемент кастаньет. Мы уселись на широкие скамьи и заговорили об Испании, где Аспер служил некоторое время, после того как был переведен из стражи. Сильван принимал участие в набеге Клавдия на Британию и рассказал несколько эпизодов из этой молниеносной кампании, расчистившей путь для императора. Затем они спросили, что я намерен делать в Риме. Я догадался: им известно, что я живу у Лукана.
— Сам не знаю, — ответил я рассеянно, так как не мог отвести взгляда от танцовщицы, несомненно уроженки Гадеса. Больше нигде она не могла научиться таким плавным телодвижениям, протекавшим единой волной, объемлющей множества кратких пауз и подъемов. Тело двигалось, как некий промежуточный элемент между рыданием флейты и хрупким потрескиванием кастаньет, словно высокая, жесткая нота, углублявшая и разбивавшая гармонию; своей резкостью она отпугивала грацию, дабы обрести ее в новой и опасной форме. Впервые в Риме все во мне слилось в страстном кличе: «Бетика, Испания!» — У меня не было определенных намерений, когда я покидал дом, я хотел лишь выполнить деловые поручения отца. Но теперь я с каждым днем все острее чувствую, что не могу вернуться на родину, пока не обрету другую цель путешествия; но какова она, о том ведомо одному Меркурию!
— Какая может быть еще цель? — спросил Сильван. — Ты молод и, естественно, впечатлителен. Тебе кажется, что в Риме таится некий глубокий смысл, хотя, быть может, и не тот, что тебе открылся в школьные дни при чтении меланхолических стихов Вергилия.
— Да. Порой мне кажется, что я его постигаю. Потом я теряю уверенность.
— Если ты обнаружишь этот смысл, поведай нам, — не без сарказма бросил Аспер.
— Так и надо, — энергично вмешался Сильван, как бы порицая Аспера. — Мы также стараемся постигнуть этот смысл. Асперу совестно, что он в таком возрасте все еще не обрел его. Я тоже его не открыл, однако не стыжусь этого.
— Мы волей-неволей кое-чему научились, — проговорил Аспер; он выглядел теперь унылым, мрачным и закусил нижнюю губу.
— Кое-чему. Крестьянин в нагорьях Далмации тоже кое-чему выучивается между колыбелью и могилой. Но этого недостаточно. Возможно, мы приобрели еще меньше знаний, чем он. — Сильван задумался и стал покачивать кружкой, глядя, как плещется в ней вино. — Я забыл многое из того, чему учился, и, пожалуй, самое лучшее. — Он посмотрел на меня и слегка прикоснулся к моей руке. — Ты поступаешь правильно. Так и подобает мужчине. — И уже с улыбкой спросил: — А ты не подумывал о том, чтобы завербоваться в армию?
— Нет, — поспешно ответил я.
— Пожалуй, это самый худший исход, хотя здесь есть немалые преимущества. Хорошо принести присягу, которая свяжет тебя целиком — и душу и тело… — Он помолчал и отхлебнул вина. — И ты будешь счастлив, доколе будешь сохранять верность присяге.
Тут вмешался Аспер, не скрывая своей горечи, но глядя дружелюбно на Сильвана.
— Он перефразирует только изречение философа. Слушайте, — добавил он, изменяя интонацию, дабы показать, что приводит цитату: — «Да будет известно веем людям, что все вещи на свете, кроме добродетели, изменяют свои наименования и становятся то хорошими, то дурными. Первоначально воина связывают присяга в верности, любовь к его знаменам и отвращение к измене, но в последующем от него будут требовать исполнения других обязанностей и оказывать ему доверие после принесения новой присяги, — так будет с теми, которых ты приведешь к счастливой жизни. Надобно заложить основы и привить людям добродетель. Пусть их удерживает некое суеверное преклонение перед добродетелью, пусть они ее обожают, пусть Они желают жить с ней и отказываются жить бее нее».
Мне хотелось спросить, какого философа он цитирует, но, когда Аспер умолк и отхлебнул вина, я сообразил, что это может быть только Сенека.
— Все это справедливо, — проговорил Сильван, все так же задумчиво разглядывая вино в своей кружке. — Но присяга способна жить своей собственной жизнью. Она может побудить нас отвергнуть то, что мы прежде клялись уважать и охранять, если оно окажется недостойным, так низко падет, что ему уже нельзя будет служить. Присяга может оказаться обоюдоострым мечом, не только силой объединяющей, но и поводом к разладу.
Девушка уже не танцевала, тело ее лишь слегка колебалось, как водоросли, подхваченные легким движением воды.
— У меня слишком беспокойный характер, — ответил я, думая лишь о предложении вступить в ряды войск и еще не догадываясь о скрытом значении слов Сильвана. Я был взволнован, словно меня и в самом деле могли уговорить завербоваться. Эти два человека, особенно Сильван, против моей воли внушали мне понятие о чем-то хорошем и желанном, превознося аскетическое отречение от легкой жизни, сопряженное с военной дисциплиной, к которой я до сих пор испытывал глубокое отвращение.
— Жизнь без цели — жалкая штука. Ценность присяги заключается в том, что она становится мерой всей твоей жизни. Ты приносишь ее и понимаешь, почему природа не терпит пустоты. Служение цели заполнит все твое существование. — Сильван в первый раз взглянул на танцовщицу, у которой руки были подняты кверху и только пальцы слегка шевелились. Все посетители и слуги, кроме самой танцовщицы, имели скучающий вид, словно чего-то ожидали. Возможно, чего-то ждала и девушка. У меня возникла уверенность, что близится некое откровение. Сильван возбудил во мне смутное предчувствие и ожидание яркого озарения — каких-то слов или деяний.
— Пока она танцует, она тоже составляет часть этого целого, — к моему удивлению, тихо добавил он. Я старался не обнаруживать своего внимания к девушке, ибо мне казалось, что он относится к ней с явным презрением. Я захотел спросить, частью какого целого она является, но побоялся, хотя в глубине души понимал, о чем идет речь. «Может, это и есть откровение, — мелькнула у меня мысль, — а я упускаю его». До сих пор мне еще не приходилось испытывать такого состояния, даже когда я впервые прочитал Вергилия и решил, что я тоже поэт.
— Мне по душе Рим, — сказал я, еще сам как следует не зная, что я собираюсь защищать. — Кажется, он живет истинной жизнью. Хотя и знаю, что это «Город, где жизнь сама родилась, как некая чужеземка»[117].
Я вспомнил стих Лукана и процитировал его, опровергая свое высказывание. Сейчас эта строка приобретала совсем другое значение, чем то, какое я ей раньше приписывал. То не был выпад против притока рабов, вольноотпущенников и жителей Востока, но указание на нечто, крепко укоренившееся в Риме и расколовшееся в себе самом. То было нечто гнездящееся в самом сердце римского общества и непрестанно ухудшающееся, более того, обреченное ухудшаться. Я подумал об одетых в козьи шкуры членах братства, вышедших из своей пещеры и бегающих вокруг Холма, который являлся центром вселенной, и порадовался, что не попал на это зрелище, а вместо того встретился с преторианцами. То были остатки древних, уже изжитых верований. Центр вселенной находился здесь, и я чувствовал всю значительность слов и умолчаний Сильвана, который был мне и близок и далек. Я колебался, желая дать пояснение к строке Лукана, не вспугнув неожиданно открывшийся мне смысл. — Нельзя отрицать наличия жестокости, страданий и нищеты, но есть и нечто искупающее. Все это — Цель, то самое, чего вы так жаждете.
Я испытал разочарование. Возможно, я сказал правду, но это было совсем не то, что я ощутил в миг восторга, вызванного стихом.
— Да, цель, но какая? — спросил Сильван. — Она есть. Разумеется, она есть. Иначе разве дерзнули бы мы называть себя людьми? Но попытайся ее уловить. Открой, где она. Попробуй ее взвесить и купить на вес в лавке. — Он глотнул вина и пристально посмотрел мне в глаза. — Кто может сказать, что обладает ею? Без этой цели остается только убийство. А при наличии ее — свершение справедливости. Единственное, во имя чего стоит жить.
Аспер осмотрелся по сторонам. Девушка оканчивала свой танец легкими скользящими движениями, подобными ветру, срезающему гребешки волн. Подобными волнам, вздымающимся и опадающим в вечном движении. Да, наши гадесские танцы отражают вихревое кружение ветра и воды. Сидевшие за соседним столом ушли, и в таверне, кроме нас, оставался еще один человек, уснувший у противоположной стены. В наступившей тишине я почувствовал, как меня захлестывают мысли этих воинов. Я испугался. Чего? Предложения, с которым они могли ко мне обратиться? Особенно я считался с Сильваном. Я был вполне согласен с его словами. По существу, в них было едва ли больше смысла, чем в сотнях поэм и речей, какие декламируют в школе. Но слова, произнесенные со спокойной силой убеждения, в такой момент, таким человеком, были необычны и приобретали характер вызова — ничего общего с привычным восхвалением могущества Рима, на котором я был воспитан с пеленок. Это не звучало как критика системы, обладающей теми или иными недостатками, критика, вполне приемлемая, которая при наличии известного такта и умения заигрывать с народом может помочь человеку сделать карьеру. Нет, тут было отрицание всего в целом. Мне вспомнились слова, сказанные им о присяге, и до меня лишь теперь дошел их смысл. Так случается, когда подлинное значение присяги, ее священный смысл чужды лицам и установлениям, которым она приносится, и она требует верности только ей самой, словам, заключающимся в ней понятиям о справедливости, истине, законе, свободе. За эти высокие идеалы боролись и проливали кровь римляне в сражениях на протяжении долгих веков. Однако не все было для меня ясно. Я не понимал, что отвергали эти люди, чего они хотели. Но у меня было ощущение, что не Стоит жить, если этого не уяснишь.
Первым заговорил Аспер.
— Полезно помнить минувшие события и читать историков, которые порой пишут правду, хотя бы из самых недостойных побуждений. — Он вполголоса процитировал: — «Свобода обладает собственной силой и не зависит от посторонней воли». Ты согласен с этим? — В этот миг из-за занавески вышла танцовщица, поправляя свои грубые густые волосы, и он ее окликнул: — Принеси нам еще вина, Газель, и выпей с нами на прощание кружку.
По Форуму были развешены таблички: начальник города в архаических выражениях извещал, в какие дни в различных округах города будет справляться Праздник Печей. Я вычитал у Овидия, что это празднование совпадает с днем Праздника Шутов, но не замечал на улицах никаких признаков шутовства. Мы пообедали с Афранием, и на несколько часов я был предоставлен самому себе. Я хотел было навестить Марциала, но мне подумалось, что у него создастся впечатление, будто я в нем нуждаюсь и не знаю, как убить время. Мне надоели моя маленькая комната, полутемная библиотека, сырой сад, вдобавок дул холодный ветер и гнал по небу вереницы непроглядных туч. Меня истомили бесплодные размышления. Воспоминание о беседе в таверне «Львица» вызывало у меня еще большее смятение и тревогу. Чего хотел от меня Сильван?
Я очутился в Субуре, где на каждом шагу трущобы, притоны, мастерские ремесленников и винные погребки. Мое внимание привлекла группа евреев, стоящих возле синагоги, но я не мог понять, о чем они говорят. Немного поодаль я увидел храм Изиды и в нерешительности остановился у входа. Изнутри доносилось непрерывное пение, и легкие волны музыки то становились громче, то замирали, но я не мог уловить мелодии. Как отличаются, подумалось мне, от всего остального населения евреи и последователи Изиды, для которых храм является постоянным центром ритуальной деятельности, совещаний и обсуждений. В Городе существуют общины людей, ревниво и страстно придерживающихся своей религии, твердо установленного образа жизни; на минуту мне показалась привлекательной их преданность вере и обособленность. До этого дня я считал, что такие общины чужды мне и нежелательны, пожалуй, их можно терпеть как неизбежное зло, а в иных случаях следует запрещать, ибо они проявляют фанатизм и враждебны обществу. Религия — форма гражданской жизни, господствующая и в семье и во всем городе; средство для обуздания и управления неведомыми и опасными силами, которые используют для всеобщего блага или вычеркивают из повседневного обихода; средство для обезвреживания этих сил, из-под власти которых вырывают мужчин и женщин, занятых своими делами или развлечениями. Но религиозные братства евреев или поклонников Изиды стремятся усилить эту власть над людьми, сделать ее постоянной, подчинить повседневную деятельность ее опасному могуществу. Раньше я видел только эту темную, гнетущую сторону. Теперь я почувствовал обаяние замкнутой общины, ежедневно строго исполняющей широко разработанный ритуал, проникнутый верой в то, что божественные силы в ответ на неотступные мольбы приходят на помощь в каждое мгновение жизни. Достаточно было стать членом такого братства, быть усердным и преданным, чтобы удостоиться общения с божеством.
Я увидел одетого в лохмотья мальчика с обручем в руках, девочку с грязными ногами, вплетающую красную ленту в волосы, лавочника, продающего ножницы поселянке с корзинкой яиц. Эта уличная картинка захватила меня. Яркий миг жизни, самоупоенной, чуждой волнениям и размышлениям, поглощенной бездумной радостью, целиком меня захватил. Мне ничего не нужно было ни от Матери Изиды, ни от требующего обрезания имеющего образ осла бога евреев, ни от Сильвана с его невысказанными, преследующими меня вопросами. Все же я чуть не на цыпочках прошел мимо храма, словно опасаясь потревожить кого-то неведомого, нарушить покой духов, которым надлежит дремать во мраке преисподней.
Афраний жил на Квиринале в маленьком доме, битком набитом бронзовыми статуями.
— Мне надо переехать в более просторное помещение или продать свою коллекцию, — повторил он несколько раз. Мы переходили из комнаты в комнату, он показывал Лукану свои новые приобретения. Я плелся позади, мне непонятны были употребляемые ими специальные термины, какие в ходу у знатоков, обсуждающих каждую покупку. И вообще я был рассеян и лишь к концу обеда, когда разговор зашел о литературе, стал обращать внимание на то, что творилось вокруг меня. Сидевший с нами за столом Мунаций Грат упомянул о книге Фабиана Папирна «Обязанности гражданина», отдав должное приятной и убедительной манере автора… Афраний заявил, что это всего лишь набор кое-как составленных фраз. Грат согласился, что Фабиан не старался писать в модной манере.
— Он создает характеры, а не слова. Пишет для нашего разума, а не для слуха. Философу не подобает быть трусливым. Бели он раб своих выражений, то будет ли он храбрым и стойким в жизни?
— Вот и отлично, — усмехнулся Афраний. — Пусть он будет храбрым и стойким, сколько душе угодно, а слова оставит в покое.
— Слова требуют дел, и дела нуждаются в словах, — упорствовал Грат.
Афраний был слишком взволнован, чтобы оставаться на своем ложе. Он поднялся и подошел к статуе мальчика в натуральную величину, завязывающего сандалию. Он провел пальцем вдоль его бронзовой спины.
— Все зависит от того, каковы слова и каковы дела.
— Как раз выбор слов у Фабиана превосходный, — сказал Грат, — пусть даже он за ними не охотится и не мучает их. Согласен, он не употребляет их в нелепых сочетаниях и в превратном, смысле. Но идеи не обязательно выражать в форме афоризмов.
— Все это дело вкуса, — вставил другой гость, Марций Фест, человек из среднего сословия, рыжеволосый и подверженный внезапным приступам смеха. — Есть люди, которым нравится Цицерон с его размеренной поступью. Другим по вкусу, если фраза неожиданно обрывается. Как, например, у Азиния Поллиона, который оглушает вас внезапным ударом. — Он оглушительно захохотал. — Браво, Поллион!
Я заметил, что Лукана раздражают нападки Грата на изысканный стиль. Ему хотелось возразить, но он выжидал. Когда наконец замолк хохот Феста, он сказал с добродушным видом, но серьезно:
— Разумеется, это дело вкуса. Но откуда берется вкус? Все дело в характере человека, а он всецело зависит от политических взглядов.
— Ты хочешь сказать, что можно по стилю определить политические симпатии человека? — спросил Афраний, делая рукой какие-то промеры на статуе.
— До известной степени, — ответил Лукан. — Возьмем, например, Цицерона с его умением постепенно понижать тон, с неизменным ритмическим построением фразы. Разве нельзя угадать, что перед нами выскочка из Арпина, который пытается уверить пае, что он унаследовал вековую культуру Рима И ратует за дружеское объединение всех собственников против крайностей радикалов и консерваторов? Разве не почувствуешь в Саллюстии, с его обрубленными фразами и туманной краткостью, человека, желающего преобразовать распущенный мир? Приверженность к тирании — в изощренном и пряном языке Мецената? Стиль не что иное, как выражение духа человека. Если у человека душа здоровая и бодрая, то стиль у него энергичный и он достигает своей цели. Если душа утратила равновесие, его творчество приходит в упадок. Слова обоготворяют или уничтожают.
Он одушевлялся по мере того, как говорил, и теперь не знал, как ему закончить. Голос его прозвучал резко, и фраза оборвалась на какой-то неопределенной ноте.
— Мне по вкусу, когда душа проглядывает сквозь плоть, — сказал Афраний. — Тогда жизнь становится интереснее. Такое стремление обнаруживают те, кто выщипывает или прореживает себе бороду или обнажает одну верхнюю губу, предоставляя остальным волосам расти, как им вздумается, или те, кто носит прозрачную тогу и никогда не изволит делать того, что может пройти незамеченным.
Он облокотился на плечо бронзового юноши и кивнул Трифону, своему любимцу, который лежал на разбросанных на полу подушках, одетый в короткий пурпуровый плащ; его сандалии были украшены рубинами.
Лукан уже овладел собой.
— Если позволительно сравнивать мелочи с важными предметами…
— Несомненно, позволительно, — подхватил Афраний. Он положил ладонь на голову Трифона, которому это явно не нравилось, и заставил его принять почти такую же позу, как у бронзового юноши. Затем он сдернул с Трифона плащ и запустил агатовой застежкой в серебряное зеркало.
— Не шевелись, — приказал он и отошел, чтобы полюбоваться на расстоянии. — Какое поразительное сходство! В котором из двух больше изящества? В котором из них больше жизни?! — спросил он восторженно. Мальчик и статуя в самом деле составляли прекрасную пару, хотя Трифон выглядел более вялым и, казалось, был менее способен действовать. — Пойди сюда, я тебя поцелую, капризный слепок с классического образца!
Мальчик выпрямился и лениво вернулся на свои подушки, преувеличенно виляя бедрами, не то с вызовом, не то от смущения.
— В таком случае, что ты скажешь о современной моде? — лукаво спросил Лукана Фест. — Насмешка над нормальными понятиями. Все, что было некогда принятым, ныне считается недостойным. Всюду новшества — как в языке, так и в прическах. Устаревшие и старомодные слова сталкиваются с жаргоном притонов. Одни метафоры, и никаких фактов. Мысли даны так обрывисто, что читатель недоумевает и готов обвинить себя в недостатке сообразительности. Или, наоборот, так пространно, что теряется смысл в избытке пустословия.
— Смесь вырождения и бунтарства, — сказал Лукан, теперь уже совсем успокоившийся.
Афраний встал, слегка покачиваясь и теребя нос. Потом он нагнулся и поднял Трифона.
— Я вернусь через несколько минут, друзья, — сказал он. — Извините мои дурные привычки. Или одобрите их.
Несколько дней спустя я встретил мать Лукана Ацилию. Меня уже представили его отцу, ведавшему сбором императорских податей; у него были те же черты, что у сына, но в несколько меньшем, как бы усохшем масштабе, сморщенная шея и жилистые руки, чуть скошенный рот и маленькие глазки. Скрытность, едва проглядывавшая в сыне, в отце была ясно выражена. В молодости он изучал риторику, но бросил учение, чтобы заняться финансовыми делами, составлявшими теперь содержание его жизни. Мне он не понравился. На меня он не обратил внимания, его интересовали только дела, и он тут же пустился в сложные денежные расчеты с Луканом и домашним казначеем. Уже уходя, он обратился ко мне:
— Я послушал бы, что ты мне расскажешь о торговле в Бетике.
При этом он скривил рот, словно был заранее уверен, что от меня нельзя узнать ничего заслуживающего внимания и обращение ко мне было лишь данью уважения начальнику города Кордубы. Жена этого тощего финансиста, с которой он развелся, существенно отличалась от него тем, что проявляла чрезмерный интерес к моей семье. Не в пример прочим Аннеям она живо интересовалась своей родней из Бетики и несколько раз навещала Кордубу. Ацилия принялась настоятельно расспрашивать меня о многочисленных родственниках и друзьях. О большинстве из них я не знал ничего либо очень мало, разве что кто-то из них тяжело болен, страдает подагрой, умер, одряхлел, в отставке, стал бременем для своей семьи и его имя вспоминают лишь, когда гадают о составленном им завещании. Она приставала ко мне с тетками, о которых я никогда в жизни не слыхал, и в общем я обнаружил такое чудовищное невежество по части родственников, что стал опасаться, как бы она не объявила меня самозванцем.
Она носила давно вышедшую из моды прическу. Начесывала волосы на уши легкой волной, спереди завивала их, и получалось нечто вроде валика с мелкими локонами по бокам, приглаженными плотно к впалым вискам. Решив, что перед ней молодой человек на редкость тупой, она продолжала расспросы терпеливо, но не без язвительности. Лишь в немногих случаях мне удалось удовлетворить ее жажду подробных и точных сведений.
— А ведь я не слыхала, что Луцилия умерла, — повторяла она с явным удовлетворением. — Подумать только: умереть в ее годы оттого, что ужалила оса! Нелепо. И все же это меня не удивляет. Раз уж речь зашла о ней, я не могу не вспомнить, как мы однажды поехали на ферму ее деда в Скалистых горах и у нее в волосах запутался воробей. Она так испугалась, что едва не выпала из коляски. Потом мне стало ясно, почему через три месяца у нее случился выкидыш. — Она обратилась к сыну: — Подумать только: Луцилия умерла. Всего лишь от укуса осы.
Лукан рассеянно на нее взглянул и кивнул головой. Спросив вторично, вернулась ли Полла, она снова принялась за меня.
Высохшая женщина с длинным лицом, жестким и гладким, как пергамент, покрытым, сетью мелких морщин. Она двигалась энергично, но как-то толчками, словно каждый член ее подчинялся отдельному волевому импульсу, не вовлекающему в движение все тело. Она вечно торопилась, как будто у неё было по горло неотложных дел, хотя на самом деле не знала, чем заполнить свой досуг.
Мы прогуливались с ней по саду, и пушок на ее губах и подбородке походил в лучах солнца на желтую пыль. Дорожка, окаймленная самшитом и миртами, выводила к фонтану, в котором струйки воды били из серебряных трубок. Кусты вокруг были подстрижены и напоминали огромных птиц. Когда мы подошли к фонтану, она осмотрела трубки, дабы удостовериться, что рабы не поцарапали их и не отломили ни кусочка серебра. Она плотно сжимала губы. Губы ее были полнее, чем можно было ожидать при ее худобе, и не совсем утратили следы тонкого рисунка. Феникс передал мне со слов слуг, что она не ладит с Поллой. Я подозревал, что та, застигнутая врасплох посещением свекрови, заперлась в своих комнатах и заставила Лукана сказать, что ее нет дома.
— Я помню твою мать, молодой человек, — снова заговорила Ацилия, словно в чем-то меня обвиняя. Она стояла, расставив ноги, скрестив руки на плоской груди. Тут она свирепо поглядела на меня. — Я нередко задавала себе вопрос: как воспитает она своего сына? Еще в одиннадцатилетнем возрасте она играла в куклы и плакала над куклой, разбитой на куски. Твоя мать была верна своим привязанностям. Теперь расскажи мне, что ты поделываешь в Риме? Почему ты остановился у Марка? Разве у тебя нет других знакомых или друзей? Долго ли ты пробудешь здесь?
Я смущенно пробормотал, что ее сын любезно пригласил меня к себе.
Она недоверчиво взглянула на меня и закивала головой, как бы запоминая, что ей предстоит собрать дополнительные сведения обо мне и моем положении в доме ее сына. Несколько раз в разговоре она привела поговорку, бытующую в Бетике: «Что посеешь, то и пожнешь», и при этом с довольным видом кивала головой. Я обрадовался, когда она ушла, правда, обещав вскоре прийти снова и повидать меня.
— Я, конечно, забыла еще о многом тебя расспросить. Мне хочется побольше узнать о стеклодувне, которую, по твоим словам, твой дядя Гней собирается открыть в Гадесе. И правда ли, что растут цены на землю? Но сейчас я тороплюсь к своей подруге Канинии — если я опоздаю, она решит, что со мной что-нибудь случилось. Я всегда очень точна.
Я прогуливался по дорожкам сада, когда передо мной очутился Феникс, появившийся откуда-то со стороны кухонь. Он облизывал губы. Некоторые рабы, приехавшие из деревни, приносили жертвы в конце аллеи. Глиняный черепок, увитый дешевыми цветами, пригоршня зерен, несколько крупинок соли, хлеб, смоченный в вине, — все это в битом горшке. Чтобы умилостивить умерших. Феникс видел, как собаки обнюхивали благочестивые приношения, съедали хлеб и мочились на эти горшки. Капразия, старуха, пользовавшаяся у боявшихся ее кухонных служанок репутацией колдуньи, выполняла кое-какие обряды в честь богини Молчания, при этом болтая без умолку. Она совала три кусочка ладана в мышиную норку под порогом, перевязывала нитками кусок темного свинца и что-то шептала, держа во рту семь черных бобов. Жарила рыбью голову, предварительно зашив ее в тряпку, обмазав смолой и истыкав иглой. Чуть-чуть смочив волосы вином, она распивала остальное вместе с девушками.
— Мы связали вражеские языки, — весело говорила она им. — Мы заткнули рты врагам. С вами, девушки, целый год ничего не случится!
— Это Паренталии, — объяснил я Фениксу. — Праздник в честь предков. В полях скоро возродится новая жизнь.
— Да, в Укубах, — сказал он, качая головой.
Минут через десять в сад вышла Полла. Увидев меня, она улыбнулась.
— А ведь я здесь. Благодарю тебя за то, что ты принял на себя нападение старой матроны. Она прекраснейшая мать на свете — готова это признать, лишь бы мне не встречаться с ней. — Полла подошла поближе. — Скажи Марку, что ты от нее в восторге, — онбудет счастлив. Хотя и его не слишком радуют ее посещения.
Мы стояли у фонтана. Поллу сопровождала юная рабыня Герма, чье повернутое в профиль овальное лицо обладало странной прелестью. Она мне кого-то напоминала.
— Не отрицаю ее достоинств, — ответил я, усмехнувшись. — Только она меня заговорила.
— Ты доволен своим пребыванием в Риме? — спросила Полла, и я ответил, что очень доволен. Тем более что, живу у таких хозяев.
— Это хорошо. Надо радоваться всему, даже Риму. Мне говорили, что ты встретил своего земляка Марциала. Вот человек, который мне нравится, но… — Обиженно надув губы, она сообщила, что Марк его недолюбливает и не приглашает к обеду.
— Выдающийся человек, — подтвердил я не без ревности.
— Свежо. — Она поежилась. — Мне не хотелось выходить. Но так надоело сидеть взаперти столько часов подряд, что я решила проветриться, как только узнала, что мне ничто не угрожает. — Она улыбнулась и ушла. За ней последовала Герма, украдкой бросив на меня взгляд.
Я с удовольствием отправился в библиотеку, чтобы снова почитать Персия. Я вынул свиток из боковой ниши, где он хранился. Но не стал его развертывать, а стоял, вертя его в руках и улыбаясь, вспоминая Поллу и ее лицо цвета слоновой кости, отраженное в воде. Что было еще, кроме золотых серег? Я старался припомнить ее образ. Тут кто-то тихо вошел. Я решил, что это старый библиотекарь.
— Скажи ему, что я не хочу, чтобы он посылал мне записки, понял? — послышался голос Лукана, говорившего четким, резким шепотом.
— Да, понял, — ответил дерзкий молодой голос. — Я ему скажу, но он все-таки поступит по-своему.
— Он не должен, — мрачно сказал Лукан. — Это опасно.
— Почему ты сам ему не скажешь?
— Скажу. Что он еще говорил?
— Ничего. Только то, что хочет тебя видеть.
— Я увижусь с ним завтра, как было условлено.
Я вовсе не хотел подслушивать. Но когда начался разговор шепотом, мне стало так неловко, что я решил не выдавать свое присутствие. Между тем мальчик ушел. Теперь я узнал голос Трифона и недоумевал, почему Лукан так расстроился, получив записку от Афрания. Что могло быть в этом опасного? Я слышал, как он чем-то чиркал. Вдруг у меня запершило в горле. Слушая, я сдерживал дыхание. Но тут я закашлялся и вышел из своего убежища.
— Кто там? — с бешенством в голосе крикнул Лукан. Потом я понял, что за этим бешенством прячется страх.
— Это я, — сказал я и увидел, что Лукан старался зажечь стоящую в нише светильню при помощи серной спички.
— Что это значит? — резко спросил он.
— Ровно ничего. Я попросту пришел сюда за свитком.
— Незачем было прятаться.
Я в свою очередь рассердился.
— Я и не прятался! — Мне было неловко, что я невольно подслушал, я растерялся и, конечно, не вышел бы из роли свидетеля, пассивно наблюдающего за происходящим. Но непонятный страх Лукана, его неловкие попытки уничтожить опасную записку пробудили во мне подозрения: очевидно, тут нечто необычное, противозаконное, быть может, измена. Я дал волю своему гневу.
— Я зажгу тебе эту штуку. Я умею орудовать кремнем. — Через несколько минут я зажег светильник и три свечи в подсвечнике. — Вот. Теперь жги, что ты хотел жечь.
Он стоял молча, наблюдая за мной, слегка наклонив голову, недовольно нахмурив брови. Дрожащей рукой он поднес клочок папируса к пламени свечи, записка вспыхнула, стала свертываться, почернела. Лукан растер на полу осыпавшийся пепел. Потом устремил на меня взгляд своих черных непроницаемых глаз. Казалось, он совершенно выдохся.
— Должно быть, ты ничего не понимаешь.
Я задул светильник и свечи.
— Это меня не касается.
Он пристально поглядел мне в глаза и взял меня за руку.
— Могу ли я тебе довериться, Луций?
Тут я почувствовал свое превосходство, я был хозяином положения. Я был ему признателен за то, что он дал мне случай почувствовать свою власть. Я не ожидал этого от себя.
— Во всем, что достойно мужчины.
— Это главное, — прошептал он. — Что же достойно мужчины?
Он приблизил ко мне лицо, растерянно уставившись на меня, потом отступил назад. Меня поразил его дикий взгляд, его болезненный вид, он сразу постарел, теперь он напоминал мне изваяние дяди.
Я отвечал:
— Те тайны, какие ты доверяешь Афранию, ты вполне можешь доверить и мне.
Я чувствовал, что голос мой звучит убедительно и твердо. Но я не придавал своим словам серьезного значения. Мне важно было только остаться на высоте положения — сохранить превосходство над Луканом. Как будто я отплачивал ему за его доброжелательную снисходительность и покровительство, мы с ним внезапно поменялись ролями.
Мои слова и тон, какими они были произнесены, оказали свое действие. Он успокоился и вздохнул.
— Но ты еще так молод, друг мой.
— Всего только на год моложе тебя.
— Нет, на много лет. Моложе на целый мир. — Он снова вздрогнул.
— В таком случае я предлагаю тебе эту молодость, этот мир.
Я убедился, что одержал верх и вышел победителем. На что я себя обрекал, не имело для меня в это время никакого значения. Я был озабочен только своими отношениями с Луканом. Но вот он заговорил спокойно, почти весело:
— Ты просил меня показать последние главы «Фарсалии». Теперь я тебе прочту их. Пойдем.
Мы расположились в комнате, где на стенах были изображены морские пейзажи и морские чудовища.
— Здесь нам никто не помешает.
Два ложа, инкрустированные перламутром. Огромная раковина из Индийского океана. Лукан хлопнул в ладоши и велел принести легкого суррентского вина, а библиотекаря послал за рукописью, хранившейся в запертом шкафу.
— Я же стану читать все подряд, — сказал он, прикасаясь к рукописи с каким-то благоговейным страхом и отвращением. Как будто там заключалась частица его души и нечто ниспосланное божеством. — Я выберу лишь то, что считаю наиболее удачным, и буду пояснять, как эти отрывки связаны между собой.
Все еще исполненный чувства своего превосходства, я поблагодарил его от всей души. И он стал читать.
Сперва мне было трудно сосредоточиться. Отчасти потому, что я все еще переживал сцену в библиотеке. Знаменательная минута моей жизни, когда я вдруг перестал быть жалким приживальщиком поэта и оказался с ним на равной ноге. И тут же, не без угрызений совести, я осознал, что ежедневное общение с поэтом незаметно выветрило уважение, какое я испытывал к нему. Нельзя было не ощущать волнующий контраст между человеком, который читал слегка напыщенным и неустойчивым тоном, и поэмой, где высказывалось беспощадное суждение о Риме и о его истории. Я разглядывал морскую раковину, раздумывая, смогу ли, если приложу ее к уху, услыхать приглушенный рев океанских волн. Через некоторое время Лукана увлекли стихи, и он стал читать лучше. В его голосе теперь слышались отзвуки океана.
Я собрался с мыслями. Передо мной был ответ на сцену в библиотеке — в выражении лица поэта, в его уверенном голосе, в напряженном ритме, в дерзких словах. Поэма становилась действительностью, глашатаем которой был человек, вынужденный в чем-то превзойти себя. Но овладела ли заключавшаяся в поэме сила человеком до мозга костей, заставляя его волю и тело выполнять ее повеления? Не толкала ли она его на деяния, которых он страшился, но которые гармонировали с его эпическим гневом? Бесспорно, поэма воплощала в себе Рим. Борьбу свободы и тирании. Мне было неясно, соглашался ли я с суждениями о современном историческом моменте, высказываемыми в ней, или отвергал их. До меня доходило нечто скрывавшееся за ними. Моральный импульс, столь же абсолютный, как дух жертвенности, который я почувствовал в Сильване.
Мне внезапно открылся смысл слов Сильвана. Хотя бы частично. При нынешнем положении вещей никто не может чувствовать себя настоящим римлянином. И все же в окружающей нас действительности глубоко таились силы, заставлявшие его искать римскую правду, которой бы он мог себя посвятить. Подхваченный мрачной силой стихов, я чувствовал, что для меня наступил роковой момент выбора. Я должен вмешаться, хотя и бессилен повлиять на события. Мне представилось государство римского народа, раздираемое анархией и деспотизмом. Я увидел, как подкапываются под фундамент, на котором была основана власть закона. Я понимал, что между взглядами Сильвана и Лукана глубокая и значительная разница. Но в одной точке они сходились. В моей душе продолжалась борьба.
И вместе с тем, хотя я я не усматривал слабых мест в его объяснениях, я не представлял себе, что картина исторических событий могла бы сложиться по-другому. Разве можно было иным путем водворить мир и порядок, иными средствами положить конец столкновениям крупных землевладельцев, средних коммерсантов, владельцев крупного капитала и безземельных поселян? Сердце мое соглашалось с картиной, нарисованной в поэме, но мой разум ее отвергал. И это было мучительно.
«Други походов моих, что избрали одно лишь спасенье —
С непокоренной душой умереть! Собирайте все силы —
Подвиг великий свершить и вынести тяжкие муки.
Ныне в пески мы идем, в сожженные области мира,
Где пламенеет Титан, где редки источников струи,
Где в иссушенных полях кишат смертоносные гады:
Труден наш путь любви к закону и родине павшей!
Пусть в бездорожье пойдет, пусть в ливийские двинется дебри
Тот, кто в горячих мольбах не мечтает куда-нибудь выйти,
Тот, кто готов лишь идти; никого не хочу обмануть я
И увлекать за собою войска, свой страх прикрывая:
Будь же мне спутником тот, кого возбуждает опасность,
Тот, кто считает со мной, что для римлян лучшее дело —
Злейшие беды сносить; если ж воин поруки в спасеньи
Хочет и тянется он душою к радостям жизни, —
Пусть себе ищет вождя для лучшей дороги! Я первый
В эти пески углублюсь, я первый поставлю в них ногу:
Пусть небеса меня зноем палят, пусть полная ядом
Жалит змея; на судьбине моей испытайте опасность,
Что угрожает и вам»
[118].
Мог ли я оставаться глухим к этому боевому кличу, призыву, требовавшему от меня верности? И мог ли я не ответить на них чистосердечным согласием? Я готов был поцеловать край одежды поэта, когда он прочей обращение героя к Оракулу:
Что мне спросить, Лабеон? Предпочту ли свободный с оружием
Лучше уж я умереть, чем видеть господство тирана?
Есть ли различье для нас меж краткою жизнью и долгой?
Или — вредит ли насилье добру? Побеждает ли доблесть
Всякие козни судьбы? Желать ли нам славы и чести
И не считать, что они от успеха становятся больше?
Знаем мы это давно, и Аммон не уверит нас глубже!
Преданы все мы богам, и пусть безмолвствуют храмы, —
Мы не творим ничего без воли всевышних; не словом
Нас принуждают они: говорит нам творец при рожденье
Все, что дозволено знать. Неужели пустыню избрал он,
Чтобы немногим вещать, в песках эту истину спрятал?
Разве не бога приют — земля, и море, и воздух,
Небо и доблесть? Зачем всевышних сверх этого ищем?
То, что ты видишь вокруг, в чем движешься, — это Юпитер!
Нет, прорицанья оставь нерешительным, вечно трусливым
Перед грядущей судьбой: меня не оракул уверит,
Но убедит меня смерть: «Погибнет и робкий и смелый!»
[119]
Наконец он умолк. Его одушевление сразу погасло.
— Это все, что я написал, — сказал он слабым голосом, глядя на меня с таким выражением, словно судьба его поэмы зависела от моего ответа.
Мое волнение улеглось, овладевшие мною смятение и возбуждение затихли, как отдаленные раскаты пронесшейся грозы. Однако у меня было что сказать. Я ухватился за метафору, которая пришла мне в голову:
— Великое произведение. Словно молния ударила рядом со мной, но я чудом уцелел. Я встревожен, измучен, но счастлив.
С минуту он молчал, стал спокойнее, на лбу у него выступил пот.
— Я тоже встревожен. Измучен. Вряд ли счастлив. Но не могу заставить себя молчать.
Я отважился выговорить то, что больше всего боялся сказать:
— Что мы должны делать? Можем ли мы обратиться к прошлому?
— Нет, но мы можем повлиять на ход событий. Республика утеряна, это не значит, что мы должны потерять и свое человеческое достоинство. В этом завет Катона. Он боролся с неизбежным. Пусть он умер. Он боролся, как мужчина. Его мужество должно нас вдохновить.
Мне показалось неуместным сообщать, что я не поклонник Катона. Я решил спросить о Другом. Почему Лукан и некоторые люди ненавидят Нерона? Теперь было очевидно, что он им ненавистен.
Я слышал о разных преступлениях, приписываемых императору. Но дело почти всякий раз шло о тайных интригах и соперничестве в стенах Божественного Дома. Даже если худшее, что о нем говорили, было правдой, разве это подрывало самый строй империи? В Кордубе мы полагали, что налоги и рыночные цены имеют больше значения, чем слухи о кровосмешении или матереубийстве. Слухи передавались на ухо в надежном месте. Все это касалось лично нас не более, чем темные загадки и все ужасы и страдания, какие встречаются в древних афинских трагедиях. Было нечто, роднившее образы императоров с богами и героями прошлого, нечто непостижимо прекрасное и ужасное, но, уподобляясь актерам, они, как это ни странно, приобретали человеческие черты. Оказавшись в сплетении трагических обстоятельств, в которых погибли бы простые смертные, они оставались целы. Это даже успокаивало нашу совесть, ибо мы видели у них наши пороки, возведенные в превосходную степень.
— Я это понимаю, — сказал я, запинаясь, охваченный необычным страхом. Я чувствовал, что мой ответ Лукану будет иметь роковые последствия. — Клятва, которая заставит человека пожертвовать жизнью, невзирая на его личные требования. Требования, не допускающие компромисса. Все это я понимаю, но…
— Но что? — спросил Лукан.
Я промолчал. Я чувствовал, что он изучает мое лицо, во взоре его отражались своенравие, упрямство и горячая мольба. Я уже наблюдал у него подобное выражение, но раньше оно не так бросалось в глаза.
— Я понимаю, — повторил я, отказываясь от своей оговорки.
Теперь его страх прошел, и было досадно. Мне хотелось встать и уйти. Очутиться на милой моему сердцу улице, где царят насилие и обман. Что заставляет человека, у которого такая жена, как Полла, впутываться в рискованные заговоры? Мне вдруг почудилась ее близость, словно повеяло странным ароматом цветка, словно она прижалась ко мне головой.
— Можем мы тебе доверять? — спросил Лукан. — Голос его звучал повелительно. Я наклонил голову. Он продолжал спокойнее: Я знал, что не обманусь в тебе. Мне уже давно казалось, что я обладаю способностью распознавать характер человека. Ты явился как раз вовремя.
Впоследствии я узнал, что он нанял звездочета, который сообщает ему вещания светил, но в ту минуту я не понял смысла его слов. Тем острее я сознавал, что попался в западню, что глупо дал себя поймать. Я чувствовал усталость. Я больше не испытывал любопытства. Я опасался лишь одного: как бы мне не доверили еще какие-нибудь тайны. Поэтому я почувствовал облегчение, когда он позвал библиотекаря и велел ему убрать свитки. Он схватил меня за руки, устремил на меня взгляд, в котором читался страстный призыв — или уверенность, что он покорит меня и сделает своим бездумным последователем? — и, сказав, что опаздывает на деловое свидание, ушел.
Библиотекарь вернулся к обсуждению первой сатиры Персия.
— Вряд ли он заимствовал у Горация имя Лабеон, которое тот использует в своих сатирах для обозначения слабоумного человека. Персий, между прочим, относился с великим уважением к юристу Лабеону за его республиканские взгляды. Я лично сомневаюсь, чтобы он стал мишенью насмешек для Горация. Персий, бесспорно, был воспитан на трудах поэта раннего Периода, особенно его сатиры…
Тут он недоверчиво взглянул на меня из-под кустистых седых бровей. Желая переменить тему, я спросил его о подробностях жизни Персия. Он сказал мне, что ритор Вергиний Руф, учитель поэта, еще жив и по-прежнему преподает. Вот кто мог бы многое рассказать о нем. Когда Персию было шесть лет, его овдовевшая мать снова вышла замуж. Затем она вторично потеряла мужа. Некоторое время поэт колебался, заняться ли ему поэзией или стать военным. Странная нерешительность — ведь сатиры изобилуют саркастическими выпадами против примитивной грубости армейской жизни. Но возможно, что Персия так же влекло к ней, как и Сильвана, и он своими сарказмами отбивался от этого влечения. Луций Анней Корнут, трагический поэт и философ, учивший как Персия, так и Лукана, находился в изгнании.
Библиотекарь понизил голос, и я расслышал лишь половину его рассказа, так как разглядывал нарисованного на стене тритона, изо всех сил дующего в раковину. Корнут отговаривал Нерона последовать совету приближенного и продолжить поэму о Трое, доведя ее до четырехсот книг. Когда император указал ему, что философ, которого он чтил, написал трактат таких размеров, Корнут ответил: «Но ведь его работа была на пользу человечеству».
Я снова вышел в сад. Рассказ о Корнуте в слегка искаженном виде ходил и в Кордубе, но там я едва обратил на него внимание — мне казалось, что он имел столь же мало отношения к настоящему времени, как, скажем, занятный эпизод из сказания о Семи Мудрецах. На изрядном расстоянии он выглядел столь же далеким, безобидным и маловажным, столь же чисто символическим, как миф об Эдипе или Иксионе. Поучительно, но нет прямого отношения к нашему кипучему миру, занятому делами и веселящемуся. Разгуливая среди вечнозеленых деревьев, я сказал себе, что на следующий же день покончу с отговорками и проволочками. Отнесу Юлию Присциану свои залежавшиеся рекомендательные письма, улажу все необходимое и покину дом Лукана. В самом деле, не мешало бы назначить день для отъезда на родину. Честолюбивые литературные замыслы и участие в высокой политике Города были не для меня. У меня вовсе не было склонности сознательно влачить жалкое существование, подобно Марциалу, в надежде когда-нибудь сделаться второстепенной знаменитостью. Меня подбадривали мысли о моем ничтожестве. Я никто — так пусть же я навсегда останусь таким! Я испытывал крайнее смятение, но утешал себя, что сужу обо всем хладнокровно и ясно, Я четко представлял себе, что буду делать. Не только завтра, но и все дни моей жизни вплоть до дня своей оплакиваемой близкими смерти я буду поступать, как подобает самостоятельному и уважаемому гражданину Кордубы, наторевшему в торговле медью, оливковым маслом и стеклом, который ни разу за всю свою уравновешенную жизнь не совершил легкомысленного или неожиданного поступка.
Возле фонтана я встретил юную рабыню Герму, которая рвала еще редкие ранние цветы. Все это время я был поглощен заботами о своем устройстве в Риме. Я мало пил и отгонял от себя мысли о женщинах. Гадесская танцовщица в таверне «Львица», соблазнила было меня, но в последний момент я лишь поцеловал ее в губы и ушел. И больше туда не вернулся, хотя мне случалось дважды проходить по улице, где стояла таверна. Меня пугали приключения, в которых я мог потерять равновесие и выйти из строя. В Герме на первый взгляд не было ничего примечательного. Чтобы почувствовать исходившее от нее тонкое обаяние, надо было присмотреться к ее смуглой тонкой коже с просвечивающим румянцем, к ее полному рту и вздернутому носу, к ее густым вьющимся волосам, связанным широкой красной лентой. На этот раз она никого мне не напомнила.
— Я видел тебя с твоей госпожой, — сказал я, чтобы как-то начать разговор.
Она что-то пролепетала тихим прерывающимся голосом, не разгибаясь и даже не поворачивая головы. Ее темные глаза я разглядел лишь, когда уловил вблизи их робкое выражение. Нагнувшись, я поцеловал ее в затылок и почувствовал, как она вздрогнула. Я пошел дальше, на минуту испытав облегчение после всех терзаний и тревог, Словно сковавших мою душу и тело со времени приезда, с тех пор, как Афраний захохотал при моей декламации обращения к Нерону из «Фарсалии».
II. Марк Анней Лукан
Он выразил желание побыть в одиночестве и отправился в верхнюю комнату, выходившую в сад, в которой иногда работал. Раб поспешно принес большую жаровню — комната долгое время была нежилой. Ее ярко освещал подсвечник с восковыми свечами, который держал сладострастный сатир. Некоторое время Лукан сидел с табличками в руке, вглядываясь в их гладкую поверхность, словно ожидая, что на ней сами собой возникнут слова; затем он уронил их на пол и подошел к двери, выходившей на маленький балкон над лоджией. Здесь он остановился, полускрытый занавеской, так что из сада его нельзя было увидеть; в этот час там вряд ли кто мог оказаться, разве какой-нибудь раб, спрятавшийся от надсмотрщика. Как бы то ни было, мужчине следовало сохранять свое достоинство. К тому же у него были основания не попадаться на глаза даже увиливавшему от работы рабу.
Звезды светили все ярче на безоблачном ночном небе. Звезды. Он глядел на них, но вид их не подстегивал воображения, не вызывал новых мыслей. Пылающие твердыни мира. На мгновение его сознание прояснилось, и он почувствовал подъем духа. Высокие зубчатые стены, унизанные огнями. Крайний предел конечной вселенной, за которым простирается пустота. Вся вселенная стремится вновь претвориться в огонь, чтобы обрести свой конец и затем вновь возродиться, и когда закончится борьба стихий, возвратиться к первичному единству огня. Огонь в звездах сродни его поэтическому вдохновению, а также ничтожной искре, взлетевшей из очага крестьянина в какой-нибудь глиняной хижине в горах. Природа — это огонь, обладающий художественным даром и свершающий свой творческий путь. Огонь — неиссякаемый порыв, сверкающий и бурлящий в моих словах, в моих ритмах.
Он протянул руки, словно грея их у тайного очага духа. И почувствовал, что в его недрах зашевелилась поэма, как чувствует женщина движение ребенка в своем чреве. В природе существует закон, в силу которого все существа, способные вынашивать и расти, содержат в себе запас тепла, без которого были бы невозможны ни вынашивание, ни рост. Все обладающее горячей огненной природой имеет свой собственный источник роста и деятельности; но то, что растет и кормится, обладает определенной и единообразной природой. Поэтому мы вправе заключить, что стихия тепла содержит в себе жизненную силу, пронизывающую весь мир. Как творец поэмы, я царственно объединяюсь с ритмами, с жизненным порывом всех существ.
Несмотря на смелые слова, он продолжал чувствовать свою уязвимость и вернулся в комнату. Погасил одну из свечей, потом вновь ее зажег и вынес подсвечник в соседний покой. Вернувшись в свой темный кабинет, он снова встал у двери на балкон. Звезды стали крупнее, льдисто похрустывали, неустанно слабо трепетали. Он больше не чувствовал душевного стеснения. Что привело его уже не в первый раз в такое состояние и давило на него, вызывая жажду духовной сосредоточенности, удерживая его на мучительной грани надежды и страха? Овладевший им порыв? Усиление ритма, новый цикл страданий, приводящих к торжеству? Эта крохотная точка пространства, откуда вновь родилась вселенная, пятое свойство возрожденного духа? Порыв, повторил он, это жар огня, который, если его в душе достаточно, чтобы выполнить свою задачу, именуется силой и могуществом. Пусть будет так. Пусть я сгорю.
На память пришли строки из последней части «Фарсалии», строки, которые он прочел Луцию Фирму. Жиденькие, фальшивые, бессмысленные. Лишь когда он читал кому-нибудь вслух свою поэму, его покидала уверенность в том, что она пуста, что напряженность ее беспредметна и выражения противоречивы. Он всегда испытывал унижение. Не удавалось писать поэмы, какие ему хотелось, жить той жизнью, какая ему нравилась. То, что он сказал в саду Луцию, — обращение к Катону — выражало его истинные чувства. Устраниться от политической борьбы. Таким путем ничего не добьешься. Разве что смены тиранов. И все же единственной поэмой, которой он отдался целиком, была «Фарсалия». Все остальное были наброски, упражнения, ничтожная забава.
Мрак и мигающие огоньки. Огоньки, пронизывающие темноту, прокалывающие его веки, проникающие в спинной мозг. Вырывающиеся наружу и в вихревом движении обвивающие столпы мироздания. Взрыв гудящего пламени, бурный океан света. Нет, таким путем поэзия может превратиться в нечто столь же бессмысленное и разрушительное, как Великий Пожар с его бурей ревущих золотых огней, с неистовыми взметами кипящей ярости, под конец затянувшей небо клубами дыма. Нужно было другое — возрастание чистого, живительного жара, творческое пламя, могучее и непрестанное, созидающее свои построения, поприща своего могущества. Но им завладевал то один, то другой образ — то простирающееся в бесконечность поле, то взлетающая ввысь острая вершина, то вечное, то нечто непредвиденное.
Он снова закрыл глаза и ощупью прошел к ложу. В жаровне дотлевали последние угли. Что будет дальше? Он откинулся на подушки. Что служило звеном между словом и предметом? И в чем был разрыв? Для него было священно слово «мать», но сегодня после обеда мать измучила его своей суетливой глупостью, своей неустанной, бессмысленной энергией. Но в памяти сохранился нетленным четкий образ существа, которое склонялось над ним и милостиво питало его из щедрых грудей. Этот образ был источником слова, и он имел прямое отношение к сегодняшней болтливой женщине. Она воплощала в себе образ небесного благословения, но и в слове заключался этот образ. Между тем слово и женщина никак не совмещались.
Сколько мне было лет в тот день, стал он вспоминать, пять или шесть? Со мной играл какой-то мальчик, которого я позабыл, и находились мы в саду, который я тоже не помню, но я слышу запах моря, слышу рокочущий грохот пахнущей материнским чревом, перемалывающей ракушки волны, вижу повсюду отсветы моря, нежную зелень колеблющихся водорослей, водовороты в пещерах, пронзительно-бледное, золотисто-зеленое сияние, в котором все кажется прозрачным; мальчик захотел влезть на дерево. Теперь он представляется мне тенью, но тогда это был живой мальчишка со ссадинами на коленях, пахнущий муравьями, с порванным ремешком на одной сандалии, и я его оттолкнул. Ибо мне было совершенно необходимо доказать, насколько я ловчее лазаю по деревьям, плаваю в море, прыгаю через кусты, бегаю повсюду и все на свете делаю лучше его. Передо мной какая-то сосна с грубой пыльной корой, покорная, как часовой, ростом до зеленого ветряного неба, с белой птицей, угнездившейся на самой верхушке, — и я влез на высоту в три своих роста, словно забрался на гору, с которой свергалось четыре водопада, исцарапанную когтями огромных медведей, овеянную жужжанием мириадов золотых пчел, и посмотрел вниз, чтобы увидеть восторг и страх на лице того мальчика; тут появилась моя мать, она резко вскрикнула от негодования и испуга, и я сорвался, свергся в бездну, падал девять дней с высот Олимпа, и мне навстречу неслась темная земля. Я сломал себе руку и слышал, как тот мальчик смеялся.
В тот день как будто окончательно отделился образ благостной матери от нее самой, грубо вторгающейся в жизнь, и слова перестали составлять единство с вещами, которые они выражали или обозначали. Мать, земля, дерево, друг, огонь. Свет в тот день напоминал огонь на ветру, сжигающий сосны, пронизывающий их все вновь и вновь золотисто-зелеными лучами, и в этой мерцающей прозрачности проглядывал новый мир или старый мир, обретший новую глубину, глубину моря, глубину солнца, провеянный насквозь ветром, все сжигающим на своем пути, оставляющим все неповрежденным. Он увидал над своей головой дрожащий рисунок сосновых игл. Венец нежной славы и тысячи коварных кинжалов. Они вспыхивали огненными пучками и перьями. Потом он свалился в яму, где метался страх, ударился о землю, и вокруг него расплескался огонь, словно он упал в воду и взметнувшиеся брызги засверкали и озарили все вокруг. Материнский запах морских водорослей, запах опаленной хвои. Струйка завивающегося дыма одна бросала вызов яркому чистому свету.
Отворилась дверь, и он хотел было сказать: «Уходи», когда заговорила Полла. Он снова будто упал с дерева, и вокруг рассыпались комья земли, тяжелой, гасящей огонь земли.
— Можно войти? Почему ты сидишь в темноте?
— Я размышлял, — ответил он хриплым голосом. — В темноте мысли, мои яснее, как-то светлев.
— Свечи догорели в подсвечнике. Позвать, чтобы принесли новые?
— Нет.
Она затворила дверь и подошла, медленно ступая в темноте, постепенно различая в отсветах звезд и затухающих углей очертания мебели.
— Можно побыть с тобой?
Он не ответил. Она дошла до ложа и села. Она нашла его руку. Погладила ее и отпустила. Некоторое время они молчали.
— Ты расстроен?
— Нет.
— Из-за матери? Она всегда тебя расстраивает.
— Нет.
— Может быть, мне уйти?
Он снова промолчал. Он почувствовал, как огромная тяжесть сковала его тело и дух, он онемел, произнести хоть один слог для него неимоверная трудность, В свинцовом свете звезд все предметы казались раздувшимися и громоздкими. Его тело тоже казалось огромным, раздутым, и все же оно легко плавало в тусклом свинцовом море. Ему не хотелось ни отсылать ее, ни оставлять. Лучше бы она просто не существовала, И, все на свете.
— Почему Афраний прислал записку?
Его даже не интересовало, откуда она знает. Его губы зашевелились, но он не заговорил.
— Он опрометчив и безрассуден, — продолжала она и поспешно добавила: — Но я знаю, что ты делаешь все, чтобы сдерживать его.
— Я ничего не додаю, — сказал он. И почувствовал, что теперь, после оказанных слов ему легче заговорить. Ничего нельзя сделать.
— Не говори так, — произнесла она, вздрогнув, — Давай уедем куда-нибудь.
— В Вайи? — опросил он насмешливо.
— Куда-нибудь подальше. Хотя бы в твою Кордубу.
— Ты разговаривала с Фирмом?
— Нет, но после посещения твоей матери… вдобавок ты там родился. Никому не покажется неразумным, если ты туда уедешь.
— В этом Риме все безрассудно. Ты это знаешь. Это показалось бы крайне подозрительным. Как если б я выбрал Карфаген или Антиохию, Лугдун или Томы.
— Мне страшно, Марк.
— Не боится только безумец. Мудрец боится всего, все принимает и преодолевает страх.
Они замолчали. Полла всплакнула, но он не прикоснулся к ней.
— Все это без толку, — сказала она.
— Окажи мне, Луций Фирм заслуживает доверия?
— Почему ты меня спрашиваешь? Я ничего о нем не знаю.
Он вздохнул.
— Но это не имеет значения. Жребий брошен.
— Ты его вовлек? — спросила она с резкой ноткой в голосе.
— Судьба его вовлекла. Это случилось помимо меня. Но он может пригодиться. Когда придет время, я пошлю его в Бетику.
— Когда придет время, — горестно повторила Полла. Она встала. — Я пойду спать. — Он не ответил, не двинулся с места. Она немного подождала, потом медленно направилась к двери. Легкий стук хорошо смазанной двери донесся до него, как бесповоротное решение, как трепетание крыльев возле лба. И трепет его сердца. «Почему я ее отталкиваю, — спросил он себя, — хотя всегда тянусь к ее теплу?» Но он тотчас же отверг эту мысль. Поднялся и пошел к балконной двери, задев ногой рассыпанные на полу таблички, Он поднял их. «Мне никто не нужен.
Я наедине с собой и вселенной». На миг он возненавидел веек, кто был вместе с ним втянут в заговор против Нерона, он возненавидел их даже больше, чем самого Нерона, этого глупого дилетанта с его неубедительными позами, истерическими пороками. «У меня нет полного согласия ни с одним из них. Возможно, мне ближе остальных этот Луций Фирм, но он так неопытен, так наивен и провинциален. Я не могу открыть ему свое сердце, и все же — нельзя отвергать случай, посылаемый богами. Он подарен мне, он пойдет за мной хоть в преисподнюю, если я вздумаю направить туда наш путь, испытать наше мужество; он тот, кто мне нужен, он подбодрит меня в последнюю минуту. Неправда, что мне никто не нужен; но мне не нужна женщина, ей не вдохнуть в меня силу».
Вчера домочадцы собирались в деревне, встречая домашние божества. Алтарь на меже был воздвигнут в честь Термина, бога, который не что иное, как камень или пень, вросший в землю. Земледельцы шли к нему отовсюду с гирляндами и лепешками; женщины приносили в горшках огонь из домашнего очага; юноши троекратно бросали зерна из корзины в огонь; маленькие девочки преподносили ему медовые соты. Был принесен в жертву ягненок или поросенок. Благословен край, где все еще царствует Термин. Где существуют должные и почитаемые пределы всем вещам. Где нет самонадеянной алчности и тщеславия, стирающих все границы и разрушающих укоренившуюся природу людей и вещей. Он закрыл глаза и разломал на куски таблички. Мир не плавный поток вещей и энергии, но беспредельное поле, где свирепо сталкиваются в борьбе противоположные силы. Он весь пронизан и оживотворен огнем, в мгновения, когда сгущается пламя, оно пожирает все вскормленное им, оставляя лишь удушливый дым над черным пустырем. Он чувствовал, как самшит расщепляется на волокна, разлетающиеся огненными линиями. Мгновенная вспышка огня и была пришествием бога. «Я чту внезапное и непостижимое мгновение, удар кремня о железо, томление мрака, из которого вырывается звезда». Он знал, что не может пойти к Полле. Пусть себе она лежит без сна. Он открыл глаза и посмотрел на звезды. Но присутствие жены взволновало его, и ему захотелось послать за сирийским мальчиком Гиллом, однако он тут же подумал, что не успеет дать распоряжение, как одна из рабынь явится в спальню Поллы и преподнесет ей эту новость. И он решил провести ночь в одиночестве.
III. Луций Кассий Фирм
На следующий день я отправился с Луканом к богатому человеку, чьей смерти ожидали с минуты на минуту. Множество людей уже осаждало смертный одр; люди помельче толпились в приемных комнатах, а важные особы находились в спальне, где хозяин лежал, обложенный красными и голубыми подушками, на ложе из слоновой кости, возле которого стояли три покрытые орнаментом жаровни. Столик из лимонного дерева, на одной ножке был уставлен лекарствами и лакомствами, которые принесли посетители, надеявшиеся попасть в его завещание. Больной глядел из-под полотенца, которым ему повязали голову, и выискивал предлог для резкого выпада. Когда один из посетителей, удостоверившись в ценности плаща, перекинутого через спинку ложа, попросил завещать ему плащ, умирающий буркнул: «Если ты обещаешь вскоре сшить из него себе саван». Все добросовестно восхищались его остротой, особенно тот, кто просил подарить ему плащ. Он даже записал его слова на табличке, сообщив старику, что его друг собирает выдающиеся остроты и, конечно, оценит столь замечательный ответ.
— Я счастлив, — добавил он, — что сумел вызвать игру ума, которая тебя обессмертит. — И все почувствовали, что он заслужил плащ. Тут, чтобы закрепить достигнутое, он добавил: — Наш уважаемый друг, несомненно, находится на пути к быстрому выздоровлению, коль скоро он не утратил остроумия. Я радуюсь, что мне придется еще долго ждать этого великолепного подарка.
Лукану же больной оказал знаки внимания, кратко, но вежливо ответил на вопрос о здоровье и поблагодарил за посещение. Рядом со мной двое мужчин бранили женщину, которая стояла у изголовья больного и все время гладила его подушку, раздражая его. Она по тридцать раз в год писала свое завещание — говорили они, — ибо по счастью или по благоразумию осталась бездетной. В бешеной погоне за наследствами бездетные люди всегда имели огромное преимущество. Сплетники подталкивали друг друга локтями:
«Ты только взгляни на Вибия! Он глотает пилюли, чтобы сохранить томную бледность. Плут завален подарками. Все умирает, но никак не умрет».
Тут больной чихнул, и все кинулись вытирать ему нос.
Когда мы вышли, я не без удовольствия подумал о том, что у охотников за наследством не так уж много надежд, ибо старик должен был завещать по крайней мере половину своего состояния императору, иначе его завещание могло потерять силу. В прихожей какой-то толстяк завладел Луканом, сообщив, что он с острова Крит, приехал сюда хлопотать о назначении на высокий пост в Кноссе и добиться признания его прав Родителя Троих Сынов. Лукан обещал оказать ему содействие, и наконец мы вышли на улицу.
— Он был другом моего отца, — сказал Лукан, объясняя, почему мы посетили больного.
Возможно, ему хотелось подчеркнуть, что у него нет ничего общего с этими корыстолюбцами, ибо он решил тут же посетить сенатора Пакония Агриппу, который был известен как стоик. Удостоверившись, что никто не подслушивает, он рассказал мне, как однажды друг Пакония спросил его, следует ли ему пойти на музыкальное выступление Нерона. «Конечно», — ответил стоик. «Так почему же ты сам не пойдешь?» — спросил тот. Паконий ответил: «Я пошел бы, если бы стоило решать вопрос, идти или нет».
Сенатор разгуливал по своему обширному саду в обществе друзей, среди которых находились Афраний и Сцевин. Афраний спорил о чем-то с хозяином, вернее, дразнил его. Сначала я не прислушивался к разговору, занятый наблюдением за Сцевином, которого встречал впервые, хотя слышал о нем неоднократно. Высокий белокурый мужчина с капризным ртом, густыми бровями, безвольным подбородкам и проницательными голубыми глазами, в которых то сквозила насмешка, то сверкало неподдельное веселье. В отличие от Афрания, который был все время в движении, он твердо сидел на месте, и казалось, не то он отдыхает, не то вот-вот вскочит.
Афраний, резко осуждавший неблаговидное поведение какого-то сварливого сенатора, под конец спросил Пакония, согласен ли он с ним. Тот ответил несколько ворчливо:
— Когда человек болтает о собственных делах, он считает, что имеет право слушать, как мы болтаем о своих. Он настаивает на том, что откровенный человек несомненно заслуживает доверия. И вот мы откровенничаем с болтуном, с которым очутились рядом в цирке или в винном погребке; потом оказывается, что он военный, переодетый в гражданское платье, или продажный соглядатай. Он поносит людей, чьи имена опасно даже упоминать. Мы следуем его примеру. А потом нас хватают и заковывают в цепи. — Он провел рукой по лысому черепу, щурясь от солнца. У него было крупное костлявое лицо с тонкими губами и несколько разбегающиеся в стороны глаза.
— Не думаешь ли ты, что наш дружественный разговор может привести к такой ужасной развязке? — спросил, посмеиваясь, Афраний и вытянул шею, разыскивая Трифона, который швырял камушки в воробьев, полускрытый миртовым кустом.
— Я говорю вообще. Я порицаю привычки, которые мы приобретаем себе на беду. Человек, который болтает о себе, будет болтать и обо мне. Когда я слышу, как кто-нибудь повторяет мои слова, по обыкновению искажая их и злонамеренно придавая им извращенный смысл, я сержусь. А это дурно. В гневе я забываю, что человек не может оскорбить. Что оскорбительными для человека могут быть лишь его поступки. Итак, я страдаю из-за легковесных разговоров, и по заслугам!
— Твоя доброта может заржаветь без употребления. Дай мне посердить тебя, чтобы ты вспомнил, что являешься сам своим единственным врагом.
Паконий искоса взглянул на Афрания, и в его глазах я прочел недовольство, но на лице он сумел изобразить горькую улыбку разочарования.
— Добродетель моя, какой бы она ни была, никогда не заржавеет, если глупцы и подлецы способны ее пробудить.
— И все же, — не отставал Афраний, самодовольно нам подмигивая, — я надеюсь, что говорю как глупец, а не как подлец, — в беседе следует соблюдать известное равноправие. — Он раскинул руки и обошел куст, чтобы лучше видеть своего мальчика. Сцевин совсем было собрался вмешаться, но отошел в сторону, заложив руки за спину.
— Где же равноправие? Вот стою я и скромно пытаюсь растолковать, что сам отвечаю за себя и потому отказываюсь от болтовни. А вот стоишь ты и оправдываешь безответственную болтовню, следовательно, можно сделать вывод, что ты человек, не способный правильно направлять свою волю.
— Дурак или подлец? — спросил Афраний, в свою очередь слегка уязвленный.
— Ни то ни другое, я полагаю, — отвечал Паконий, к которому вернулась самоувереннность, когда ему удалось смутить своего мучителя. — Я хочу охарактеризовать людей, которых ты шутливо защищаешь. Один жаждет получить какую-нибудь жалкую сумму, другой — добиться места или повышения при дворе, хотя бы ценой убийства собственных детей, — все мы знаем таких. Когда мы видим человека, занятого предметами, не подчиненными его воле, мы знаем, что с ним состязаются и мешают ему десять тысяч человек. Не нужны ни кипящая смола, ни дыба, чтобы вырвать у него признания. Достаточно кивка девушки или льстивой речи придворного. Надежды на должность судьи или мечты о наследстве. Свободно, на равной ноге могут общаться друг с другом лишь те, кто не знает страха и не хлопочет о вещах, находящихся вне их.
— Понял! — воскликнул Афраний, поднимая брови, как человек, внезапно узревший свет. — Достойно обмениваться словами способны лишь те, которым нечего сказать друг другу. — Он захихикал, потом стал изображать сцену встречи двух Совершенных Людей. — Как твои дела, о Безупречно Круглое Существо? Как чувствует себя нынче твое Превосходное Совершенство? Вполне ли уравновешиваются падающие с нищего блохи падающими звездами? Приведены ли планеты в совершенную гармонию, чтобы погасить диссонансы, которые вносят во вселенную хлевы и притоны крикливого человечества?
— Звезды вряд ли представляют большой интерес, — заметил Сцевин. У него был красивый голое, богатый и выразительный от природы, выгодно отличавшийся от размеренного гудения Пакония и визгливых вариаций Афрания.
Афраний не обратил на него внимания.
— Если ты ничего не боишься, мой Неуязвимый Друг, то почему ты страшишься глупцов и болтунов?
Снисходительная улыбка, с какой Паконий слушал Афрания, сменилась на его лице спокойной серьезностью. Он походил на актера, изображающего самого себя. Страстно искренний, он все же побаивался, как бы боги, которым он покорился, не забыли помочь ему, если непредвиденный случай нарушит возвышенный строй его души и заставит переживать, драму. Я знал, что он был другом Тразеи Пета, который отказалсясовершить жертвоприношение в честь императора и праздновал день рождения Брута и Кассия с венками и возлияниями.
— Мы должны, — начал он объяснять так терпеливо и пространно, что казалось, он любуется звуками своего голоса, — опасаться лишь тех вещей, которые тем или иным путем возбуждают нашу волю и требуют от нас отклика. Ничего иного мы не должны бояться. Необходимое нам состояние отрешенности вполне достижимо. Нет боязни боли или смерти. Против смерти нам следует вооружиться уверенностью в себе, против страха смерти — предусмотрительностью. Но обычно мы поступаем как раз наоборот. Нас мучает желание избегнуть умирания, и вместе с тем мы равнодушны, тупы, опрометчивы в отношении смерти. Смерть и страдания — трагические маски, как сказал Сократ. Что такое ребенок? Ребенок — это неведение. Ребенок — это отсутствие знания. Что такое смерть? Трагическая маска. Поверни ее и рассмотри. Она не кусается. Рано или поздно ты с ней встретишься. Вселенная обретет свое завершение, связав прошлое, настоящее и будущее единой нитью. Что такое боль? Маска. Поверни и разгляди ее. Несчастную плоть бьют, и она болит. Потом она заживает и не болит. Вот и все. Если тебе не нравится — дверь отворена.
Сцевин отступил подальше от Пакония, ему стало не по себе от его наигранно-певучего голоса, нестерпимо убедительного, несмотря на природную грубость. Афраний, убедившись, что Паконий пустился в пространные рассуждения, утратил интерес и тоже улизнул. Он зашел за куст, за которым присевший на корточки мальчик бросал камешки, целясь в одно из верхних окон дома. Лукан, чтобы загладить невежливость своих друзей, делал вид, что внимательно следит за нескончаемой рацеей Пакония.
— Мне еще не приходилось слышать столь совершенно изложенной мысли, — начал он.
Но тут его прервал Сцевин, быстро подошедший к собеседникам:
— Нет, дело вовсе не в масках. Человек может сбросить маску, если она ему надоела или пугает его. Боль и смерть — не маски для меня. Это мое подлинное лицо. — Он начал щипать себе щеки. — Вот оно. Это не маска в руках насмешливого или сострадающего бога, безжалостного или несуществующего бога! — Он снова стал щипать себе щеку. — Смотрите, она крепко сидит. Не сползет в угоду вашей усыпляющей диалектике. Здесь подлинная смерть. И боль.
Было видно, что он пьян. Лукан внимательно за ним следил. Афраний захихикал за кустом, и мальчик попросил его отойти.
— Ты приписываешь божеству свои собственные ощущения, — возразил Паконий как можно мягче, насколько позволял ему низкий голос. — Смерть не сострадает нам, но она и не жестока. Ты прав лишь в том, что называешь это своим телом, которое ведь тоже жизнь. Как земля и солнце.
— Солнце довлеет себе, оно нечто законченное, — сказал Сцевин с оттенком тревоги. — Человек выше солнца.
— Ты хочешь сказать, что человек испытывает потребность быть самим собой, быть таким же, как земля и солнце, которые наслаждаются своей чистой сущностью. Что такое твоя свобода? Сделал ли что-нибудь человек, если он освободил раба перед лицом претора? Да, он сделал нечто. Он освободил раба перед лицом претора. А еще что? Да, он обязался заплатить пошлину за отпуск раба. А что стало с рабом? Стал ли он свободен? Не более, чем он свободен от неприятностей. А все вы, имеющие право освобождать рабов перёд лицом претора, разве у вас нет господина? Разве деньги — не ваш господин? Или девушка, или мальчик, или тиран, или один из друзей тирана?
Я почувствовал, что ему пришлось сделать усилие, чтобы произнести слово тиран таким же тоном, как обычные слова мальчик или девушка. Он заставил себя выговорить его спокойно, чтобы доказать самому себе, что оно не имеет для него особого значения, не заключает в себе особой угрозы. Однако ему нелегко было вымолвить это слово, сохраняя непринужденный тон. Непроизвольно у него скосились глаза, чуть дрогнул левый уголок рта и слегка повысился голос, благодаря чему конец фразы прозвучал более вопросительно, чем требовал смысл. Да и все остальные, даже Сцевин, должны были сделать усилие над собой, чтобы не выдать, что это слово вызвало у них волнение. Лукан невольно оглянулся, чтобы удостовериться, нет ли поблизости слуги, который мог бы услышать. В этот момент из-за куста появился Афраний, ведя за ухо Трифона, он неестественно громко рассмеялся.
— Я полагаю, что моя самая громкая болтовня куда безобиднее твоей философской осторожности.
Паконий промолчал и хлопнул в ладоши, чтобы принесли вина. Я чувствовал, что он не справился с напряженностью, сказывающейся в морщинках вокруг глаз и рта, хотя он и не изменил своему ровному тону и своей философии бесстрастия. Быть может, в иные минуты философия его вполне убеждала, и он чувствовал свое возвышенное родство со стихиями. Но когда он говорил, он вызывал в себе воспоминание об этих отдаленных минутах. Он старался отчетливее вспомнить и затвердить некий урок, опасаясь, как бы он не ускользнул от него.
Лукан следил за мной, и, очевидно, ему хотелось, чтобы беседа произвела на меня благоприятное впечатление. Сцевин отошел от нас и прохаживался взад и вперед в другом конце сада, высоко вскинув голову. Он как будто что-то бормотал про себя.
Когда мы вышли, Лукан спросил меня:
— Ну, что ты о нем скажешь?
Я был удивлен и недоумевал, спрашивает ли он меня о Паконии или о Сцевине. Взглянув искоса, я приметил необычный блеск в его глазах и угадал, о ком из двух он спрашивает.
— Веселый человек, — сказал я осторожно. — Но он показался мне несколько неуравновешенным.
Лукан улыбнулся. Мой ответ ему понравился.
— Во многих отношениях он мой лучший друг, но я признаю, что он слишком резок и сумасброден в своих поступках. Все же это располагает к нему некоторых людей. Может быть, и меня… — Он задумался, нахмурив брови, — Некоторые друзья вряд ли хорошо на него влияют. И все же…
Он оставил эту тему, больше не упоминал о нашем посещении и не затрагивал только что обсуждавшихся вопросов, пока мы не вошли в холодное помещение бань. Мы разделись и оставили свою одежду в нишах под присмотром наших рабов. Вокруг нас происходила обычная сутолока. Судья выкрикивал очки во время игры в мяч; продавцы пирожков, торговцы колбасами, кондитеры перечисляли названия своих товаров; эпилятор пронзительно расхваливал свои методы, чтобы заглушить крики, порой вырывавшиеся у его жертвы, у которой выдергивали волосы под мышками; люди, неспособные удержаться от пения или декламации, пели и декламировали в банях; массажисты шлепали и колотили голые тела; человек, упражнявшийся со свинцовыми гирями, кряхтел и с шумом делал выдохи; поймали вора. Пожалуй, избыток шума благоприятствовал откровенным излияниям. Когда мы вошли в помещение с ярко-желтыми стенами и увидели темно-синий клочок неба, Лукан шепнул мне на ухо:
— В чем заключается истинная верность?
Мы стояли на мозаичном полу, где были изображены морские кони и нереиды, я топтал ногой груди опрокинувшейся навзничь девушки, а Лукан наступил на разинутую пасть коня.
— Паконий сказал немало правды, — осторожно заметил я. — Но чувствуется, что он чего-то недоговаривает.
Лукан кивнул, но продолжал развивать свою мысль:
— Верность вселенной, друзьям, поскольку они неотделимы от тебя, и себе самому, поскольку ты неотделим от друзей. Риму, поскольку он исполняет свое мировое предназначение. Тем из его обитателей, которые содействуют этому предназначению. Им остается быть самими собой и принадлежать друзьям. Иначе они изменят себе и вселенной.
Мне надоели обобщения, претендующие на разрешение всех загадок, а на деле только запутывающие вопрос. Вехи, выставленные напоказ. Заметив, что за вами следят, он повел меня дальше, отвечая на кивки и поклоны друзей, приветствуя человека, спросившего, почему его не было в день чьего-то рождения, и отказываясь выпить вина из протянутой ему фляги.
— Мне трудно рассуждать, прибегая к таким общим понятиям, — ответил я ему наконец. — Я обладаю ограниченным умом. Я нахожу свой путь через других, принимая или отвергая их идеи. Только в дружбе я надеюсь обрести нужное руководство.
Он крепче сжал мне руку.
— Ты, вероятно, мудрее, чем думаешь. Надеюсь, мы с тобой друзья.
— Я учусь глубже постигать мир. Твоими глазами. — Мне стоило труда это сказать, но я был искренен. На минуту я начисто забыл о воинах. Не будь я даже всецело на стороне Лукана, я все равно не предал бы его ни за какие блага в мире. — Ты можешь мне доверять, — добавил я, вновь неохотно и вновь не без истинного чувства. — При любых обстоятельствах и до конца. — Никогда еще не говорил я с таким трудом. Мне пришлось взять себя в руки и унять внутреннюю дрожь. Если б я задрожал, когда его рука лежала на моем плече, он почувствовал бы мою слабость и ненадежность. Но я в самом деле никогда не предал бы его. Тут я вспомнил трибуна Сильвана и ощутил прилив силы, уж не знаю, откуда взявшейся.
— Я так и знал, — сказал он, и я понял, что он смог так прямо ко мне обратиться, потому что мы стояли с ним оба голые.
— Пойдем, — сказал он, увлекая меня дальше к мраморному бассейну; вода вливалась в него из пасти бронзовых львиных голов и сверкала разными цветами на камнях, устилавших его дно. — Давай смоем с себя мир.
Я прыгнул в воду.
IV. Гавий Сильван
Ему нравилось спокойно, твердым шагом спускаться с холма. Он слегка откидывался назад, и мир как бы потихоньку падал перед ним, развертываясь веером с обеих сторон и шумно расступаясь. Он всегда любил длинные переходы со своим отрядом, ощущение ритмичного движения, которому топот множества ног придавал силу и звучность, любил ощущение прикосновения к земле, о котором быстро забываешь на обычной прогулке. Сейчас он ощущал именно это прикосновение к земле. Но вскоре он очутился среди лавок и толпы, которая становилась все гуще, через нее приходилось пробираться и проталкиваться, и улетучилось бодрящее чувство ритмического прикосновения. Оно уступило место растущему неудовольствию и раздражению, вызванному каким-то бессмысленным соперничеством с теми, кто со всех сторон на него наседал. Все лица были такими напряженными, замкнутыми, коварными. Тщетно было бы искать в них отражения ясных и гармонических сил природы. Солнце и земля, воздух и вода были заражены, вынуждены содействовать побуждениям и целям, в корне им чуждым, всему, что продиктовано алчностью и страхом, стремлением к власти и самовозвеличению. Все казалось сбившимся с пути, искривленным, обреченным страху, этому величайшему из зол. И все же даже на своем изломанном и прерывистом пути сквозь сутолоку праздно слоняющихся или снующих людей он ощущал стройный, размеренный ритм тысяч шагов и глубокий отклик, исходящий откуда-то из недр земли и спасающий мужчин и женщин от бедствий их отравленной жизни и от преследующего их страха.
И хотя он чувствовал себя сейчас очень далеким от всех этих людей и хотя ему было видно, что они во власти чуждых ему потребностей, порожденных страхом, а не телом, свободным и не знающим стыда, телом, принимающим наслаждение и не ведающим страха, он не испытывал ни враждебности, ни чувства своего превосходства. Все, что он видел в них чуждого, он обретал и в себе и боролся, стараясь искоренить это у себя, и все же оно оставалось где-то в глубине, в нечистом мраке, готовое воспрянуть в минуту, когда он утратит равновесие, выстраданное и с трудом удерживаемое приятие земли с ее простыми и согревающими законами роста, свое, собственное тело, вытравляющее древние страхи изо всех своих пор, из извилистых закоулков сознания, хаотическую структуру атомов, вечно вращающихся в поисках гармонии, естественной свободы, заключенной в яблоке, в капле росы, в груди, полной молока. Великая мера счастья заключена в простых вещах, счастье в порыве ветра, в плодоносящей земле. И я вырос в уголке, согретом дружественным солнцем, и моим отцом был хороший человек. Этого достаточно. Акр твердой и неподатливой земли, выковывающей характер человека.
Он любил всех этих людей, даже вскормленных городом, но взыскательной любовью, прозревающей сквозь искаженные пороком формы и обретающей то, что сохранилось нетленным. Тело. Тело, которое, несмотря на дурное обращение и отравление, борется за здоровье, ищет простой травы, дающей обновление, явную точку равновесия среди изменчивых стихий.
Непрестанное приспособление и импровизация, самоупорядочение в поисках основы свободы. А ее можно найти. Может найти каждый. Нет человека, который не обладал бы ключом к правде и счастью; нет человека, в чьем теле не была бы заключена мудрость. Случайное сочетание атомов, но каким-то образом наступает момент выбора, момент осознания свободы. Это и есть человек. Иначе — беги в горы и истрать свою жизнь в горьком одиночестве, в изнурительных трудах, заслуживая свое освобождение в суровом общении с обнаженной сущностью природы, жестокой в своей близости и беспощадно втягивающей твое крохотное сознание в механическое движение вещей, в слепую вечность смерти и рождения.
Эти мысли так занимали его, что он вдруг спохватился, что прошел место, куда направлялся. Он проходил через мост. На противоположном берегу он постоял, поглядел, как грузят баржи, последил за негром в лодке, за мальчиком с самодельным удилищем, ловившим рыбу в илистой воде под тенью каштана. Потом зашагал дальше.
Патерн стоял во дворе, свободный от дежурства, и препирался с десятником. Он приветствовал своего друга возгласом:
— Ступай в мою комнату. Мне привезли цекубского. — Они поднялись по лестнице в расположенную над прихожей комнату с небольшим балконом, нависавшим над улицей. — Я решил сюда переехать, хотя участок еще совсем не готов. Тут все же лучше, чем в помещении, которое я снимал. Меньше расходов, и мне это вполне подходит.
— Да, — отозвался Сильван, осматриваясь. В комнате ничего не было, кроме ложа, табурета и полки. — Когда я обнаруживаю, что начинаю устраиваться с удобствами, я выбрасываю все вещи. Только так и должно поступать.
— Я не так стоек, как ты, — ответил Патерн, садясь на табурет и указывая гостю на ложе. — Но постепенно становлюсь на твою толку зрения. После нашей последней ветрели. Я нахожу, что проще жить, имея как можно меньше вещей. Так ты говорил.
— Что? — спросил Сильван, откинувшись назад и прислонившись спиной к стене, чтобы видеть улицу.
— Я сказал, что, когда идешь но вражеской стране, нельзя обременять себя обозами. А ты ответил: «Всякая страна — вражеская страна». — Он потер подбородок. — Может, это и не вся правда, но в этом есть доля правды. Путешествуй налегке. Славное изречение.
Сильван улыбнулся.
— Боюсь, что правда всегда двулика. Справедливы все противоречия. И все же это не значит, что не существует различий. Что все, что мы говорим, истина. Главное, не упустить момента, когда одна сторона жизни требует, чтобы мы ее приняли, меж тем как ее противоположность может нас погубить… По дороге сюда я думал, что всякая страна дружественна и все люди мои братья.
Патерн уставился на него, потом рассмеялся. Его серые глаза блеснули, отражая свет, и он потянулся.
— В таком случае тебе придется выпить. — Он взял с полки две кружки и достал из-под кровати флягу. — За здоровье виноделов Сентина!
Они выпили.
— Через три года я окончу службу, — сказал Сильван. — Раньше я думал, ни за что не вернусь домой. Теперь я знаю, что больше нигде не смогу жить.
— Я тоже думаю когда-нибудь вернуться.
— В прошлом году я встретил человека, отправлявшегося в Аримин через Сентин, и попросил его разнюхать, какие там цены на землю. На прошлой неделе он вернулся и сказал, что я легко смогу купить себе там участок земли. На обратном пути он узнал, что земля у подножия Ястребиного холма, которая принадлежала Виницию, опять продается. Она вполне бы мне подошла. Достаточно далеко от города и красивая местность.
— Только почва там нелегкая. Виниций убедился в этом и постоянно об этом говорил.
— Это меня не беспокоит.
— Виниций был подозрительный малый. В его усадьбе всегда были самые свирепые псы. Однажды они чуть не растерзали меня. Помнится, как-то мой отец сказал ему в праздничный день: «Перестань жаловаться, Виниций. Твои дела наверняка идут хорошо, иначе ты не мог бы прокормить этакую свору хищников».
— Он стал таким после смерти жены. Я Знал его, когда он еще не сделался сварливым старым хрычом. Они дружили с моим отцом. Если б ты знал, сколько лет он потратил, чтобы очистить от камней свой участок!
Сильван размышлял: «Мне хочется купить тот участок отчасти потому, что он рядом с поместьем, которое мы потеряли и где земля была лучше. С той земли люди выгнали моего отца, это сломило его и свело в могилу. А на что им была нужна эта земля? Косконий и его честолюбивый домоправитель выжили нас, воспользовавшись своим влиянием. Косконий умер десять лет назад, а его наследник уже раздробил землю, которую тот так старательно округлял, распродал большую часть и живет здесь, в Риме, проедая остатки состояния. В прошлом году в сентябре я встретил его вдребезги пьяным в Сигиллярии и еле удержался, чтобы не расквасить ему физиономию. Но он доконает себя и без моей помощи. Прежде я думал, что не вынесу воспоминаний об отце, близости его сурового духа, если вернусь туда. Но теперь я понял, что это лучший способ примириться со своими воспоминаниями, своим гневом и своими страхами».
— Люди меняются, я полагаю, — сказал Патерн, стараясь привести в порядок свои мысли. Этот человек с трудом усваивал новую идею, но потом крепко ее удерживал. — Я всегда думал, что Виниций всю жизнь был таким.
— Никто таким не родится. Ему сильно не везло. И все же он упорствовал. Косконий не стал его выживать. Отчасти потому, что его земля была такой каменистой. И не было хорошей дороги. Было бы слишком дорого проложить новую. В этом и заключалась доля его счастья. У него никогда не было сына, а дочки походили на стадо квохчущих кур. Я не мог отличить одну от другой.
— Да, век живи, век учись. — Патерн хлебнул и присвистнул. — А вот для тебя новости. Помнишь Папила, который загребал деньги, будучи ростовщиком и владельцем хлебопекарен? Он купил себе землю в окрестностях Сарсины. Мне только что рассказали, что его убили собственные рабы. Они задушили его в ванне.
Они помолчали.
— Именно этого все они и боятся, — наконец сказал Сильван. — Как хорошие, так и злые господа. — И добавил с глубокой радостью, словно обнаружил нечто весьма простое, долго ему не дававшееся: — У меня нет раба и никогда не будет.
— Как же ты сможешь обойтись без рабов! — воскликнул Патерн, уставившись на человека, которым он всегда восхищался и который вечно его озадачивал. Стоило ему подумать, что он наконец усвоил мысль своего друга и овладел ею, как тот снова чем-нибудь поражал его.
— Посмотрим, — с улыбкой ответил Сильван, кивнув собеседнику. — Посмотрим!
— Посоветуйся с Аспером, — озабоченно сказал Патерн.
— У меня уже все решено. Но, разумеется, я ему скажу.
Патерн кивнул с облегчением. Хотя Аспер бывал резок в своих суждениях, у него было больше здравого смысла, чем у Сильвана.
Сильван задумался, наблюдая за грузчиками и носильщиками, сновавшими на улице, и ему представлялось, что для него нет иного будущего, кроме возвращения в Сентин. Все было продумано, устроено, предопределено. В ближайшие дни он договорится с посредником о покупке земли Виниция. Уволившись со службы, он станет обрабатывать ее лучшим ученым способом, пользуясь трактатом Колумеллы и других, проверяя их выводы на своем опыте. Он добьется успеха, несмотря на трудности, будет жить, читая своего любимого поэта Лукреция, в тесном единении с землей, в кругу времен года. Жить укромно. Но в действительности на пути к желанному будущему имелось немало препятствий — угроз и опасностей, и планы его были несбыточны. Так почему же он так твердо верил в реальность этого поместья на склоне холма и считал, что все бури мира могли на него обрушиться, не повредив ему? Он посмотрел на свою руку, разжал ее, снова сжал, повернул ладонью вниз. Моя рука.
Патерн также размышлял о том, что стояло между его другом и собственной землей. Он неловко подвинулся и разлил по кружкам остатки вина.
— Будем надеяться, что все пойдет хорошо.
— Вряд ли. Но я должен в это верить, иначе мое сердце остановится.
Внезапно все представилось ему в ином свете. Дело, к которому он приложил руку в Риме, имеет решающее значение, но не может осуществиться без той преданности, без той любви к земле, которая убила его отца, без гнева против нечестивцев, которые хотели воспользоваться землей как средством для удовлетворения своего мелкого тщеславия и самовозвеличения. Землей, которая их родила и в свое время вновь примет в свое лоно. Наклонясь к Патерну, чтобы сообщить ему о ходе развития заговора, он старался восстановить звенья, соединяющие его римское «я» с его сентинским «я». У нас в деревне память долгая. Мой отец родился при Августе; его отец, который умер, когда мне было девять лет, родился в год, когда Цезарь разбил Помпея. Он внушил моему отцу веру, которую перенял от своего отца, веру в то, что Гай Юлий Цезарь был человеком справедливым. Мой прадед был ветераном Цезаря. Цезарь покончил со старым порядком, при котором управление общественными землями сосредоточивалось в руках Рима; по всей Италии были созданы независимые города, обладавшие самоуправлением, Цезарь хотел превратить всех италийцев в своих клиентов, которые объединились бы против крупных землевладельцев — так гласило предание и так рассказывал мне отец. Но при Августе землевладельцы снова пришли к власти. Сильван больше не верил в то, что единоличная власть может принести спасение, но он чувствовал, что путь свободного выбора — тот, что преградил Август, — заключался в идеях и чувствах, порожденных в народе столкновением Цезаря с Сенатом.
— Вряд ли я способен многое сделать, — сказал Патерн. — Но я держу своих людей наготове и знаю, что есть центурионы, на которых можно положиться.
Сильван чувствовал, что ему пора уходить, но продолжал разговаривать. Он был на десять лет старше Патерна и помнил его еще босым мальчуганом, который однажды попал в беду, потеряв чеку от повозки домоправителя Косцина; он испытывал родственное чувство к тому, кто погружался в те же быстрые речки, что и он, взбирался по тем же горным тропам и в праздничные дни стоял на том же форуме. Он поднялся и вдруг вспомнил, как однажды карабкался по крутому склону над горным потоком и у самой вершины обломился сук падуба, за который он ухватился. Ему удалось втиснуть свободную руку в расщелину скалы, и он повис над пропастью; мало-помалу он подтягивался и наконец поднялся на вершину. Казалось, он и сейчас висел там, чувствуя тяжесть своего тела, отзывавшуюся болью в кисти и в онемевших пальцах. Один. «Тело мое все еще там».
— Заходи в любое время, — сказал Патерн. — На душе легче становится.
V. Луций Кассий Фирм
Два дня спустя я встретил Сцевина на улице, недалеко от Мульвиева моста, через час после захода солнца. С ним шли трое молодых патрициев и рабы с факелами в руках. Его приятели взглянули на меня с презрительным равнодушием, но он постарался загладить их невежливость, взяв меня под руку и обратившись ко мне.
— Ночь только что наступила. Немного терпения, и мы повстречаем почтенных ростовщиков, законопослушных торговцев и прочих кровопийц, возвращающихся домой со своими женами. Чтобы помочь их вялому пищеварению, мы будем их подбрасывать на воздух. А чтобы вселить в их жен самоуверенность, необходимую для всякой красавицы, мы слегка их потискаем, вежливо и умело.
Одного из молодых людей — Папиния, кузена того Секста, который прославился тем, что бросился со скалы, удрученный приставаниями своей матери, — обступили товарищи. Ему надоела любовница, жена финансиста из Пальмиры, с которым у него были дела. Назначив ей свидание, он послал ее мужу записку, уведомляющую его, что красивая женщина, давно любовавшаяся им издали, будет ждать его в условленном месте. Еще никто не знал, что произошло дальше, и приятели Папиния по очереди придумывали каждый свою развязку.
— Он, вероятно, ее не узнал, — сказал Сцевин.
— В будущем он будет предусмотрительнее и, уходя из дому, будет привязывать жену за волосы в ларе. Я знаю фригийца из Лампсака, который так поступает. Но она зовет рабов и, хотя поза не особенно удобная, мстит ему!
— Глупец, ему следовало бы сковать ей ноги.
Мы со Сцевином пошли вперед. Он был пьян и с трудом ворочал языком, старательно выговаривая слова. При свете факелов наши длинные тени расстилались вдоль улицы, дергались и прыгали; тени голов сливались с темнотой, все время расступавшейся перед нами.
— Я ненавижу все на свете. Мне хотелось бы обратить все вещи в их противоположность. Брак — в беспорядочный разврат, и разврат — в целомудренную любовь. Если мне удается что-нибудь изменить, мне хочется, чтобы оно восстановилось в прежнем виде. Когда я вижу ненависть, я постигаю всю ее тщетность и хочу любви. Когда я вижу любовь, я постигаю ее лживость и хочу ненависти. Объясни мне, почему это так?
Кто-то, маячивший в темноте, бросил в нас черепицей. Она разбилась на мостовой в нескольких шагах от нас. Сцевин, казалось, не обратил внимания.
Мне хотелось показать, что я понимаю его буйное недовольство, отнюдь его не разделяя.
Кто-то захлопнул ставни. Он горячо подхватил мои слова:
— Вероятно, человеку нравится испытывать.
— Да, ничто не выдерживает испытания. — Шедшие позади нас юноши бросали куски черепицы в ставни, сквозь щели которых просачивался свет. — Мы живем в мире тупой лжи и бесстыдных притязаний. Ночью сбрасывают статуи, исполненные достоинства и красоты, а обезьяны пользуются пьедесталами как уборными. Никто никому не верит, прежде всего самому себе, и ложь бессовестно распространяется.
Юнцы вытащили из дверного проема уличную девку и мучили ее, растрепывая ей прическу и сдирая с нее платье. Один из них повалил ее наземь и, говоря, что лучше всего оплачивать ей то место, которым она зарабатывает себе на хлеб, стал целиться и бросать монеты…
Сцевин, казалось, по-прежнему ничего не замечал.
— Я отчаянно твержу себе, что за всем этим обманом и мерзостью должно существовать что-то другое. Мне хочется сорвать небо, стащить его на землю и посмотреть, на чем оно держится. Даже если после моего открытия наступит конец света. Почему бы нет?..
Девушка с растрепанной гривой волос встала, сплюнула и уперлась руками в широкие бедра.
Гулякам она уже надоела, и они отправились дальше. Регул, быстро прошедший вперед, возвратился бегом.
— Враг в переулке!
Мы последовали за ним. Через минуту появилось двое носилок, окруженных слугами с факелами и роговыми фонарями. Сцевин и трое его друзей остались стоять посреди дороги.
— Стойте! Нам известно, что по этой улице должен пройти вор, спрятавший добычу в носилках.
Из-за занавесок передних носилок выглянуло багровое лицо с массивной челюстью.
— Что за глупости? Я вас предупреждаю…
Сцевин толкнул этого человека, и тот упал на подушки. Трое приятелей Сцевина заставили носильщиков нести бегом, подкалывая их сзади ножами. Сцевин повернулся ко вторым носилкам, закрытым какой-то тусклой занавеской, казалось бы непрозрачной, но сквозь которую было все видно сидящим в них. Он раздвинул занавески и увидел женщину, очень молодую и очень толстую, закрывавшую платком нижнюю часть лица и смотревшую большими круглыми глазами на незнакомцев. Она казалась скорее удивленной, чем испуганной, и вяло обмахивалась веером. Сцевин схватил Папиния и втолкнул его в носилки. Регул помог ему задернуть занавески. Перепуганные носильщики швырнули носилки на землю и разбежались. Третий молодой патриций решил догнать носилки, где сидел муж, и убедиться, что тот не остановился поблизости. Вернувшись, он сказал, что того и след простыл. В это время подошел раб и сообщил, что в нашу сторону направляется отряд стражи.
— Подождем и будем драться? — спросил Сцевин. Но приятели вытащили Папиния из носилок за ноги. Все мы обратились в бегство.
Мы со Сцевином, крадучись, быстро шагали по переулку, Феникс не отставал от меня. Сцевин остановился на другом конце переулка и огляделся по сторонам.
— Кажется, я знаю это место. Днем я вечно блуждаю, а ночью чутьем угадываю дорогу.
Он взял меня под руку и потащил в тупик, ударом ноги распахнул дверь и провел по короткому проходу, закрытому тяжелой занавесью. Мы очутились в какой-то прихожей, где сидела пожилая женщина с тонким строгим лицом и шила, сдерживая зевоту. Тщательно сделав стежок, она воткнула иглу в ткань и поднялась. Наперсток на ее пальце блестел, на него падал свет из внутренней комнаты.
— Садись, — сказал Сцевин. — Мы торопимся. Но мы еще не знаем, чего хотим. Еще не решили.
— Пусть будет так, господин, — ответила женщина тихим сдавленным голосом. — Скажи мне, если тебе что-нибудь понадобится.
— Мне нужен весь мир, — ответил он, — но не вздумай доставать его для меня. Это уж моя забота.
Мы прошли в следующую комнату, просторную, с каморками вдоль трех стен. На стенах блестели облупленные, покрытые плесенью картины, изображавшие девушек, бесстыдно ласкающих друг друга, и сатиров, насилующих гермафродитов. На лавках сидели, распивая с мужчинами вино, нагие уличные нимфы или возлежали, раскинувшись в изнеможении.
Одна лежала навзничь у порога, мертвецки пьяная. Кто-то пристроил ей между ног розу.
— Нарцисса! — позвал Сцевин.
Мужчина пел резким негритянским голосом под аккомпанемент тамбурина. Старуха в сером платье грела воду над жаровней. Две девушки дрались подушками, сидя верхом на мужчинах. Они опрокинули сосуд с вином, и какой-то пьяница стал швырять в них кружками. Одна из девушек, дико хохоча, отпустила плечо мужчины и, не удержавшись, опрокинулась навзничь, ударившись головой о табурет. Негритянка тоже безудержно хохотала. Костлявая девица с желтыми вьющимися волосами, перевязанными темной лентой, горько плакала.
— Нарцисса! — снова Позвал Сцевин.
Из каморки показалась голова. У Нарциссы были ямочки на щеках, лукавые глаза и волосы, заплетенные в косы.
— Кто там? Ты что, неграмотный? — указала она на дощечку с надписью; «Занято», висевшую над ее каморкой. Тут она заметила Сцевина. — А, это ты, дружок! Не подождешь? Кто-то изнутри оттащил ее назад.
Разбившая себе голову выла. Пьяница приговаривал: «Поделом, будешь знать, как проливать доброе вино». Еще одна девица старалась схватить чашку пальцами ноги и поднести ко рту. Африканец продолжал петь, а негритянка танцевала, вихляя бедрами и плечами и хохоча. Девочки лет шести-семи подавали вино. В одном углу я заметил двух безразличных ко всему завсегдатаев, бросающих кости.
Сцевин повернулся ко мне.
— Не болтай здесь. В притонах всегда есть соглядатаи. Это место, где мужчины слишком много говорят, — Тут он увидел Нарциссу, стоящую у входа в каморку, — это была коренастая девица с пухлым животом. Она отбросила косы за плечи. Сцевин вошел к ней. Я решил уйти. Мне все не нравилось здесь, и это яркое освещение. Женщина в прихожей подняла голову над шитьем и взглянула на меня, но, признав во мне приятеля Сцевина, ничего не сказала. В проходе стоял Феникс, уныло меня поджидавший.
Я уговорился встретиться на следующий день с Марциалом. Похолодало, и мне нездоровилось. Я решил было послать к нему Феникса с извинениями, но тут Лукан попросил меня отнести записку Меле.
— Очень важно, чтобы он срочно ее получил, — сказал он с оттенком мольбы. — Я прошу тебя отнести записку, мне хочется, чтобы ты поближе познакомился с моим отцом. У него, как тебе известно, обширные коммерческие связи с Бетикой, по существу даже со всей Испанией, — Однако записка не была адресована в дом Мелы на Эсквилине. — Он находится у Епихариды, женщины, во многих отношениях замечательной. Быть может, и тебе полезно с ней повидаться.
Дом находился в малонаселенной части Виминала. Неблизкий путь. Меня сразу же ввели. Мела выхватил у меня письмо, но не проявил желания ближе со мной познакомиться. Меня тоже не тянуло к нему. Он только спросил меня, какое отношение имеет мой дядя Гней к рудникам. Я мало что мог сказать об этом. Я не способен был обсуждать достоинства кордубской меди и сравнивать ее с медью из Гиспала. Он кивнул, словно убедившись, что я нестоящий малый. Затем он сослался на спешные дела, требующие его присутствия.
Я уже собрался уходить, когда вошла его любовница Епихарида, маленькая, узкоплечая и широкобедрая женщина. У нее был необычайно широкий лоб и очень узкая нижняя часть лица, производившая впечатление хрупкости. Длинный и прямой нос, большие продолговатые глаза с каким-то фиолетовым отблеском, затененные густыми ресницами, и удивительно пристальный взгляд. Мне не хотелось на нее смотреть, хотя я затруднился бы сказать, что именно мне в ней не нравилось. У нее был большой рот с толстой нижней губой, казавшейся особенно тяжелой, вероятно, из-за маленького подбородка. Черты ее смягчались ровным яйцевидным овалом лица, и кожа была нежная, оливкового оттенка. Когда я потом вспоминал ее, мне представлялось, что ее черты были нанесены кистью на плавные лицевые изгибы, хотя эго была иллюзия, порожденная желанием воссоздать причудливое единство ее лица. Одета она была также необычно, в старинного покроя ионийский хитон, несомненно скопированный с какой-нибудь пленившей ее статуи. Ткань была мягкой и тяжелой и все же достаточно тонкой и прозрачной, чтобы угадывались линии ее тела. Ее полные руки выглядывали из широких рукавов, слегка прихваченная поясом ткань свободно ниспадала к ее крохотным ногам. Противоборствующие элементы в ее лице, пожалуй, во всем теле — сила и хрупкость — придавали ее облику свежесть и оригинальность, она была одновременно занятна и очаровательна, смешна и восхитительно серьезна. У нее были быстрые движения, и говорила она на редкость низким голосом.
Ее появление не понравилось Меле. Он постарался ее выпроводить. Но она только посмеялась над ним и предложила мне вина. Я догадался, что она узнала о моем приходе и пришла его подразнить. Ей была свойственна какая-то дикость и приветливость, и в обращении с Мелой она проявляла снисходительную небрежность.
— Ты живешь у Марка, — сказала она. — Какого ты о нем мнения?
— Я ему очень благодарен и искренне восторгаюсь его дарованиями.
— Таково всеобщее мнение. Я хотела узнать, что ты о нем думаешь.
Она должна была бы догадаться, что я, даже если б хотел, не стал бы говорить о Лукане в присутствии раздраженного Мелы.
— Случай редкий и счастливый, когда личное мнение совпадает со всеобщим.
— Ловко сказано, — ответила она, кивнув Меле. — Терпеть не могу ловких и уклончивых ответов. — Тут она посмотрела на меня с ободряющей улыбкой. — Я надеялась, что в тебе осталась хоть капля бетийской неотесанности, но, как видно, ты уже заражен нашим римским лицемерием.
— Но почему ты не хочешь допустить, что я в самом деле признательный поклонник Марка Аннея? — спросил я, чувствуя, что начинаю запутываться.
— Я ничего не хочу допускать. Я просто говорю, что ты не ответил на мой вопрос.
Моя досада улетучилась. То была только игра, попытка завязать личные отношения. Я почувствовал, что нравлюсь ей. Она давала понять, что хотела бы побеседовать со мною наедине — о Лукане или о чем-нибудь другом.
— Я готов подробно, обсудить с тобой этот вопрос, — ответил я, — в любое время, когда ты найдешь возможным.
— Она ничего не смыслит в поэзии, — вмешался Мела, недовольно хмурясь. — Впрочем, как почти и во всем остальном.
— Это потому, что на прошлой неделе я допустила кое-какие неполадки в хозяйстве. Мне показалось, что один воз сыра был доставлен нам по ошибке, и я раздала его бедным семьям, что живут в переулке позади нашего дома.
Мела взорвался.
— Зачем же было его отдавать, если прислали по ошибке! — Он еще пуще насупился, столь нелогичный поступок вывел его из себя.
Она улыбнулась сперва ему, потом мне. Мела был лишен чувства юмора — он ничего не смыслил в этой женщине.
— Он заставляет домоправителя и казначея день и ночь подсчитывать его доходы и расходы, — сообщила она мне, — а потом жалуется на путаницу в кухонных счетах. Дело в том, что я отлично разбираюсь в деловых вопросах, если они требуют чутья и размаха. Но у меня нет охоты подсчитывать медяки, потраченные на еду. Все же я полагаю, что правильно распорядилась сыром.
Мела подхватил меня под руку и повел к выходу.
— Я сожалею, но вынужден уйти по срочным делам! — Так, не отпуская моей руки, он довел меня до дверей, отнюдь не из вежливости, а из опасения, как бы Епихарида не перехватила меня. На обратном пути я стал придумывать, как бы с ней встретиться и при этом не испортить своих отношений с Луканом из-за соперничества с его отцом. Я обдумывал ее слова и улыбки и приходил к убеждению, что она шла мне навстречу. Но тут же являлась трезвая мысль, что она обладает сильным чувством юмора и обошлась со мной весело, и непринужденно, как могла бы обойтись с кем угодно, чтобы досадить напыщенному Меле.
Я пришел к Марциалу, опоздав лишь на несколько минут. Он был в отвратительном настроении. Книгопродавец после бесконечных проволочек решительно отказался выпустить его эпиграммы.
— Я не смог назвать ему поручителя, который покрыл бы большую часть расходов и купил достаточное количество копий.
Мы прогуливались вдоль книжных лавок; роскошно изданные труды богатых дилетантов выводили его из себя. Он кратко рассказывал мне о торговцах и покупателях. Я читал объявления на колоннах, обращенные К читателю, заглядывал в новые свитки, разложенные на столах вместе с рекламами.
— Еще одна трагедия о Фиесте, — буркнул Марциал. Потом он стал объяснять мне коммерческую сторону дела. — По закону автор может требовать платы только за первую копию, снятую с его рукописи. Юристы по-ученому и по-глупому распространили на все рукописи старый принцип, в силу которого право собственности на все дополнения вытекает из права собственности на основной труд. Поэту приходится продавать сценический текст мимам, если он хочет что-нибудь заработать.
Мы зашли в лавку Атректа в Аргилете, где полки и прилавки были завалены свитками и книжками. В задней комнате рабы-переписчики работали с поразительной быстротой. Некоторые из них переписывали речи со сделанных на табличках скорописцами записей. Другие склеивали полоски папируса, вычерчивали красные линии и выводили киноварью заголовки, шлифовали пемзой края манускрипта или чернили их, прикрепляли бляшки из слоновой кости к стержню, вокруг которого обернут папирус, окрашивали пергамент, предназначенный для обложек, в ярко-красный или желтый цвет. Атрект, мужчина с квадратным лицом, усеянным бородавками, поспешно подошел к нам.
— А, это ты, друг мой Марк Валерий. Когда же мы увидим твою книгу? Что ты принес? Пачку эпических поэм или трагедий?
— Одну-две эпиграммы. Я дал слово никогда не сочинять ни эпических поэм, ни идиллий, ни посланий, ни эпиталам… Четыре-шесть строк. В крайнем случае восемь, если накатит вдохновение. Эпические поэмы — удел откормленных дилетантов, а не поэтов, питающихся только молоком муз!
Атрект усмехнулся.
— Наш друг остряк, — обратился он ко мне. — Он знает, что я хочу ему услужить, но цены на папирус все растут. Эти пройдохи египтяне крепко держатся за свою монополию на этот тростник. Да и Пожар уничтожил у меня множество книг и папирусов. Вдобавок эпиграммы не сулят барышей. Кто только их не сочиняет! Они уместны в беседе после обеда, а не в книгах. — Услыхав мое имя, он пристально поглядел на меня. — Я видел тебя с Марком Луканом. Мне хотелось бы почитать, что ты там написал. Уж больно много развелось поэтов. Кто покупает стихи, кроме поэтов? Откуда мне знать, что ты там сочиняешь? Тебе лучше известно. Ведь ты дружишь с двумя такими поэтами! — Он слегка подтолкнул меня локтем. — Извини меня, но мне приходится следить вот за тем стариком. Он ссылается на свою рассеянность и уходит, захватив под мышкой свитки. Подлость.
— Я вернусь в Бильбилу, несмотря на железные рудники, — мрачно сказал Марциал, когда мы вышли из лавки. И тут же рассмеялся. — Когда-нибудь! — Он успокоился и стал мне называть встречавшихся знаменитых людей. — Посмотри, это Цецилий. Он пускал пыль в глаза и появлялся на носилках с шестью носильщиками. Это в то время, когда у него не было и шести тысяч сестерций. Теперь у него около двух миллионов. Так вот, теперь он ходит пешком. — После подобных замечаний Марциал всякий раз оживлялся. Он пришел в такое хорошее настроение, что даже позвал меня к себе. Я заметил, что ему не так-то легко далось это приглашение.
Мы миновали несколько канцелярий, и он указал мне на женщин, работавших в качестве письмоводителей; потом — на продавца козьих шкур, на человека, орудовавшего безменом. Какой-то юрист старался привлечь к себе внимание и громко излагал постановление о ночных горшках спросившему у него совета тощему, явно робевшему человеку.
— …Если же несколько жильцов, учинить иск можно только тому из них, который занимает часть помещения, находящуюся на том уровне, откуда была выплеснута жидкость.
— Это не касается лично меня, — оправдывался человек. — Жена заставила меня сходить к вам и спросить. Ей испортили ее лучший наряд.
— Слушай внимательно! — с раздражением перебил его юрист. Он говорил через голову своего тощего клиента, обращаясь к собравшейся вокруг толпе. — Если же съемщик, сдающий дом в субаренду, пользуется большей частью помещения, то ответственность всецело падает на него. Но в случае, если съемщик, сдающий помещение в субаренду, оставляет за собой лишь небольшую часть площади, то ответственность лежит как на нем, так и на субарендаторе. Те же правила остаются в силе, если посуда выброшена либо ее содержимое вылито с балкона. — Тут он опустил глаза и посмотрел в лицо своему клиенту: — Какой из этих случаев имел место у тебя?
— Не знаю, — ответил, закашлявшись, человек. — Я не уследил за твоей речью. Знаю только одно: у жены испорчен ее лучший наряд. И еще должен сказать, что хотя мне приходилось в жизни нюхать скверные запахи, но этакой вони — никогда.
Мы пошли дальше. Трусившие рысцой рабы, ликторы с важной осанкой, расчищающие дорогу судье с лицом удрученной овцы, разряженный грек-торговец сзавитыми намасленными волосами и тонким подергивающимся носом, носильщики паланкинов с тупыми лицами, в красных накидках, привлекающий всеобщее внимание мим, человек, старающийся определить время по карманным солнечным часам и проклинающий облако, закрывшее солнце. Обычная уличная сутолока. Затем мы свернули в переулок, где жили портные. На мостовой валялись лоскуты ткани, был рассыпан пух; потом очутились в переулке, где выделывали плащи; продавцы в коротко подвязанных туниках стояли за прилавками, другие в фартуках и колпаках работали за верстаками. Марциал знал их всех. Он спросил одного из них по имени Исидор, как идут дела.
— Из рук вон плохо, — ответил тот, встряхивая копной волос, где запутались шерстяные нитки. — Небеса нас подвели. Плеяды зашли в чистом небе. Ни единого облачка. Верный знак, что будет ясная суровая зима без дождей. Мы вложили все свои деньги в нижнюю одежду и пренебрегли плащами. А сезон оказался дождливым.
Марциал стал торговаться, чтобы меня позабавить.
— Сколько стоит вот этот плащ?
— Сто динариев, — ответил Исидор, разводя руками.
— А этот, непромокаемый?
— О, этот — двести. — Он даже согнулся, называя такую высокую цену, словно придавленный ее тяжестью. Вид у него был печальный, но неумолимый. — Превосходное сукно, пощупай-ка, в таком плаще можешь разгуливать в грозу и вернуться домой сухим.
Марциал предложил полцены.
— Невозможно. Ты шутишь. Это стоимость ткани. Право же, ты шутишь. Пощупай, какой материал. — Мы пощупали сукно, и Марциал сказал, что он бедный человек, живет впроголодь на доход от стихов и не надеется разгуливать в тепле и сухим, да еще за счет столь полезного гражданина, как Исидор. — Тебе угодно шутить, господин. Давай по-деловому, назови цену, какая тебе подходит, я верю тебе, только прошу тебя — дай мне достаточно, господин, чтобы я мог прожить со своими детишками.
Марциал попросил его отложить плащ и обещал прийти за ним, как только у него будут сто десять динариев.
— Ты можешь мне верить, — добавил он.
— Отлично, господин, отлично, я верю тебе и отдам плащ в ту же минуту, как ты принесешь деньги, и буду благословлять тебя. Как ни чудно, но мне тоже нужно жить, да еще с семьей, у меня трое детей и жена и бедная старая мать, всем нам нужно есть — хочешь верь, хочешь нет!
Я спросил Марциала, как он успел узнать столько народа за такое короткое время. Он улыбнулся и сказал, что, чем бедней человек, тем шире круг его знакомств. Мы прошли мимо «Четырех сестер», где на вывеске были нарисованы три обнявшиеся грации и четвертая, играющая на флейте. Одна из сестер, стоя в ленивой позе у двери, заводила разговоры с прохожими.
— Я давно тебя не видела!
— Я заслуживаю уважения, потому что я беден, а дома у меня девушка, в которой воплотились все четыре грации, хоть она и не умеет играть на флейте.
— Пошли ее к нам, мы научим.
— Боюсь, она узнает чересчур много мелодий. Пусть ее губы остаются необученными.
У сестры была непривлекательная внешность, над губой обозначались усы, но большие черные глаза смотрели ласково из-под длинных ресниц.
— Ты трус, — сказала она.
— Да, я трус, без гроша, скуп, холодно расчетлив и страдаю самыми гнусными пороками. — Когда мы завернули за угол, он снова стал развивать теорию эпиграммы. — Сатира невозможна. Слишком много чудовищ, слишком тяжелые кары за высказывания! Обрати внимание на постепенный упадок: от Луцилия к Горацию и к Персию. Персий — это последняя стадия. Только эпиграмма может правдиво отражать нашу раздробленную жизнь и как-то справиться с правдой — крохотный осколок правды, который, хоть и жалит, но не навлекает на себя яростную расправу чудовищ.
Мы подошли к зданию, которое сносили. Обрушилась стена, и поднялась туча удушливой пыли, выгнавшая откуда-то стаю насмерть испуганных собак; девица, высунувшаяся из окна соседнего дома, ошеломленная, вывалилась на улицу. Мы подбежали к ней, но она не ушиблась, и теперь ей грозила опасность лишь со стороны уличного торговца, на чьи мешки с капустой она угодила. Кто-то швырнул в него гнилым яблоком. Марциал продолжал делать замечания по поводу людей, которых мы встречали.
— Посмотри-ка на этого евфратца. У него пять лавок и сорок тысяч годового дохода, он важно расхаживает с дюжиной рабов; взгляни на его серьги, они почти такого же размера, как кандалы, которые он когда-то носил.
Грузный мужчина стоял возле нарядного паланкина с откинутыми занавесками, открывавшими внутреннее убранство — египетский валик в изголовье, пурпурные покрывала и алые стеганые одеяла. — Теперь люди с почтением слушают даже его храп. Он любит являться сюда и оскорблять тех, кто знал его, когда он был рабом. Особенно одного кондитера, который велел его однажды выдрать за кражу ватрушки. Теперь кондитер пресмыкается перед ним.
Марциал поклонился и сказал несколько слов о погоде. Темнокожий богач соизволил помахать сверкавшей кольцами рукой, вяло отвечая на приветствие, но не сумел скрыть своей радости.
— Приходи ко мне как-нибудь обедать, — сказал он едва ли не вдогонку нам. — Я хотел бы с тобой поговорить о деле.
— Как нельзя более кстати, — шепнул мне Марциал. — Я пообедаю у него, когда буду голоднее обычного и менее разборчив, а заодно найду у него темы для дюжины гневных эпиграмм. Я писал ему памфлеты против его врагов. Вероятно, я нужен ему именно для этого. Разве только он ухаживает за какой-нибудь скрягой вольноотпущенницей и хочет поразить ее любовным посланием в стихах.
Потирая руки, чтобы согреться, мы поднялись по ухабистой улице, прошли мимо дешевой таверны и стоявшего на самой дороге стула цирюльника, затем свернули в тесный проход, где нам пришлось идти гуськом, и вспугнули стервятника. Улица Куропатки. Марциал привел меня к покосившейся двери, испещренной обычными надписями: «Флавия любит Тита» было исправлено на «Гитон любит Флавию», и тут же обиженный Тит нацарапал мелом: «Кто угодно может получить Флавию за кочан капусты». Предлагали дешевые домашние пироги, сулили наслаждения за пять медяков, советовали остерегаться мошенника Евтихия. «Здесь я сошелся с Калиодором», «Лицо у Ликриды, как ночной горшок», «Пусть дикий медведь раздерет зад тому, кто здесь испражняется».
— Я всегда читаю эти надписи, — заметил Марциал. — Они проливают свет на человеческую природу. Мало того, им не чуждо своеобразие выражений. Никогда не следует пренебрегать даже самым скромным материалом. В сущности, презрения заслуживает прилизанная литература высших классов. Я охотнее стану учиться стилю у разгневанной девки или у грузчика, чем у модного римского ритора.
У подножия лестницы стоял огромный сосуд, от которого несло затхлой мочой. Мы поднялись по шатким, проеденным крысами ступеням. На высоте локтя во всю стену была отбита целая полоса штукатурки. На верхнем этаже Марциал занимал две комнаты. Когда он отворил дверь, мне на голову посыпалась штукатурка. Однако жилище, в которое мы вошли, было чистым и уютным. Ложе было покрыто ярким цветастым одеялом, на поставце кедрового дерева стояла бронзовая статуэтка Меркурия. Марциал погладил ее и рассказал, как он подцепил ее у старьевщика, которому она досталась от солдата, заложившего ее вместе с амуницией. «Статуэтка лежала в сумке, и он ее не заметил», Марциал позвал девушку из соседней комнаты; это была стройная смуглая уроженка Египта, с раскосыми глазами и красивыми темными, отливавшими золотом волосами. Она заговорила по-гречески, но он остановил ее с шутливой улыбкой:
— По-латыни, пожалуйста. Ты знаешь наш язык достаточно хорошо, хотя и считаешь, что твой греческий с канопийским акцентом больше тебе к лицу.
— Я родилась в Бубасте, — ответила она.
Мне понравились ее густые, сильно изогнутые брови, тонко очерченные щеки с чуть широкими скулами; правда, глаза маловаты и она близоруко щурилась. Марциал казался привлекательнее обычного. Его темные волосы были помазаны маслом и приглажены; выражение его правильного лица, туго обтянутого кожей, было менее напряженным. Когда он уставал, резче выступали скулы, небольшие впадины на щеках исчезали или нервно трепетали. Он посадил Тайсарион к себе на колени и пояснил мне, что она и неуклюжий каппадокиец — вот и все его домашние.
— И мне не хотелось бы что-либо менять в своей жизни. Единственное мое желание — быть более уверенным в завтрашнем обеде.
Девушка слушала внимательно, потом она пригладила платье на своих худых коленках, встала и принялась разливать вино. Мне пришлось подавить некоторую ревность. Я не завидовал, или самую малость, богатству Лукана и других римлян. Преторианцы ненадолго пробудили во мне желание разделить их суровую военную жизнь и восстановили против пустых прихотей и пышности в какой утопали зажиточные горожане. Лишь здесь, на чердаке, меня стала грызть жестокая ревность.
Марциал был в превосходном настроении. Он ласкал девушку, принимавшую знаки его внимания с невозмутимой серьезностью. Она слушала спокойно, но с каким-то отчужденным видом, не выказывая приветливости, пока он ее расхваливал, противопоставляя светским женщинам, которые (за исключением доисторических матрон, обитательниц Сабинских нагорий, — ревностных ткачих и прях, ненавидевших вино, по их мнению способствующее выкидышу) были всецело заняты косметикой, игрой в кости, прелюбодеянием и зрелищами. Но, возможно, она не понимала его речи, ибо когда он горячился, то говорил быстро. Кроме первых фраз, сказанных по-гречески, и реплики насчет Бубасты, она произнесла по-латыни только: «Пожалуйста, пейте», выговаривая раздельно, словно обдумывая каждое слово, и в самый разгар воздаваемых ей господином похвал промолвила:
— Сегодня опять холодно.
Смуглый каппадокиец принес жаровню, и мы погрели руки. Я упомянул о Паконии, и это вызвало новую обличительную речь Марциала против всех богатых философов, придерживающихся учения стоиков. Он стал рыться на полке в обрывках папируса, придавленных камнем с прожилками железной руды, привезенным им из Бильбилы. Наконец он нашел нужную эпиграмму.
Все братья ему — и сотни рабов покупает.
Деньги клянет — и в рост дает миллион.
К власти стремится, но нам божество милосердье явило:
Вот зарезался он и все искупил
[120].
— Не по душе мне эти великие люди с нечистой совестью. Что такое в наши дни стоицизм, как не догма, позволяющая сенаторам умереть с сознанием своей исключительности, когда император вздумает отобрать их нечестно нажитое добро? Нет, я предпочитаю своего каппадокийца. Жизнь — это нечто такое, что необходимо пережить. Мы должны использовать ее как можно лучше, без всяких иллюзий и самомнения. Не называя себя примерными гражданами, и при этом не обманывая близких, и не делая себе кумира из своих болезней и бессилия. Мы с тобой можем испытывать унижение, не придавая этому мирового значения.
Мне хотелось возразить ему, указав, что в убеждениях Пакония, Сенеки и Лукана есть нечто ценное, тут дело не только в нечистой совести и в раздутом эгоизме. Но по обыкновению я не нашел подходящих слов и боялся исказить свою мысль неловкими выражениями. Я только спросил!
— Ты думаешь, слово свобода не имеет значения?
— Я считаю, что оно имеет много значений, даже чересчур.
— Но никакого особого значения.
— Бели я раб или наемник, я несвободен, ибо не могу располагать своим временем. Если я без гроша, я не могу набить себе брюхо — и опять же несвободен. Если я болен, то не могу взять к себе в постель Тайсарион — и это ограничивает мою свободу.
Она кивнула с серьезным видом.
— Так оно и есть.
— Свобода располагать своим временем, пить и есть что нравится, и предаваться любви — это главное.
— И говорить то, что ты думаешь?.
— Подобно большинству людей, я не так уж много думаю об этом. А то, о чем думаю, я ухитряюсь высказать почти полностью и без искажений.
— И у тебя нет желания участвовать в политике государства?
— Я не вижу никакой политики. Я усматриваю, с одной стороны, борьбу честолюбий и расхищение государственной казны. Мне хотелось бы, чтобы с этим было покончено, но участвовать в подобных действиях — слуга покорный! Закон слаб и изобилует лазейками, хотя по временам и карает какого-нибудь преступника; с другой стороны, я вижу, что существует ряд настоятельных потребностей, ускользающих от всякого надзора.
— Итак, ты считаешь, что невозможно изменить положение вещей?
— Вероятно, многое можно, но я склонен думать, что в конечном счете любые изменения приведут к тем же результатам.
Тут я сдался. Я заразился его взглядами. Потом он заявил, что существует философ, которого он уважает, — это Музоний. Но у Музония ограниченные средства, он не дает взаймы, не занимает доходного места. К этому времени я потерял желание довериться Марциалу и спросить его совета. Меня удручал его здравый смысл. Все же я испытывал зависть, замечая, какие взгляды бросала на него Тайсарион, пока он говорил. Она ничего не понимала и обожала его.
В коридоре послышался шум, и мы вышли посмотреть, в чем дело. Упал человек с жиденькой, кое-как сработанной лестницы-стремянки, приставленной к люку в крыше. Марциал представил мне его — Фаон, любитель голубей, соорудивший на чердаке голубятню. Фаон, лохматый малый с переломанным носом и изуродованным ухом, приветливо улыбался. Он потер левую голень, опасливо потрогал челюсть, потом предложил мне осмотреть его заведение. Я стал осторожно взбираться по стремянке. Вместо перекладин были жердочки, кое-как привязанные старыми веревками к узловатым боковинам. Наконец я добрался до крыши.
— Я обмазал стены самым лучшим раствором с мраморной крошкой, — заговорил Фаон глуховатым голосом, подходя к голубятне и все еще потрагивая ушибленную челюсть. — Посмотри, окна забраны решетками. Кроме квартирного надзирателя, я боюсь только крыс. И ястребов, но меньше. — Всюду были приделаны полочки для голубей, сетками отгорожены садки для горлиц, сидящих на яйцах, вдоль стен — корытца с бобами, ячменем и фасолью. Я смотрел на крыши домов, ступенями уходившие вдаль, дивясь разнообразию их наклонов и обилию всевозможных предметов, выброшенных или хранившихся на кровлях. Кое-где между крышами чернели провалы — опустошения, вызванные пожаром, — и виднелись развалины дома или храма. Снова я почувствовал беспорядочное смешение человеческих жизней в Городе, и мне подумалось, в какой хаос он сразу погрузится, если рухнет римское могущество. И разве это могущество сможет удержаться в нашем мире, где Город является верховной эмблемой порядка, закона, мира, искусства, устойчивым центром, организующим всю жизнь, если не станет императора или он будет свергнут, уничтожен? Легко рассуждать о том, как избавиться от недостойного лица и поставить на его место более человечного властелина, — подобные разговоры не имеют ни малейшего смысла, если вдуматься в сложные сплетения ненадежных обстоятельств. Это все равно, что попытаться заменить замковый камень широкого свода, дабы изменить архитектурный стиль, забывая, что если удалить этот камень, то рухнет свод и разрушится все опирающееся на него.
— У меня душа в пятки ушла на прошлой неделе, когда сюда заявился надзиратель, — рассказывал Фаон. — Он заглянул во все комнаты верхнего жилья, но я разобрал свою лесенку на куски. Вот почему она у меня связана веревками. «Что это за палки? — спросил он. — Уж не собираешься ли ты разжигать на полу костер?» «Нет, — ответил я, — я собираюсь их продать». «Продать?» — переспросил он и подозрительно на меня посмотрел. И все-таки я его провел!
— Он нашел у меня под кроватью веревку с узлами, — сказал Марциал, — и я объяснил ему, что держу ее на случай пожара, чтобы спуститься через окно. Вероятно, он подумал, что и ты хотел смастерить что-нибудь такое.
— Верно, это мне и помогло! — воскликнул Фаон. — Я заметил, как он смотрит на обрывки веревки. — Он схватил Марциала за руку. — Если б он обнаружил голубей! Он мог их отобрать. Удвоил, утроил бы плату за квартиру, и мне была бы крышка! Уж не шепнул ли ему про моих птичек какой-нибудь прохвост? Прежде он, если и заглядывал сюда, то раз в три месяца — с сумкой для квартирной платы. Здесь сроду не делали починки — только замажут трещины краской или подштукатурят слегка, чтобы дом не развалился. — Фаон покачал головой. — Нет, не может быть, чтобы он пронюхал, не то он заглянул бы на крышу.
— Я так и не мог допытаться, кто хозяин нашего дома, — заметил Марциал. — Керинф работает на арендатора, который передает дом в субаренду. Однако будь готов к худшему, малый. В этом году здорово повышается квартирная плата. Надзиратели станут толковать, что благодаря, мол, новым постройкам квартал стал более аристократическим, и наше счастье, что мы не сгорели.
Фаон кивнул головой и погрозил кому-то кулаком. В свободное время он работал у торговца голубями в предместье Города — у него он покупал или воровал своих птиц. Его работа состояла в том, что он нажевывал смесь винных ягод и муки, которой откармливали голубят. От этого корма он и сам жирел.
— Никак не удержишься, чтобы самому не глотать, — заключил он, подмигнув нам и улыбаясь. — К тому же экономишь на еде.
Марциал слушал с довольной улыбкой, вставляя время от времени словечко, чтобы Фаон продолжал забавный рассказ о злоключениях любителя голубей. Впервые меня горячо заинтересовал образ жизни такого вот человека. Я стал смотреть на квартал глазами Марциала, и он уже не казался мне беспорядочной смесью бесцельных ничтожных существований, но плодотворным поприщем разнообразной деятельности, искусным сплетением интересов, специальностей, практических знаний и всевозможных усилий, все это вместе взятое придавало смысл тому миру, который созидало римское могущество. Миру, которым одно мое «я» гордилось, к которому я был причастен и стремился защищать. Миру, который другое мое «я» отвергало, как это делал одетый в лохмотья философ-киник, встреченный мною в Субуре. Когда он выкрикивал свои обличения, мне стало стыдно, и я поторопился отойти подальше. Стыдно и за него и за себя. Ему недоставало такта, он был нелепо заносчив и неспособен произвести впечатление на слушателей, а я по своему малодушию не остановился и не стал вникать в смысл его речей, дабы их беспристрастно оценить.
Мы похвалили голубятню и осторожно спустились вниз. На прощание Фаон упомянул о завтрашних ристаниях на ипподроме, словно не сомневался, что встретит нас там. Тайсарион сидела у окна, наигрывая на каком-то маленьком египетском струнном инструменте; мимо окна пронеслись голуби Фаона.
— Пора прилететь первым ласточкам, — сказал Марциал. — Но я еще не видел ни одной.
Я сделал еще одну попытку вызвать его на откровенность.
— Как ты думаешь, имеют ли ценность все эти протесты недовольных стоиков? Можно ли им придавать какое-нибудь политическое значение или же это всего лишь упражнения в академической риторике и желание на худой конец обрести пьедестал для красивой смерти?
Он задумчиво поглядел на меня.
— Они могут иметь значение, если ритору придется осуществить на деле то, о чем он говорит, или по крайней мере сделать вид, что он это осуществляет. Этого достаточно, чтобы обрушить громы на его голову. Не дай себя завлечь в сети таких смертоносных речей! — Он говорил Медленно и серьезно.
— Я слишком обязан Марку Лукану, чтобы так просто с ним порвать.
Он пожал плечами.
— Тогда тебе придется считаться с последствиями твоей преданности. — Тон был насмешлив, но в нем сквозила подлинная тревога. — Меня будет утешать сознание, что я тебя предупредил. А может, и не будет.
Тайсарион продолжала задумчиво наигрывать в сгущающихся сумерках.
Лишь на обратном пути, когда я спускался по крутой улице, я вспомнил, что хотел заставить его принять от меня деньги на покупку плаща у Исидора. Но уже было поздно возвращаться; к тому же, говорил я себе, он ни за что не взял бы у меня денег, даже если бы я предложил ему их взаймы.
Пришел март и с ним уверенность, что новый год действительно наступил. Фламины убирали прошлогодние лавровые ветви и заменяли их свежими. Лавровыми ветвями украсили двери старой часовни Стражи и алтарь Весты. Я видел, как туда вносили свежие лавры. Воздух сразу потеплел, это радовало меня, но все же я чувствовал свою отчужденность. Лукан, казалось, избегал меня. Когда разгуливал по городу, мне все мерещились знакомые лица из Кордубы. Однажды я даже подошел к одному человеку, приняв его за Луция Муниция Апронтана, возглавлявшего самое большое предприятие по разработке медных рудников в моем родном городе. Оказалось, что это приезжий из Аквина, он был недоволен, что я с ним заговорил, и дурно это истолковал.
Как-то я проходил близ Коровьего рынка и увидел процессию, спускавшуюся к Тибру с Кораблем Изиды. Впереди шла группа ряженых в уродливых масках о длинными носами и огромными ушами, они играли на волынке и кружились в пляске, то сбивались в кучу, то бросались в разные стороны, бичуя и разгоняя зевак. За ними шли одетые в белое женщины, разбрасывая плавными, изящными движениями цветы, размахивая священными покровами богини, и мужчины с горящими факелами. Далее следовал хор, гимны звучали протяжно, торжественно и нежно под аккомпанемент пронзительных звуков флейт и бряцание кимвалов, окруженные верующими жрецы несли статуи богов с головами животных. Я видел, как они остановились у одного из алтарей, воздвигнутых вдоль дороги, и стали плясать и петь. Жрица с тонко очерченным овалом лица и нежно-золотистыми волосами легко шла мне навстречу с закрытыми глазами, словно утратив вес в состоянии транса. Она почти касалась меня, когда остановилась. Но вот она очнулась, состояние экстаза прошло, и она увидела, что я стою рядом. Несколько мгновений она пристально смотрела на меня, потом повернулась и пошла к своим. Когда ее огромные глава открылись и она увидела все окружающее и меня, мною овладел слепой, панический страх, неизъяснимое благоговение. Она казалась живым воплощением Изиды, чье каменное тело я ощупывал в темноте, когда заблудился в ночь своего приезда в Рим. Потом страх рассеялся, хотя дрожь не унималась. Я без труда совладал с возникшим у меня на мгновение желанием слиться с рокочущей толпой. Час спустя, вспоминая лицо жрицы, я обнаружил у нее сходство с Гермой, хотя черты ее были, пожалуй, более тонкими. Однако тут же отогнал эту мысль, вспомнив, что за последнее время уже не раз ошибался.
Мне стало ясно, что Лукан, как, впрочем, и я сам, не хочет объясняться начистоту. Он удовлетворялся тем мистического порядка согласием, какого от меня добился при чтении «Фарсалии». Ему хотелось, чтобы я торжественно заявил о своей приверженности к его особе и к его поэзии, но он не собирался открывать мне свои политические замыслы. И все же по целому ряду мелких признаков, не ускользавших от моего настороженного внимания, я догадывался, что он, Афраний, Сцевин и, очевидно, многие другие участвуют в каком-то заговоре. Сводилось ли все к опрометчивой болтовне во время сборищ? Или существовал выработанный план действий? Я этого не знал. Но невоздержанные речи представляют не меньшую опасность, чем реальные планы выступления, если о них пронюхает соглядатай.
И все же настал день, когда Лукан попросил меня остаться дома и отобедать с ним. Он огляделся по сторонам и, убедившись, что никого нет, взял меня под руку. В саду, куда наконец прилетели ласточки. Две птицы свили гнездо на самой верхушке башни звездочета в нижнем конце сада; крышу башни можно было поворачивать или открывать, но гнездо ласточек находилось под неподвижным карнизом.
— Я доверяю тебе, мой друг, и нынче вечером ты в этом убедишься.
Я не знал, что ответить. Сказал неопределенно:
— Благодарю тебя.
— Время, — бросил он, кивнул мне и удалился; на прощание он улыбнулся с видом заговорщика, но улыбка сменилась выражением тревоги и неуверенности, которую он постарался прикрыть вторичным кивком.
Я побрел к пруду, где белели водяные лилии, и, нагнувшись, ненароком в него заглянул. Фонтан был закрыт, и я увидел свое лицо, четко отраженное в неподвижной воде. Обыкновенное лицо с чертами достаточно правильными, чтобы его можно было назвать красивым, подумалось мне. Нос, правда, коротковат, но не чересчур. Рот не назовешь ни энергичным, ни чувственным, но есть оттенок и того и другого. Только глаза показались мне незнакомыми из-за их холодного стального блеска, они были как бы полны жидкого огня. Но, возможно, сверкание моих глаз было лишь отблеском полуденного солнца в воде и отнюдь не выражало затаенной тревоги и страха. Я закрыл лицо руками, пораженный сделанным мною открытием; когда я опустил руки, темная туча набежала на солнце и отражение потускнело. На пруд упал лист, по воде побежала легкая рябь, и мое лицо исказилось: оно слегка расплылось и на мгновение приобрело сходство с лицом Лукана, но вот я вновь увидел свое лицо, правда слегка дрожащее.
Оказалось, приглашены были Сцевин с супругой и Антоний Наталис, человек среднего сословия. Из некоторых фраз я понял, что Лукан нарочито преувеличивал значение моей семьи в Бетике, вернее, той ветви, к которой принадлежал мой отец. Правда, за последние годы двоюродный брат моего отца стал влиятельным человеком в провинции благодаря успешной деятельности в компании, разрабатывающей медные рудники Гиспала. Тот человек, о котором Мела хотел знать подробнее. Он даже совершил путешествие на север Балкан, чтобы познакомиться со способами разработки золотых приисков, там делали значительные выемки в скалах, причем самые твердые породы выжигались огнем. В Кордубе не было, как в Гиспале, обширных залежей меди, но ее добывали из жилы, уходящей в недра земли, поэтому приходилось прорывать колодцы, порой глубиною в десятки сажен. Мой двоюродный дядя выполнил несколько поручений правителя Гальбы. Но он не поддерживал отношений с нашей семьей из-за вражды, продолжавшейся добрых тридцать лет. Причины ее были полузабыты, но разгорелась она из-за какого-то поместья под Кармоном, теперь уже ненужного ни ему, ни нам. Я сообщил Лукану, как обстояли дела, хотя, признаюсь, недостаточно остановился на семейном разладе. К тому же у меня было чувство, что он рассеянно слушает меня и ему в тягость рассказ о таких заурядных семейных дрязгах.
Тот факт, что он слушал меня вполуха, был характерен для наших отношений, которые то переходили в доверительную близость, то сменялись отчужденностью, когда я чувствовал себя, как клиент перед патроном. В нем жила стихия огня, привлекавшая меня к нему, но ему были свойственны и напряженная замкнутость, даже скрытность и какой-то страх или отвращение к нормальным отношениям. Таким он постоянно бывал не только со мной, но и с Поллой. Он нуждался в преданных почитателям, но был неспособен целиком отдаться своей идее или боялся пойти на жертву. А между тем только жертва дала бы ему право требовать слепой покорности.
Говоря об этом, я забегаю вперед. Но я не могу иначе объяснить свое отношение к нему и ту внутреннюю борьбу, какая непрестанно происходила во мне. Например, я догадывался, что он завидовал Сцевину, хотя любил его и в нем нуждался, и предметом его зависти была отличавшая его друга безрассудная смелость. Если бы это свойство не сочеталось в Сцевине с презрительной насмешливостью, ему охотно подчинялись бы люди, испытывавшие на себе его влияние. Но в то время мое благоговение перед Луканом заглушало внутренний голос, говоривший о его недостатках. Впоследствии, когда я увидел, что он разделяет нелепые предрассудки людей своего круга, и обнаружил другие его слабости, мое отношение к нему изменилось, отчасти под влиянием едких замечаний Марциала, который, хотя и не называл имен, все же как-то принижал Лукана, чьи стихи были вовсе не по вкусу сатирику. Но в целом Лукан оказал на меня значительное влияние, оно было весьма прочным, и воспоминание о поэте — самое живое из всех впечатлений, вынесенных мною из Рима.
Я предчувствовал, что обед будет иметь решающее значение. Он окончательно привяжет меня к Лукану либо натравит по пути независимой иронии, по которому так беззаботно шел Марциал. Мы собрались сначала в комнате Бедняка, где вся обстановка и утварь были такими же, как в хижине убогого крестьянина. Стол, ложа и табуреты были сделаны из некрашеного дерева, хотя и дорогих сортов; в углу находился очаг, и над огнем был подвешен на деревянной треноге суповой горшок, однако это был драгоценный античный сосуд, принадлежавший якобы самому Гераклу; деревянные тарелки были выточены известными мастерами и отмечены их подписью; огромная паутина в углу выткана из тончайшего шелка, глиняные сосуды добыты из этрусских погребений. Эта комната досталась Лукану вместе с домом при покупке, и он не раз говорил, что надо выбросить всю эту чепуху, однако оставлял все на месте. Выпив легкого вина, мы перебрались в соседнюю комнату, одну из небольших столовых, где красовались неизбежные столики из лимонного дерева с Атласских гор с мраморными столешницами и ножками в виде львиных лап. Алые подушки, граненые хрустальные кубки, позолоченный лепной потолок, стенные росписи, изображавшие эпизоды Троянской войны. Я оглядел обстановку иронически, пресыщенный этой роскошью.
День был пасмурный, тени застилали высокие алебастровые панели, и пришлось зажечь свечи в подсвечниках. Когда слуги с величайшей осторожностью сняли с главного стола пурпурное покрывало и тщательно протерли его безупречно чистую доску суконками с длинным ворсом, оказалось, что ее поверхность пятнистая, как шкура леопарда. На поставце сверкала массивная золотая посуда с орнаментом в виде крыльев грифона. Лукан между прочим заметил, что мрамор был выпилен из стен греческого храма где-то в Эгине, как он полагает. Он занял среднее ложе, справа от него возлег Сцевин. Слева разместились мы с Наталисом, который пришел последним. Полла и жена Сцевина Цедиция заняли места на табуретах возле своих мужей.
Наталис был толстяк с низким лбом, полузакрытым падающими на глаза вьющимися волосами. Мне не понравилась его хитрая усмешка. Сцевин, как всегда, завладел моим вниманием. Он как будто был сильно возбужден и даже неспособен остановить взгляд на людях или на предметах, находящихся перед ним. Глаза его то тускнели, то загорались острым огнем. Жена его была крупная женщина и выглядела особенно невозмутимой по контрасту со взволнованным и озабоченным Сцевином. У нее были спокойные голубые глаза, но фигура и лепка лица показались мне несколько тяжелыми, быть может из-за темных волос, тщательно расчесанных на пробор и приглаженных. Этому спокойствию противоречила и отчасти его подчеркивала легкая улыбка, блуждавшая у нее на губах, от улыбки появлялись ямочки на щеках, резче выступали скулы, и ее лицо выгодно отличалось от неподвижных лиц римских матрон. На ней было жемчужное ожерелье, серьги и перстни, украшенные жемчугом, и нарядное платье нежно-кремового цвета, вышитое голубым.
Нас разули и омыли нам ноги смазливые развращенные мальчики, причем один из них, по имени Гилл, держался возле Лукана, тому это было приятно и одновременно его раздражало. Он шепнул что-то, а потом бросил украдкой взгляд на Поллу. Слуги внесли блюда и чаши, подали ножи и ложки. Мы ополоснули руки и расстелили на ложе перед собой салфетки. Сцевин уронил ложку и нагнулся, облокотившись на колени Цедиции. Лукан совершил возлияние домашним Ларам на серебряном столике, где стояла солонка, и бросил в очаг щепотку соли, вспыхнувшую голубым пламенем. Но торжественность момента нарушила происшедшая между Сцевином и его супругой приглушенная перебранка из-за ее измятого платья. Мы начали с устриц, маслин и яиц, поданных на серебряных подносах, на которых были выгравированы виноградные листья. Лукан несколько раз предупреждал нас, что обед будет самым скромным, простой семейной трапезой, без всяких карточек с перечнем блюд.
— Теперь я стою за простой образ жизни, — сказал Наталис. — Будь у меня несколько миллионов и подходящий спутник, я даже удалился бы в глушь в свою родную Умбрию. — Он говорил слегка скрипучим голосом, проглатывал согласные, словно во рту у него был вкусный кусок, который он еще не успел прожевать.
— Плащ Катона будет неуклюж на твоей округлой спине, — ответил Сцевин, накладывая себе анчоусы, приправленные ломтиками яиц и рутой. — Впрочем, я сыт по горло Катоном. Не найти ли нам какого-нибудь ленивого, тупоумного героя, с которого мы могли бы законно брать пример? Вероятно, нам подошел бы Аякс, избивавший овец. Этот брюзга возмущался несправедливостью. Или можно бы подделать какой-нибудь отрывок из древних анналов и написать, что первый Брут был обжорой и якшался со всяким сбродом.
— Я не нуждаюсь в образцах, — возразил Наталис, прожевывая устрицу, поданную в лимонном соусе. — Я создаю себе собственную систему необременительного воздержания. Я избегаю всякой работы и страстей, которые нельзя удовлетворить втихомолку. Не то чтобы я впадал в крайности. Как наш дородный друг, которому стало дурно, когда поселянин изо всех сил замахнулся мотыгой. — Затем он начал рассказывать о последних разводах и изменах, причем его то и дело прерывала сорока в серебряной клетке, принесенная служанкой Поллы, повторявшая: «Продолжай, дружок!» или: «Это мы слышали!»
Лукан сообщил, что вино доставлено из имения его дяди-философа, живущего в Номенте, где каждый югер виноградника дает девятьсот двенадцать амфор вина.
— Я был там и видел лозу, на которой больше двух тысяч гроздей. — Он продолжал рассуждать о том, что виноградарство не в почете, ибо не отбирают хороших побегов, отчего и выращивают лозы низкого качества; не подкармливают лоз, и те увядают, не успев набраться сил и пустить ростки; не выбирают подходящую почву, даже считают, что под виноградники можно отводить земли, где не удались другие культуры. Не умеют наладить дело и не покупают нужный инструмент, В погоне за быстрой прибылью не обрезают лишние побеги, и лозы хиреют. (Мне было очевидно, что Лукан повторяет то, что ему рассказал управляющий из Номенты, который доставил оттуда целый воз с амфорами вина для него и для Мелы.)
— Они хотят сэкономить на работниках, им в голову не придет заплатить шесть или восемь тысяч за опытного виноградаря; они предпочитают купить по дешевке на аукционе какого-нибудь преступника.
— Эти цифры мне известны, — лениво заговорил Наталис. — Прибавь семь тысяч — стоимость семи югеров земли — и еще по две тысячи на жерди и лозы. Получится девятнадцать тысяч. Прибавь к этому шесть процентов годовых, что составит три тысячи четыреста восемьдесят за двухлетний период, покамест виноградник не даст урожая. Всего двадцать две тысячи четыреста восемьдесят. При таких затратах ты должен получить доход в тысячу девятьсот пятьдесят в год, что превышает законный процент на вложенную сумму. — Вместо слов у него получалось какое-то урчание. Лукан посмотрел на него с раздражением: его прервали в момент, когда он хотел призывать к возрождению италийского сельского хозяйства. Я с гордостью подумал о том, что единственный человек, внесший подлинный вклад в изучение этой проблемы, был мой соотечественник — уроженец Бетики Колумелла. Я не читал недавно выпущенную им книгу, но слышал, как ее хвалил мой отец.
Сцевин усмехнулся.
— Невелики барыши. Поговорите с хозяевами крупных поместий, где работают толпы рабов в кандалах и овцы разгуливают по земле соседних поселян-собственников.
Наталий рассмеялся скрипучим горловым смехом. Предмет был исчерпан. Я взглянул на Поллу, одетую в прозрачный виссон, но она отвела взгляд в сторону. Тут я заметил, что на меня смотрит Цедиция, и мысли мои потекли по другому руслу. Слуга объявил следующую перемену — блюдо из мелких птичек, горячие сосиски на серебряной решетке и заяц в фантастическом облике, с рыбьим хвостом и рогами из теста, в соусе из шафрана, подогретого вина и сока винных ягод. Стол был снова вытерт, а упавшие на него куски еды сметены на пол. Никому, кроме Наталиса, не хотелось говорить, но он разглагольствовал за всех, другим оставалось лишь изредка вставлять реплики.
— Помпулл скоро выступит со своими поэмами. Говорят, их пишут за него жена и его любимец вольноотпущенник. Этим объясняется различие стилей. Но лично я восхищаюсь умом его жены.
Затем было подано рыбное блюдо, приготовленное с перцем, душицей, корицей, тмином, мятой, под соусом из рыбного сока, вина, масла, лука, перца, огуречника и чабра. Из всех гостей один Наталис отведывал каждого блюда. Он сообщил, что последнее время объедался и рад, что сейчас можно не перегружать желудок. До сих пор женщины не принимали участия в разговоре. Но вот Полла кивнула Цедиции, улыбнулась ей, встала, потянулась и заявила, что, поскольку обед неофициальный, она намерена вести себя столь же непринужденно, как и мужчины. Она возлегла на ложе рядом с мужем, ее примеру последовала Цедиция. Мужья не выразили особого удовольствия, но Наталис захлопал в ладоши. Мы снова ополоснули руки, и мальчики в венках из цветов принесли амфору, покрытую паутиной и плесенью, на ней стояла надпись «При консуле Гае Поппее», там находилось фалернское более чем пятидесятилетней давности. Мальчики сбили с горлышка гипс, вытащили пробку, вылили вино сквозь серебряный цедильник в чеканную чашу и охладили его снегом. Оттуда вино разливалось золотым черпачком в аметистовые чаши.
Слуги разнесли чаши вместе с горячими булочками.
— Мы обойдемся без танцовщиц и рыгающих комедиантов, — заявил Лукан. — Лишь несколько отрывков из Энния и флейтистка, очень способная девушка, которую я купил месяца два назад, — замечательное приобретение!
Мы одобрили его вкус и заверили, что сыты по горло. Сыты едой, на разукрашивание которой повар потратил больше времени, чем на приготовление. Да и бывшие в ходу развлечения всем уже приелись и разнообразить их можно было только, оглушая гостей шумом и прибегая к грубому шутовству. В похвалах рассыпался главным образом Наталис, который тут же привел в пример их общих друзей, отъявленных пошляков; Сцевин соглашался с ним, издеваясь над богачами, возлюбившими простой образ жизни; а я вторил им обоим, стараясь не обидеть нашего хозяина. Несколько раз я поймал на себе взгляд Цедиции. Сперва я смущенно опускал глаза. Потом заметил, что она ничуть не конфузится, а спокойно рассматривает меня, несколько свысока, но дружелюбно. Но вот она улыбнулась — улыбкой, предназначенной для меня одного. Это было мне очень приятно, но я забеспокоился, как бы Полла не перехватила ее взгляд.
Наталис начал, пережевывая фазана, начиненного дроздами, разглагольствовать о поэте, который без конца исправлял и отшлифовывал свои произведения, руководствуясь замечаниями и предложениями доброй сотни друзей, которым отдавал их на суд. В результате он сам не узнавал своих поэм, когда кто-нибудь их читал, и они не имели успеха. Появилась рыба, разложенная на блюде ломтиками в виде цветов и залитая замысловатым соусом; свиное вымя, сваренное в молоке; птицы, начиненные их собственными яйцами и сидящие на ветках из теста, окрашенного в зеленое. Наконец, главное блюдо — телятина, поданная с ранней цветной капустой и свежими овощами, сваренными в содовой воде, сохранявшей их цвет, и различными травами.
— Вы знаете Кания, — не умолкал Наталис, — на прошлой неделе на суде он говорил с таким жаром, что у него выскочили искусственные челюсти и угодили прямо в лицо обвиняемому.
Слуга, вооруженный длинным ножом, стал нарезать телятину, явно щеголяя своим искусством. Он яростно замахивался, но в последнее мгновение сдерживал удар и осторожно отделял тонкий ломтик от большого куска. Нам было скучно, но мы невольно следили за его ловкими движениями, только Полла разглядывала фреску, изображавшую Елену, стоящую возле Париса. Нам наскучили слова Лукана, подчеркивавшего, что угощение носит самый скромный, едва ли не первобытный характер. Никому не хотелось его опровергать, а Полла зевала. Лукан попросту нервничал. У него вырывались слова помимо его воли и намерения. Словно подливая масла в огонь, Сцевин коварно вставил:
— Что ж, Нерон заставил нас уважать чеснок, Тиберий предпочитал веллетрийскому винограду копченый африканский, а его мать Юлия ввела в моду пшенную кашу… Не падай духом, Марк!
Лукан попытался переменить тему и заговорил о литературе. Наталис продолжал нападать на людей, отделывающих и оттачивающих свои произведения, утверждай, что изысканность стиля — сущий бич и поэтов, которые пишут вычурно, следует сажать на Пегаса и отправлять на Луну. Сцевин заявил, что предпочитает причудливые выдумки и неправильности, что угодно, только не прилизанность так называемого гладкого стиля.
— Внезапные, ошеломляющие взлеты и падения, искусный переход от высокого к комическому, стремительные и перенасыщенные фразы. Опасный стиль!
Как и во время литературных споров, которые мне приходилось слышать, Лукан хотел что-то сказать, но молчал, опасаясь вызвать реплику, обидную для «Фарсалии». Или он чувствовал, что его высказывание будет слишком авторитетным и положит конец спору. Полла кусала губы, обнаруживая нетерпение. Цедиция улыбалась мне. Была начата новая амфора, и мне показалось, что вино подали крепче обычного.
Полла встала, а за ней Цедиция. В последнюю минуту Цедиция сделала мне недвусмысленный знак. Я выпил за ее здоровье, она подняла свою чашу, но не стала пить и глядела на меня, приоткрыв губы. Она нагнулась так, что ее платье слегка распахнулось, и я увидел ее левую грудь, чуть полную, но красивой формы, с подрумяненным соском. Она умышленно пролила несколько капель вина между грудями. Полла все время следила за ней.
Затем женщины выскользнули из комнаты, шурша длинной одеждой, изящно изгибаясь, распространяя аромат, мило переговариваясь и улыбаясь. Все замолкли. Комната вдруг опустела, и мы стали ожидать, что появится человек или божество и заполнит пустоту. Тут до нас донеслись звуки флейты, девушка играла в темном алькове. Мотив был грустный, с искусными вариациями, неизменно вызывавшими сладостный трепет страха и нерешительности. Мелодия постепенно овладевала сознанием, расслабляя волю слушателя, навевая на него какие-то печальные лунные грезы. Лукан не стал вызывать чтеца стихов Энния, а велел принести последние написанные им отрывки из «Фарсалии» и сам их прочел. Он уже читал мне их раньше, и я намеревался воспринимать их критически, но ина сей раз они меня взволновали. Когда он останавливался, невидимая флейтистка играла вариации все той же мелодии. Вряд ли они с Луканом заранее подготовили этот эффект, но девушка, казалось, умела уловить настроение, по-своему воплотить тему благородства и выразить глубокое чувство одиночества и отчаяния, пронизывающее поэму. Вероятно, из-за этого отрывки показались еще более прекрасными, чем в первый раз, хотя и тогда они мне чрезвычайно понравились. Теперь в них звучали непреклонная гордость, порожденный отчаянием героизм. Меня удивило волнение Сцевина. Он застонал и стал бить себя по лицу.
— Наша цель весьма значительна, но мы скованы. Поэтому высокие слова гремят, как горох в свином пузыре!
— В самом деле, мы волей-неволей оказываемся шутами, — подхватил Наталис, — однако наши шутки могут переломать ребра богам. Поприще наше весьма широко, и если мы не Катоны, то и человек, которого мы презираем, — не Цезарь.
Обращаясь ко мне, Лукан поднял чашу, и я в свою очередь выпил за него.
— Мы не должны опускаться ниже уровня нашей поэмы. Это несомненно.
Лукану понравились мои слова, и он нагнулся ко мне.
— Я знал с самого начала, что ты будешь с нами. Ночь перед твоим приездом я провел без сна. У меня в голове звенели строки, которые я только что написал.
Он закрыл глаза и четко, громко произнес:
Власть твоя велика, и поэт, ты былые деянья
Свято хранишь, судьбе вопреки, ты смертным героям
Дивно бессмертье даришь. Не сетуй же, Цезарь, на славу
[121].
Сцевин осушил свою чашу.
— Она все журчит. Она никогда не остановится. Ничто не в силах ее остановить… Мы берем божественную вошь и вышвыриваем вон, вычеркивая ее из анналов. Из всех! Мы тайные боги! — Он схватил свечу и направился, пошатываясь, в альков. — Взгляни на меня, скверная и чудесная девчонка! Тайная музыка мира тревожит и подгоняет, прославляя нас. Появись из навозной кучи, из лотоса. Боготвори меня! — Он наклонился. Флейта зазвенела, покатившись по мозаичному полу. Лукан вдохновенным голосом читал стихи:
Что заставляет богов подчиняться заклятьям и травам,
Их опасаясь презреть? И связь каких договоров
Волю всевышних мертвит? Покорствовать в том надлежит ли,
Или так нравится им? Или платят за тайную службу?
Сила ль угроз тут немых? На всех ли богов распростерлись
Этих колдуний права? Иль волшбой они шлют повеленья
Богу-избраннику, лишь которого могут принудить,
Как принуждает он мир?
[122]
У него не хватило голоса, и он с досады укусил себе запястье. Его волнение передалось мне, и я не решался заговорить. Наталис перевернулся на живот и наблюдал за нами со смешанным выражением насмешки и тревоги.
— Значит, он существует! — воскликнул он. — Источник Иппокрены! Прости меня, Аполлон, я всю жизнь писал полную скепсиса прозу.
Сцевин возвратился, ноги у него заплетались. Он схватил Лукана за плечо.
— Твоя очередь, брат. И свято сохраним тайну. Клятва подкрепит клятву. Мгновение бессмертия соединит нас на одном лоне.
Лукан отшатнулся, и я увидел испуг в его глазах, потом он позволил Сцевину отвести себя в альков. Мы с Наталисом видели, как свиток со стихами медленно соскользнул с его ложа на пол.
— Он скользит, падает, как падает все на свете, — прошептал Наталис. — О великий и мудрый бог, дай мне навсегда остаться нечестивым и неверующим безумцем.
На меня напала сонливость и предчувствие великих событий. Все предметы в комнате плавно колебались передо мной, как водоросли на морских волнах. Я подумал, что мне недостает Поллы. Что заставило меня весь обед глазеть на эту толстуху Цедицию? Перед глазами у меня возникли маленькие ножки Поллы в унизанных жемчугом сандалиях, вытянутые на ложе. Когда Лукан к ней придвинулся и она стала подниматься, я на мгновение увидел изящные линии ног, уходящие в неглубокую тень. Мне было слышно, как тяжело дышит возвратившийся на свое ложе Лукан. Сцевин старался поднять Наталиса.
Быть может, я заслужу одобрение Поллы, подумал я, открывая глаза, ведь она видела, что Цедиция соблазняла меня. Лукан грузно опустился на свое место, и я заметил его бегающий взгляд. Это вызвало у меня презрение, впрочем не умалявшее моего уважения к нему. Возможно, в один прекрасный день в награду за полное подчинение его воле я разделю с ним ложе Поллы. Мне больше всего этого хотелось. Он выпил несколько глотков вина и откинулся на подушки, продолжая прерывисто дышать. Мне передавал Феникс, со слов служанок Поллы, что он уже полгода не входил к ней. Когда же он бывал в ее спальне, от него было мало толку, уверяли подглядывавшие из-за занавесок служанки: пыл его проходил мгновенно, как ни старалась она ему помочь.
— В данном случае, — проговорил Сцевин, — нужно жертвовать своими привычками и наклонностями.
Наталис зычно расхохотался и вскочил на ноги. Затем он вошел в альков.
Я наблюдал за Сцевином, я опасался, что он обойдет меня. Это означало бы, что он не принимает меня всерьез. Вместе с тем я боялся, что он и меня потащит к флейтистке. Внезапно вернулся Наталис, подбрасывая розу и ловя ее на лету. Сцевин, пошатываясь, двинулся в мою сторону.
— Теперь ты, юноша. — Он схватил меня за полу моей широкой застольной одежды. Не помню, что он еще сказал. Сперва я попытался его отстранить, потом вырвался и бросился в альков. Бег на краю пропасти, игра со смертью. В полумраке на подушках лежала девушка, словно раздавленная, как цветок, раскрывший все свои лепестки, готовые осыпаться. На ней было что-то темное, прикрывавшее грудь и живот; доступное взгляду казалось как бы разбитым на части, не связанным ничем между собой. Голова, руки, ноги. Ее таинственные глаза были широко открыты и мерцали каким-то золотистым мраком. Я упал на нее. Она глубоко вздохнула, и грудь ее, вздрагивая, поднялась подо мною. Потом она замерла, она была на диво хрупкой и все же поглощала меня. Но мысли мои были заняты этими тремя мужчинами и смертельной опасностью, нависшей надо мною.
Когда я поднялся, девушка продолжала лежать без движения. Уж не умерла ли она, подумалось мне. Быть может, сжимавшая меня в нечестивых объятиях лишь плод моего воображения. С закрытыми глазами она казалась мне как бы погруженной в темный поток и окончательно распавшейся на части. Я смотрел на нее в изумлении. Цветок осыпался. Когда я вышел к гостям, Сцевин похлопал меня по плечу и предложил чашу вина, которую я и выпил. Наступило длительное молчание. Оглянувшись в альков, я увидел, что девушка ушла.
— Дело сделано, — сказал Сцевин.
— Дело еще предстоит сделать, — возразил Наталис.
— У меня есть для этого кинжал, — проговорил, пошатываясь, Сцевин.
— И все же дело еще предстоит сделать.
— Всякую ночь я это делаю во сне.
— И все-таки дело еще предстоит сделать. — Наталис замолк, потом добавил не без яда: — И поэмы и сны — все это прекрасно. Но то, что остается несделанным, все-таки предстоит сделать!
Лукан кивнул, встал и повел нас в комнату, куда удалились женщины. Комната в египетском вкусе, фрески, изображающие сцены на берегах Нила: охоту на водоплавающую дичь, отдых в шатрах, гиппопотамов и уток в тростнике. В ярко раскрашенных чашах благоухала мирра, а в углу стояла статуя Изиды почти в человеческий рост, с глазами, сверкавшими голубым огнем. Сцевин был совсем пьян. Он сидел в кресле, глядя прямо перед собой и крепко зажав в руке кубок. Но вот он громко произнес: «Только один кинжал, и тот у меня». Лукан говорил уверенным голосом, ни к кому не обращаясь, а Полла прислушивалась к его словам, слегка наклонив голову, ее нежное тело без единого волоска просвечивало сквозь тончайший виссон, переливающийся, как лунный свет на воде. Вероятно, она сняла нижнее белье, и теперь можно было смутно различить не только ее соски, но и живот. Мне казалось, что я единственный трезвый из всех присутствующих, и я почему-то избегал смотреть на Цедицию.
Повернувшись к Наталису, Лукан стал что-то ему объяснять.
— С целью дать полмиллиона сестерций на воспитание детей — мальчиков и девочек — из хороших семей я совершил через агента фиктивную продажу имения, которое стоит гораздо дороже.
— Гораздо дороже, — торжественно подтвердил Наталис.
— Я так и сказал, гораздо дороже.
— Все равно тебя надули.
— Никто меня не надувал.
— Нет, надули. Я могу это доказать.
— Меня и не думали надувать. Впрочем, не в этом дело.
— Пусть не в этом. А все-таки тебя, надули.
— Ничуть не бывало. Ты все перепутал.
— Ты даже не знаешь, когда тебя обманывают.
— Арендная плата составляла тридцать тысяч — больше, чем стоит само имение.
— Гораздо больше.
— Теперь ты видишь, что неправ.
— Все равно тебя провели.
Упрек в том, что он допустил оплошность в денежном деле, раздражал Лукана больше, чем если бы его уличили в нарушении метра. Мне еще не приходилось видеть его с этой стороны, поистине сын Мелы! Полла слушала, все так же склонив голову набок. Через некоторое время она послала раба за флейтисткой, и та, войдя, низко ей поклонилась, потом сыграла протяжную пастушескую мелодию. Она сидела в углу возле Изиды, полускрытая занавесью. Я не смел на нее взглянуть. Теперь Лукан разглагольствовал о некоем водяном органе, который он собирался установить в своем доме. Непроизвольно я направился к Цедиции. Она лежала, откинувшись на подушки, выставляя широкую грудь, способную принять целую кучу любовников, одна нога была вытянута, другая согнута в колене. У нее были тонкие лодыжки.
Она спросила, собираюсь ли я выступить с чтением своих поэм, о которых Лукан хорошо отозвался. Мне и в голову не приходила столь дерзкая затея, и трудно было поверить, чтобы Лукан мог похвалить те немногие мои вещи, которые он читал. Однако я ответил, что в конце года, пожалуй, прочитаю кое-что из своих сочинений. Предостерегая меня, она сообщила, что в летние месяцы только самые неистовые декламаторы пытаются залучить к себе слушателей. Полла дремала, а флейтистка наигрывала ей на ухо еле слышную мелодию. Платье Цедиции приподнялось выше колена, и обнажилась правая нога.
Я поблагодарил ее за совет и оглянулся в поисках более интересного предмета для разговора. Но она продолжала рассказывать про вечера декламации, впрочем нимало ими не интересуясь. Без сомнения, она сильно преувеличивала — Лукан мог бросить мимоходом, что я не лишен способностей, лишь для того, чтобы похвастаться своим поклонником. Вероятно, она считала, что не имеет значения, о чем со мной говорить во время этой встречи, поскольку она все равно ведет к сближению. Вероятно, я не был так трезв, как воображал, и она крепко держала в руках нить разговора, не позволяя мне молоть вздор.
— Попроси Марка уступить тебе одну из его приемных. Не подражай кропателям стихов, арендующем развалюшку где-нибудь на окраине, где сидят на досках, положенных на чурбаки, а настоящие сиденья только в первом ряду. И тут же стоят носильщики, готовые унести арендованную поэтом скудную мебель, если он задержится дольше обусловленного срока.
— Арендная плата составляла тридцать тысяч, — проговорил Лукан.
— Вот именно. Я и говорю, что тебя надули.
— Все мы обманываем или обмануты, — заметил Сцевин, о котором как-то позабыли. — Вся соль остроумия в краткости.
Я стал прислушиваться к словам Цедиции. Кажется, она старалась выражаться как можно точнее, видя, что я плохо соображаю.
— Неподалеку от Марсова поля, близ реки, есть очень подходящее, не слишком просторное помещение. Ты бывал в той стороне? Это мое излюбленное место для прогулок по Риму. По всей вероятности, завтра среди дня я загляну туда посмотреть, что хорошего есть в лавках.
Она пристально поглядела на меня, чтобы убедиться, что ее слова дошли до моего сознания. Я старался придумать какой-нибудь замысловатый комплимент, но у меня ничего не вышло.
— Мне тоже нравится эта часть города. Я нередко там гуляю.
— …Никто меня не провел. Я отлично разбираюсь в делах. Вдобавок это было просто благотворительностью.
— Чтобы заполучить надежного арендатора.
— Это случайность.
— Значит, тебя провели.
— Все мы обманщики, или обманутые, — повторил Сцевин. — Мне плевать, что получится из наших планов, раз мы ниспровергаем основы. Все виноваты. Да погибнем мы все!
— Мы можем встретиться хотя бы в торговых рядах, — продолжала Цедиция. — Я очень люблю заходить в лавку Сосибиана. У него можно купить прекрасный хрусталь по сходной цене.
Я наклонил голову, не в состоянии ответить. Она зевнула и поднялась.
— Пора уводить своего супруга. Он держит в руке чашу и не пьет. Это плохой признан.
Полла очнулась. Она стала гладить флейтистке лицо, рот, шею. Девушка встрепенулась, глаза ее загорелись, и щеки вспыхнули. Цедиция снова зевнула и потянулась всем своим роскошным телом. Полла сдернула с девушки одежду, обнажив ей грудь.
— Посмотрите, какая она юная! — пронзительно воскликнула она.
VI. Гней Флавий Сцевин
По дороге домой он постепенно трезвел. Он то и дело приподнимал занавески, чтобы впустить свежий ночной воздух, и жадно, глубоко дышал; ложился, и тут же снова поднимался, выглядывая наружу и стараясь разглядеть в темноте улицу, по которой его проносили, прислушиваясь к звукам, не заглушенным тяжелым дыханием носильщиков. Его пальцы сжимались и разжимались, его мучило ощущение двойного движения: мерные шаги носильщиков и стремительный полет его мысли, обгонявшей носилки, перебрасывавшей его за повороты улиц, которых они еще не достигли; он уже оказывался в атрии своего дома, но тут же был отбрасываем назад во времени и пространстве к исходной точке, где его оцепенелое тело покачивалось в такт поступи сонных носильщиков, проносивших его мимо знакомых мест, казавшихся таинственными во мраке. «Здесь, — вспоминал он, — я оскорбил Торпилия, а тут чуть не обнажил кинжал, а вот там купил вырезанную из слоновой кости странную фигурку девушки с рогами». Хмель испарялся по мере того, как его, потряхивая, тащили дальше, и легкие стрелы мыслей уносились вперед, пронзая мириады предметов, тяжеловесную статую его отца, подушку его постели, третью строку свитка «Увещаний» Эпикура: «Любая дружба желательна сама по себе». Какова главная мысль этого афоризма? Он не мог ее уловить и с тревогой доискивался, ему хотелось откинуть подушку и посмотреть, что под ней, хотелось лечь и сразу встать, пойти в беседку на искусственном холме в дальнем углу его сада и там встретить зарю, ощущая дыхание утреннего ветерка в волосах и приближение судьбы вместе с порхающими вокруг воробьями и пробивающимся сквозь тучи светом нового дня, чудесно рожденного среди сверкающих в небе хрустальных блесток; его тошнило, он чувствовал, что его быстро несут то вверх, то вниз по винтовой лестнице, то вверх, то вниз, и этому нет конца; он невесом и все крутится и крутится в спиралях новой жизни, вспоминая хрупкое тело флейтистки, гибкой, как змея, клубок тепла; он должен непременно проникнуть куда-то сквозь него, как это было в момент экстаза, куда-то, куда-то… и желает обладать другой женщиной, любой, только не Цедицией, но сознает, что он слишком устал, слишком вял и ненавидит свое бессильное тело, как бы выдавливаясь из него, ведь он прорвался сквозь тело в тот миг вихревого восторга, бегства в иной мир, головокружительного полета на ветру. Один из рабов споткнулся, и Сцевин выругался.
Время — самая случайная из случайностей. Оно сопровождает все дни и ночи, времена года, состояния деятельности и покоя, движения и отдыха. Ничто, существующее в самом себе; прошедшее, настоящее и будущее различаются лишь благодаря постоянному существованию тела. Ничто, которое можно постигнуть, как вещь в себе, независимо от движения и покоя материи. Значит, это сущность всякой сущности. Его рука, стремясь пробиться сквозь стену настоящего к неуловимому будущему, потянулась за кинжалом, которого при нем не оказалось. Тут ему вспомнилось другое изречение из того же свитка: «Необходимость — зло, но нет необходимости жить во власти необходимости». Когда он прочел эти слова, все для него прояснилось, он обрел оправдание и облегчение жизни, но сейчас смысл от него ускользал. В полусне он чувствовал, что плывет по волнам призрачного покоя. Он все же непрестанно сознавал колеблющуюся сумятицу сердцевины вещей, ощущая свой живот, свой разум как застывшую пену хаотической энергии, и метался взад и вперед, сбиваясь с пути, но упорно описывая все новые круги и поднимаясь к точке, откуда внезапный вихрь отбрасывал его к месту отправления и вновь кружил в пространстве, пока его не вырвало.
Когда они добрались до дому, Цедиция стала распоряжаться, указывая встретившим их заспанным рабам, как его вносить, а он ворчал на них, требуя, чтобы они несли осторожно, не ударили головой или ногой о косяки дверей или о перила лестницы, и вот ложе поднялось навстречу, поглотило его невесомое тело, и он испытал торжество, но тут перед ним очутилась Цедиция, снисходительно смотревшая на него сверху вниз и куда более властная, чем он сам, улыбающаяся, нет, не улыбающаяся, а выражающая неимоверное удовлетворение какой-то глубоко скрытой пакостью, и ему захотелось прогнать ее, пусть она подавится этим юным оболтусом из Испании, потакающим тщеславию нашего эпического поэта своим наивным восхищением, так ей и надо! Тут его снова закрутила вихревая путаница времени и пространства, непрерывное движение вибрирующих и перемешанных атомов и понесла к потолку, где каждая выпуклость лепного узора была утомительно знакома и напоминала тело Цедиции десять лет назад, прижимающееся к нему и толкающее его к пределу, который его всегда отпугивал, какое-то скопление атомов, колеблющихся в пустоте, разделяющей их, но не способной поддержать, атомов, притягивающих и отталкивающих друг друга; тело и дух в момент крайнего изнеможения распадались и куда-то рушились наискось, предчувствие смерти и судорожный кашель, спутанность мыслей и тошнота, но вот смерть исчезла, прошла сквозь самое себя, как через дверь, куда-то в бесконечную перспективу зыбких улыбок и извилин женского тела, ушла и все же никогда не уходила; тут он вспомнил, стал шарить у себя под головой, растянув сухожилие в предплечье, и обрел то, что ему было нужно, — кинжал, вынул его из ножен, задев кончиком мочку уха, взмахнул над собой так, что, урони он кинжал, острие угодило бы ему в переносицу; заметались и засвистели огни на туманном ветру, огромные скопления воды, и воздух бурно устремлялся во все пещеры земли, унося куда-то и его, и он почувствовал, что выронил из ослабевшей руки кинжал, но тот упал на подушку и проколол ее, и вот он плывет в мглистой безмерности, и в момент, когда он был уверен, что растворился в блаженной безымянности, к горлу подступила желчь, но он успел повернуться, и его вырвало на пол, его бросало из стороны в сторону, и он все ждал, что обретет покой в мертвой точке, но покой не наступал, да и не мог воцариться в бесконечном распаде и воссоединении атомов; все вновь и вновь спиральный взлет и тошнотворное падение к исходной точке.
— В следующий раз я убью этого чудовищного безумца, — поклялся он. — Я обрету покой в мертвой точке. Это против моих философских убеждений, но что поделаешь?
Как будто божественный царственный безумец, доведя до логического конца все фантазии и нелепые прихоти, разрушая самое основание, на котором покоилось наслаждение в сокровеннейших садах Эпикура, все опошлил, изъясняясь на языке власти, и преградил путь самым невинным изменениям или обновлениям. Грузный, все заслоняющий призрак, все искажающее пугало, которое следовало убрать с дороги, сдуть громким взрывом смеха, чтобы можно было свободно дышать.
Открыв глаза, он увидел стоящего перед ним вольноотпущенника Милиха, который помогал ему подняться на постель. Ему хотелось сказать, что на полу ему лучше, но он только выдохнул воздух. Милих взял кинжал и положил под подушку.
— Я умираю, — наконец выговорил Сцевин. — А если нет, то почему бы мне не умереть?
Ему стоило больших усилий произнести эти слова, он перевел дыхание, и ему стало лучше. Он все смотрел на Милиха, тело которого становилось все тоньше, как струйка дыма, поднимающаяся из отверстия в крыше.
— Не принести ли что-нибудь горячее, приложить к животу, господин?
— Я умираю, — пробормотал Сцевин. — Я откажу тебе., свой желудок в завещании. Ты знаешь, я страдаю от газов…
Глаза его закрылись, и он стал дышать громко, но ровно. Милих некоторое время смотрел на него, потом сунул руку под подушку, извлек оттуда кинжал и в раздумье провел пальцем по лезвию. Заметив прореху в наволочке, он пригладил ее. Лицо его передернулось. Он положил кинжал обратно под подушку и закрыл лицо руками. Между пальцами уныло проглядывал его глубоко запавший глаз.
Часть вторая
Дальнейшие сплетения

VII. Луций Кассий Фирм
 Я проснулся задолго до рассвета, унылый и расстроенный — на меня угнетающе действовало выпитое накануне вино, а еще больше — то, что выявилось благодаря вину. Мне хотелось поговорить с Луканом, но я знал, что это невозможно в столь ранний час. В саду резко прокричал павлин, недавно привезенный из одного поместья, где у Лукана было множество редкостных птиц. Сквозь полузатворенные ставни сочился тусклый свет, от которого было еще легко отгородиться. Рабы уже поднялись — было слышно, как они болтают, переставляют мебель, бегают. Дорожка, ведущая к их помещениям, проходила под моим окном. В противоположном крыле жили Лукан, Полла и ее старая тетка, редко появлявшаяся к столу, и до них не доносилась утренняя суета; порой я завидовал этому преимуществу, лежа в постели без сна. Сейчас я чувствовал себя не в своей тарелке, веки у меня опухли. Послышался звонок. Сигнал для рабов, разбитых на группы по десять человек, приниматься за уборку и чистку. Я сел на ложе, рассеянно оглядывая комод, стенной шкаф, ночной горшок и складной стул, составлявшие всю обстановку. Сейчас все эти предметы казались разрозненными и чужими, словно ждали, чтобы я уехал и освободил место для неизвестного мне человека. Черные и коричневые узоры на стене нагоняли тоску. Постояв на коврике, я босиком прошелся по красному мозаичному полу и выглянул в сад, где взад и вперед сновали слуги.
Раб приставил лесенку к стене и разговаривал с девушкой, загораживая дорогу, пока его не окрикнул надсмотрщик. Мне показалось, что я узнал Герму. Но, приглядевшись внимательнее, я увидел только розовый куст. Зевнув, я начал одеваться. Я долго раздумывал, следует ли мне сменить шерстяную рубаху, продравшуюся на боку. Затем я направился к комоду взять набедренную повязку и тунику с короткими рукавами. Все валилось из рук, и мне стоило немалых усилий поднять вещи с полу. Трудно было стаскивать через голову рубаху, завязывать повязку вокруг бедер, зашнуровывать сандалии. Все это надо было делать усердно и терпеливо, снова и снова. Я зевал во весь рот и досадовал на Феникса, все еще спавшего, но позвать его я был не в состоянии. Потом, когда он заглянул в дверь и с испугом увидел меня одетым, я резко спросил его, куда он запропастился, и отказался от завтрака.
Я направился в библиотеку за свитком. Рабы посыпали полы опилками и сметали их пальмовыми листьями и ветками тамариска, столкнувшись друг с другом, останавливались поболтать за колоннами, даже играли в кости. Один из них мочился на мраморную скамью и, заметив меня, в ужасе нырнул в кусты. Прежде чем они меня заметили, мне в сандалии набились опилки. Тут они упали передо мною на колени и стали умолять не выдавать их. Я пошел дальше раздраженный, меня беспокоили опилки, но я не стал переобуваться и вытряхивать их из сандалий. Какой смысл жить, если время уходит вот на такие мелочи? Ничего другого как будто не было. Сколько часов трачу я, да и любой другой человек, на всякие бессмысленные пустяки, а между тем жизнь проносится мимо, как видение. Пока не наступит день, когда придет всему конец и окажется, что ничего не сделано, только мириады вздорных мелочей. Вместе с тем я чувствовал, что, отказываясь вытряхнуть опилки из сандалий, делаю это кому-то в отместку, не то себе, не то Лукану, который — я был твердо убежден — никогда не отзывался хвалебно о моих стихах, не то всем на свете. Остановись я вытряхнуть опилки, от этого ничего бы не изменилось. Я все-таки сделал бы это в отместку Лукану, себе, кому угодно, потратив время на такое пустячное дело, которое вместе с другими подобными делами составляет содержание всей жизни. Сделай это или не сделай, не избавиться от дилеммы. Сделай или не сделай. Я наткнулся на раба, который, стоя на цыпочках, полировал карниз колонны, надсмотрщик расхаживал с бичом, пощелкивая им или стегая рабов по ягодицам.
— Эй ты, чисти столовое серебро. А ты что по сторонам зеваешь? Пошевеливайся, не то я тебя переведу в группу рассыльных! — В доме царил невероятный беспорядок.
В библиотеке ни души. На полке рядом с чернильницей и пером лежала рукопись с текстом малоизвестной речи, произнесенной во времена Республики, которую переписывал библиотекарь. В нишах стояли бюсты Энния и Вергилия, оба презрительно глядели на фреску, изображавшую Лукана, беседующего со своей не слишком привлекательной музой. Здесь царил крепкий запах кедрового масла, от которого у меня слезились глаза и трещала голова. Все же я не хотел уходить. В одном ящике я нашел элегии Проперция и развернул первый свиток, чтобы посмотреть на его портрет, помещенный в начале. Но гладкое чело и теплые карие глаза поэта не выдавали страданий и радостей, выраженных в его стихах, он взирал на своих потомков доверчиво, совсем не так, как смотрел в свое время на неверную Кинфию. Меня взволновало и показалось удивительным, что поэт мог так живо и четко изобразить беспорядок в спальне вольноотпущенницы с расхлябанной походкой, даже такие еле уловимые подробности, как складки и запахи ее сорочки, постаревшие линии шеи и неизменную округлость полных плеч, а вот я едва мог вспомнить, как выглядела спальня, которую только что покинул. Эти строки о неряшливой спальне распущенной женщины с синяками под похотливыми глазами казались мне интереснее, более значительными и вечными, чем мрамор и бронза, увековечившие образ Юпитера, Минервы и Юноны на Капитолийском холме. Я решил уничтожить свою поэму «О платане, посаженном Гаем Юлием Цезарем в Кордубе». Этим произведением я очень гордился, когда отправлялся в путь, но, к счастью, не показал его никому в Риме. Скучная, раболепная поэма — сейчас я прекрасно это сознавал, — лишенная как вызывающей язвительности «Фарсалии», так и сложного чувственного аромата артистически выраженных жалоб, написанных на туалетном столике Кинфии среди банок с румянами, белилами и салом, сохранившим отпечаток длинного тонкого пальца.
Подняв голову, я увидел, что вошла Герма. Она опустила глаза и вспыхнула, пролепетав, что пришла за свитком для своей госпожи. Я был уверен, что она явилась, чтобы побыть со мной. Уверен, что она стала доставать свиток с высокой полки книжного шкафа, стоящего в третьем ряду, лишь для того, чтобы я оценил ее гибкие, грациозные движения. Когда я предложил свою помощь, Герма растерянно поглядела в сторожу и глубоко вздохнула.
— О, благодарю, не надо. — Мне захотелось подойти к ней сзади и обнять ее, но я удержался, вспомнив о Цедиции.
— Твоя госпожа много читает?
Она трижды кивнула с серьезным видом, поджав губы. Я спросил, умеет ли она сама читать. Она кивнула один раз. В таком случае, сказал я, она должна читать со мной Катулла или Проперция. Она улыбнулась. Но когда я сделал вид, что хочу ее поймать, она отпрянула с приглушенным смешком и убежала. Мне понравилось, что так удачно закончилась эта что-то обещавшая встреча, которую мне не хотелось ни испортить, ни продлить.
Захватив свиток, я вернулся в свою комнату и с помощью Феникса облачился в тогу. Затем пересек атрий и очутился в толпе клиентов с давно примелькавшимися физиономиями, они подшучивали над грузным угрюмым привратником, обступив слугу, который сортировал посетителей, пропуская вперед тех, что побогаче, и оттесняя одетых в скромные тоги, явившихся за подачкой в шесть с четвертью сестерций и отправлявшихся отсюда в другие богатые дома или обратно в свои лавки. Я скромно пристал к почетным посетителям и с гордостью, к которой примешивалась досада, подумал о разнице между своим теперешним признанным положением и презрительным обращением, какое я встретил в день своего приезда.
Занавеси на двери раздвинулись, и через несколько мгновений к нам вышел Лукан. Он выглядел нездоровым, у него опухли глаза и лицо было все в пятнах, но на губах застыла любезная улыбка; он приветствовал всех по старшинству, и у него нашлось слово для квестора, для сына сенатора, для банкира. Затем мы прошли в комнату, где ожидали простолюдины. Разговоры тотчас же смолкли, и стало тихо. Лукан начал обходить просителей с бесстрастно-вежливым выражением.
— Мы давно тебя не видели, — сказал он человеку, который плаксиво жаловался, что вынужден был лежать из-за больной ноги.
— Я дал знать домоправителю, господин, я сказал ему, кто меня лечит, я чуть не умер.
Другой проситель протиснулся к Лукану и стал рассказывать про болезнь своей жены, у которой распухли колени, и про маленьких детей, оставшихся без ухода; третий объяснял, что ему пришлось заплатить за похороны отца в Вейах; еще кто-то просил оказать ему юридическую помощь. Лукан пощупал у кого-то тогу.
— Тонковата. Мой домоправитель выдаст тебе тогу потеплее из кладовой.
Затем Лукан удалился во внутренние покои, и толпа клиентов сомкнулась вокруг домоправителя, требуя от него помощи, какую им посулили слова, улыбки и взгляды Лукана: кто просил добавочной суммы денег, кто одежды, кто рекомендательного письма. Домоправитель бесцеремонно прогнал всех, кроме отдельных лиц, которым Лукан определенно что-нибудь обещал, от них нельзя было отделаться.
— Пошел прочь! — прикрикнул он на одного старика. — Ты даже не назвал его господином, ничего ты не получишь!
Старик застонал и стал слезно клясться, что он дважды отчетливо называл своего благодетеля господином. Он призывал окружающих в свидетели. Но никто из клиентов не взглянул на старика, и двое рабов живо вытолкали его наружу.
Домоправителя позвали, и я снова пошел к Лукану. Тот советовался с банкиром по поводу крупного займа, о котором просил сын сенатора. Не так давно я узнал, что он вел крупные операции по займам и закладам, хотя и в гораздо более скромных размерах, чем его отец и дядя. Мела освободил его от отцовской опеки, и он был совсем самостоятелен в финансовых делах, мне приходилось слышать, как он толкует о поместьях в Испании, о капиталовложениях в Сирии, о земельных участках в Этрурии и Африке, о недвижимом имуществе в Риме стоимостью в добрых пять миллионов. Крупные средства были вложены им в корабли и в товары. При всем том он задумал соорудить на свои средства крупную библиотеку в Кордубе и щедро помогал нуждающимся.
Я намекнул ему, что прошу уделить мне несколько минут для важного разговора. Умоляюще взглянув на меня, он обещал повидаться со мною попозже вечером или же утром на следующий день. В соседней комнате водяные часы издали свистящее бульканье, и он повел всех нас посмотреть на это устройство. Поплавки отмечали час, подбрасывая в воздух камушки и издавая свист. Эту штуку установили уже при мне механики из Александрии. Когда я собрался уходить, Лукан дал мне поручение к Афранию, предупредив, что тот выходит из Сената в шестом часу. Я должен был сказать: «Голубь прилетел с опозданием». Я не успел спросить, что означала эта условная фраза. Лукан торопился, он должен был присутствовать при вскрытии завещания умершего сенатора.
Я отправился через Аргилет, за мной плелся Феникс. Двух других своих рабов, доставивших мой багаж, я передал в распоряжение домоправителя на все время своего пребывания у Лукана. Для своих личных нужд я обходился одним Фениксом. По дороге я снова присматривался к цирюльникам, сапожникам, сукновалам, торговцам цветами, к девушкам, искусно вплетавшим бумажные нити в драгоценные шелковые ткани, привезенные из Китая. Атрект, стоявший у порога своей лавки, заметил меня и поклонился. Я купил у него недорогой, сильно испачканный список произведений Персия. «Перечту его повнимательнее, — подумал я, — во всяком случае, приятно иметь такую редкость». Миновав храм Януса с запертыми дверьми, я вышел на площадь Комиций. Здесь некогда гремели пламенные ораторы, и люди внимали им, зная, что от их решения зависит ход истории, судьба государства. Внезапно я ощутил бурную, разнообразную и могучую жизнь древней Республики и сравнил ее с духовным застоем и лукавством своих современников. Я понял, что имели в виду преторианцы. Теперь никто не смел говорить открыто. Мысли прокладывали себе извилистый путь под порогом сознания. Будучи осознаны, они метались и петляли в поисках надлежащей словесной формы. Этот процесс стал до того привычным, что мы даже перестали его замечать. Я вспомнил жалобы Марциала на отсутствие некоторых книг в публичных библиотеках. Они были втихомолку оттуда изъяты и уничтожены. «Нет надобности устраивать показные сожжения книг, как при Тиберии. У нас имеются более надежные способы контролировать умы».
Я осмотрелся вокруг и как бы впервые по-настоящему увидел Рим. Некогда должностные лица вели ожесточенные споры на рострах, открыто сталкивались интересы крупных землевладельцев и плебеев, люди голосовали в собраниях, которые впоследствии упразднил Тиберий. Книги Саллюстия, Ливия, речи Гракхов, Цицерона и многих других, Кальв и Целий Руф ожили для меня, обрели новую глубину и силу. Не только стилистические упражнения на заданные темы, как их изображали нам в школе, но выражение подлинных чувств людей, действовавших всерьез, боровшихся не на жизнь, а на смерть за содержание, форму и направление, какое должна была принять государственная жизнь. Впервые я осознал природу государственной власти, ее влияние на общество, которое имеет неотразимую силу, хотя бы граждане не отдавали себе в этом отчета. В самом деле, чем меньше они ощущают это влияние, тем могущественнее оно формирует их сознание. И я понял, как глубоко заблуждаются все известные мне философы, за исключением киников, которых я презирал, — утверждая, что представители государственной власти всегда разделяют интересы своих граждан и стоят выше и в стороне от их разногласий.
В глубине площади стояла Курия с беломраморным портиком. Я медленно подошел к зданию, словно это и в самом деле был священный храм, где обитала золотая Победа Рима. Статуи кружились и обступали меня, словно хотели вновь заключить в круг великолепных иллюзий, от которых я освобождался. Я разглядывал облицованный мрамором и местами оштукатуренный фасад, высокие бронзовые двери, тимпан, а над ним карниз из травертина. Возле алтаря Победы и окружающих его египетских трофеев восседали незримые сенаторы, и все еще царила атмосфера величия. Но теперь я знал, что подлинное величие было достоянием прошлого, а ныне оно стало декорацией, которой прикрывали раболепие и интриги. У меня был еще час времени, и я не захотел оставаться здесь.
Я спустился по лестнице и миновал место, где было сожжено тело Цезаря, затем святилище Сатурна и круглый храм Весты, где за решеткой ограды среди колонн мерцало пламя вечного огня и высокое дерево бросало тень на красную черепицу; базилику Юлия и храм Кастора, стоя у которого я несколько дней назад наблюдал, как скульпторы во дворе ваяли статуи гениев. Но вот я вступил в кварталы, где происходило энергичное строительство. Образцовая улица с регулярными портиками была почти закончена, хотя повсюду еще виднелись груды камня и кирпича, кучи бревен, и штукатуры трудились вовсю. Со временем весь Рим должен был уподобиться этой широкой парадной улице, хотя бы и не удалось повсюду возвести галереи по обеим сторонам улиц. Улица примыкала к террасе, которая являлась преддверием Золотого Дома, где предполагалось установить колоссальную статую Нерона. Нерон намеревался между холмами Палатином, Целием и Эквилином прорыть неглубокую широкую долину площадью около двухсот акров и разбить великолепный, искусно спланированный парк с рощами и лужайками, где бродили бы стада, дикие звери, где были бы уединенные уголки и большое озеро. В этом окружении предполагалось воздвигнуть императорскую виллу, украшенную драгоценными камнями, перламутром, слоновой костью, алебастром и мрамором всех сортов. Здесь и сейчас было весьма оживленно; взад и вперед сновали придворные, рабы, солдаты, разодетые бездельники с прилизанными волосами, пахнущими кассией, соглядатаи, сводники, чиновники.
Я вернулся к Курии и стал ждать. Наконец стали поодиночке появляться сенаторы, окруженные многочисленной свитой. Вскоре я увидел Афрания, который разглагольствовал довольно пронзительным голосом. Я поклонился. Он кивнул мне, и я присоединился к его клиентам. Сенаторы обсуждали злободневные политические новости, между прочим, толковали о людях, чьи имена красовались в «Ежедневных ведомостях», вывешенных у входа в императорскую канцелярию. Я уже заметил, что читавших «Ведомости» не слишком занимали опубликованные там новости. Обычно они все это уже знали. Преимущественно их интересовало, почему опубликовано то или иное сообщение, в каком оно дано освещении и в каких выражениях. По данной формулировке пытались определить, каково будет повышение или опала. Я слыхал, что недавно в «Ведомостях» было опубликовано известие о взыскании Мелей крупных сумм с его должников, что повело и банкротству нескольких финансистов, причастных к сбору налогов в Азии, и повлияло на политический климат целого ряда городов в Киликии.
Мне вспомнилось, что несколько лет назад Нерон предложил упразднить все подати и налоги; теперь это казалось мне рассчитанным политическим ходом. Сенаторы одобрили его побуждения, но в панике стали протестовать против меры, от которой жестоко пострадала бы торговли и разорились бы налоговые компании, неимоверно наживавшиеся в провинциях. Мы в Кордубе пришли было в восторг, хотя члены Совета, владевшие крупными поместьями, и ворчали, что отмена налогов повлечет за собой новые и еще более многочисленные конфискации. Разве не придется государству с отменой налогов для изыскании средств завладеть землями свободных поселян, а может быть, и мастерскими, Изготовляющими кирпич, цемент и гончарные изделия? Шепотом говорили, что логическим завершением подобной меры будет контроль государства над всем хозяйством. А это пугало даже владельцев небольших поместий и мастерских. Радовались только мошенники, надеявшиеся, что отмена налогов поведет и сдаче в аренду государственных мастерских компаниям оборотистых предпринимателей. Как бы то ни было, в Риме сенаторы быстро объединились против проекта.
Теперь меня поражало, что в иных вопросах император был бессилен; Нерон старался ввести закон, регулирующий подоходное обложение. Прежде оно составляло государственную тайну. Теперь ставки обложения были обнародованы, чтобы с ними мог познакомиться любой гражданин. Нерон потребовал также, чтобы сборщики податей не взыскивали недоимки более годичной давности, и жалобы на них рассматривались без промедления преторами в Риме и правителями провинций. Кроме того, он отменил некоторые обременительные налоги. Однако я знал, что сборщики продолжали их взимать за спиной императорских чиновников, а порой и в сговоре с ними. В то время все мы считали, что Нерон всецело занят заботами о благосостоянии своих подданных. Теперь я задавал себе вопрос: что побуждало его к этому? Не посоветовал ли ему Сенека? Но мне было известно, что Сенека вел крупные дела с Мелой, Луканом и другими членами их группы. Впрочем, у императора могли самостоятельно возникнуть либеральные идеи на основании каких-нибудь рассуждений Сенеки, к которым он прислушивался, когда был еще юн и упорно мечтал о царстве справедливости и о всеобщем благополучии.
Афраний с усмешкой вынул золотые карманные солнечные часы с драгоценными камнями, обозначавшими цифры, не с тем чтобы узнать время, но чтобы похвастаться перед присутствующими. Высокий сутулый сенатор жаловался, что жизнь в Городе расшатывает нервы. Скоро в Риме останутся только дворцы да трущобы, не будет места для людей среднего достатка и благоразумным людям придется селиться возле рощ Пинция или Дникула. Он предполагал в скором времени оставить дела и переехать в деревню. Афраний рассказывал о своем приятеле, который заплатил двадцать тысяч за глухого возницу, поскольку глухие не болтливы.
О подобных предметах говорили громко. Подойдя поближе к Афранию, я услышал уже другие речи, полные намеков. Тразея Пет вновь не явился на заседание, отказываясь присутствовать в Сенате, где никто не смеет высказать свое мнение. Один сенатор сообщил, что подголосок придворных упомянул о людях, «которые громко говорят, чтобы ничего не сказать, и напоминают о себе своим отсутствием». Эти слова воспринимались как намек, что против Пета будут приняты меры. В каком тоне они были высказаны? Быть может, это было лишь предупреждение, чтобы другие не следовали дурному примеру? Отправят ли его в изгнание или вежливо предложат ему вскрыть себе вены? Окажутся ли замешанными в дело люди, осмеливающиеся до сих пор с ним обедать или его навещать? Все одобряли эти смелые догадки, но если бы их прижали к Стене, они ответили бы угодливо, что не усматривали здесь никакого намека, а просто восхищались изящной антитезой.
Обсуждались и кое-какие юридические вопросы, не вполне для меня ясные, о взаимоотношениях с государством уцелевшего со времен Республики Кассационного суда, где заседали присяжные представители среднего сословия: подчинен ли он юрисдикции городского претора, которому императоры поручали важные дела? Несколько лет назад Валерия Понтика обвинили, что он передавал дела претору с тем, чтобы они, по предварительному сговору, были проиграны и не попали к префекту, который, разумеется, действовал исключительно в интересах цезаря. Суд присяжных вызывал подозрения. На нынешней сессии Сената раздавались упреки «некоторым лицам, которые с неуместной поспешностьюобращаются к квестору», однако никто не понял, кого именно имели в виду. Сенатор, которого считали доброжелателем Пета и Пакония, поднялся и спросил, не является ли это клеветой на суд, действующий с полного согласия императора. Все решили, что он поступил опрометчиво и может навлечь на себя суровую кару. Другой сенатор, друживший, как было известно, с префектом Тигеллином, возражая ему, спросил, как может благонамеренный гражданин отвечать перед судом, представлявшим собою предосудительный пережиток времен буйного произвола, которому божественный цезарь положил предел, покончив с классовыми раздорами и установив в обществе порядок и мир; ныне всякий благонамеренный гражданин захочет предстать перед судом, которому непосредственно переданы полномочия милостивым цезарем, либо перед судом Сената под председательством самого цезаря. Продолжительные аплодисменты. Спор закончился, начали копаться в каких-то мелочах, значение которых от меня ускользало.
Афраний отошел в сторону и взял меня под руку. Я осторожно передал ему условную фразу. Он озабоченно нахмурился, потом поблагодарил меня и удалился со свойственным ему беспечным видом. Я уже слышал, почему он был недоволен Нероном. Тот написал шутливые стихи, в которых явно намекал на Афрания: в них высмеивались его изнеженность и огорчение по поводу кое-каких придворных назначений:
Я проснулся задолго до рассвета, унылый и расстроенный — на меня угнетающе действовало выпитое накануне вино, а еще больше — то, что выявилось благодаря вину. Мне хотелось поговорить с Луканом, но я знал, что это невозможно в столь ранний час. В саду резко прокричал павлин, недавно привезенный из одного поместья, где у Лукана было множество редкостных птиц. Сквозь полузатворенные ставни сочился тусклый свет, от которого было еще легко отгородиться. Рабы уже поднялись — было слышно, как они болтают, переставляют мебель, бегают. Дорожка, ведущая к их помещениям, проходила под моим окном. В противоположном крыле жили Лукан, Полла и ее старая тетка, редко появлявшаяся к столу, и до них не доносилась утренняя суета; порой я завидовал этому преимуществу, лежа в постели без сна. Сейчас я чувствовал себя не в своей тарелке, веки у меня опухли. Послышался звонок. Сигнал для рабов, разбитых на группы по десять человек, приниматься за уборку и чистку. Я сел на ложе, рассеянно оглядывая комод, стенной шкаф, ночной горшок и складной стул, составлявшие всю обстановку. Сейчас все эти предметы казались разрозненными и чужими, словно ждали, чтобы я уехал и освободил место для неизвестного мне человека. Черные и коричневые узоры на стене нагоняли тоску. Постояв на коврике, я босиком прошелся по красному мозаичному полу и выглянул в сад, где взад и вперед сновали слуги.
Раб приставил лесенку к стене и разговаривал с девушкой, загораживая дорогу, пока его не окрикнул надсмотрщик. Мне показалось, что я узнал Герму. Но, приглядевшись внимательнее, я увидел только розовый куст. Зевнув, я начал одеваться. Я долго раздумывал, следует ли мне сменить шерстяную рубаху, продравшуюся на боку. Затем я направился к комоду взять набедренную повязку и тунику с короткими рукавами. Все валилось из рук, и мне стоило немалых усилий поднять вещи с полу. Трудно было стаскивать через голову рубаху, завязывать повязку вокруг бедер, зашнуровывать сандалии. Все это надо было делать усердно и терпеливо, снова и снова. Я зевал во весь рот и досадовал на Феникса, все еще спавшего, но позвать его я был не в состоянии. Потом, когда он заглянул в дверь и с испугом увидел меня одетым, я резко спросил его, куда он запропастился, и отказался от завтрака.
Я направился в библиотеку за свитком. Рабы посыпали полы опилками и сметали их пальмовыми листьями и ветками тамариска, столкнувшись друг с другом, останавливались поболтать за колоннами, даже играли в кости. Один из них мочился на мраморную скамью и, заметив меня, в ужасе нырнул в кусты. Прежде чем они меня заметили, мне в сандалии набились опилки. Тут они упали передо мною на колени и стали умолять не выдавать их. Я пошел дальше раздраженный, меня беспокоили опилки, но я не стал переобуваться и вытряхивать их из сандалий. Какой смысл жить, если время уходит вот на такие мелочи? Ничего другого как будто не было. Сколько часов трачу я, да и любой другой человек, на всякие бессмысленные пустяки, а между тем жизнь проносится мимо, как видение. Пока не наступит день, когда придет всему конец и окажется, что ничего не сделано, только мириады вздорных мелочей. Вместе с тем я чувствовал, что, отказываясь вытряхнуть опилки из сандалий, делаю это кому-то в отместку, не то себе, не то Лукану, который — я был твердо убежден — никогда не отзывался хвалебно о моих стихах, не то всем на свете. Остановись я вытряхнуть опилки, от этого ничего бы не изменилось. Я все-таки сделал бы это в отместку Лукану, себе, кому угодно, потратив время на такое пустячное дело, которое вместе с другими подобными делами составляет содержание всей жизни. Сделай это или не сделай, не избавиться от дилеммы. Сделай или не сделай. Я наткнулся на раба, который, стоя на цыпочках, полировал карниз колонны, надсмотрщик расхаживал с бичом, пощелкивая им или стегая рабов по ягодицам.
— Эй ты, чисти столовое серебро. А ты что по сторонам зеваешь? Пошевеливайся, не то я тебя переведу в группу рассыльных! — В доме царил невероятный беспорядок.
В библиотеке ни души. На полке рядом с чернильницей и пером лежала рукопись с текстом малоизвестной речи, произнесенной во времена Республики, которую переписывал библиотекарь. В нишах стояли бюсты Энния и Вергилия, оба презрительно глядели на фреску, изображавшую Лукана, беседующего со своей не слишком привлекательной музой. Здесь царил крепкий запах кедрового масла, от которого у меня слезились глаза и трещала голова. Все же я не хотел уходить. В одном ящике я нашел элегии Проперция и развернул первый свиток, чтобы посмотреть на его портрет, помещенный в начале. Но гладкое чело и теплые карие глаза поэта не выдавали страданий и радостей, выраженных в его стихах, он взирал на своих потомков доверчиво, совсем не так, как смотрел в свое время на неверную Кинфию. Меня взволновало и показалось удивительным, что поэт мог так живо и четко изобразить беспорядок в спальне вольноотпущенницы с расхлябанной походкой, даже такие еле уловимые подробности, как складки и запахи ее сорочки, постаревшие линии шеи и неизменную округлость полных плеч, а вот я едва мог вспомнить, как выглядела спальня, которую только что покинул. Эти строки о неряшливой спальне распущенной женщины с синяками под похотливыми глазами казались мне интереснее, более значительными и вечными, чем мрамор и бронза, увековечившие образ Юпитера, Минервы и Юноны на Капитолийском холме. Я решил уничтожить свою поэму «О платане, посаженном Гаем Юлием Цезарем в Кордубе». Этим произведением я очень гордился, когда отправлялся в путь, но, к счастью, не показал его никому в Риме. Скучная, раболепная поэма — сейчас я прекрасно это сознавал, — лишенная как вызывающей язвительности «Фарсалии», так и сложного чувственного аромата артистически выраженных жалоб, написанных на туалетном столике Кинфии среди банок с румянами, белилами и салом, сохранившим отпечаток длинного тонкого пальца.
Подняв голову, я увидел, что вошла Герма. Она опустила глаза и вспыхнула, пролепетав, что пришла за свитком для своей госпожи. Я был уверен, что она явилась, чтобы побыть со мной. Уверен, что она стала доставать свиток с высокой полки книжного шкафа, стоящего в третьем ряду, лишь для того, чтобы я оценил ее гибкие, грациозные движения. Когда я предложил свою помощь, Герма растерянно поглядела в сторожу и глубоко вздохнула.
— О, благодарю, не надо. — Мне захотелось подойти к ней сзади и обнять ее, но я удержался, вспомнив о Цедиции.
— Твоя госпожа много читает?
Она трижды кивнула с серьезным видом, поджав губы. Я спросил, умеет ли она сама читать. Она кивнула один раз. В таком случае, сказал я, она должна читать со мной Катулла или Проперция. Она улыбнулась. Но когда я сделал вид, что хочу ее поймать, она отпрянула с приглушенным смешком и убежала. Мне понравилось, что так удачно закончилась эта что-то обещавшая встреча, которую мне не хотелось ни испортить, ни продлить.
Захватив свиток, я вернулся в свою комнату и с помощью Феникса облачился в тогу. Затем пересек атрий и очутился в толпе клиентов с давно примелькавшимися физиономиями, они подшучивали над грузным угрюмым привратником, обступив слугу, который сортировал посетителей, пропуская вперед тех, что побогаче, и оттесняя одетых в скромные тоги, явившихся за подачкой в шесть с четвертью сестерций и отправлявшихся отсюда в другие богатые дома или обратно в свои лавки. Я скромно пристал к почетным посетителям и с гордостью, к которой примешивалась досада, подумал о разнице между своим теперешним признанным положением и презрительным обращением, какое я встретил в день своего приезда.
Занавеси на двери раздвинулись, и через несколько мгновений к нам вышел Лукан. Он выглядел нездоровым, у него опухли глаза и лицо было все в пятнах, но на губах застыла любезная улыбка; он приветствовал всех по старшинству, и у него нашлось слово для квестора, для сына сенатора, для банкира. Затем мы прошли в комнату, где ожидали простолюдины. Разговоры тотчас же смолкли, и стало тихо. Лукан начал обходить просителей с бесстрастно-вежливым выражением.
— Мы давно тебя не видели, — сказал он человеку, который плаксиво жаловался, что вынужден был лежать из-за больной ноги.
— Я дал знать домоправителю, господин, я сказал ему, кто меня лечит, я чуть не умер.
Другой проситель протиснулся к Лукану и стал рассказывать про болезнь своей жены, у которой распухли колени, и про маленьких детей, оставшихся без ухода; третий объяснял, что ему пришлось заплатить за похороны отца в Вейах; еще кто-то просил оказать ему юридическую помощь. Лукан пощупал у кого-то тогу.
— Тонковата. Мой домоправитель выдаст тебе тогу потеплее из кладовой.
Затем Лукан удалился во внутренние покои, и толпа клиентов сомкнулась вокруг домоправителя, требуя от него помощи, какую им посулили слова, улыбки и взгляды Лукана: кто просил добавочной суммы денег, кто одежды, кто рекомендательного письма. Домоправитель бесцеремонно прогнал всех, кроме отдельных лиц, которым Лукан определенно что-нибудь обещал, от них нельзя было отделаться.
— Пошел прочь! — прикрикнул он на одного старика. — Ты даже не назвал его господином, ничего ты не получишь!
Старик застонал и стал слезно клясться, что он дважды отчетливо называл своего благодетеля господином. Он призывал окружающих в свидетели. Но никто из клиентов не взглянул на старика, и двое рабов живо вытолкали его наружу.
Домоправителя позвали, и я снова пошел к Лукану. Тот советовался с банкиром по поводу крупного займа, о котором просил сын сенатора. Не так давно я узнал, что он вел крупные операции по займам и закладам, хотя и в гораздо более скромных размерах, чем его отец и дядя. Мела освободил его от отцовской опеки, и он был совсем самостоятелен в финансовых делах, мне приходилось слышать, как он толкует о поместьях в Испании, о капиталовложениях в Сирии, о земельных участках в Этрурии и Африке, о недвижимом имуществе в Риме стоимостью в добрых пять миллионов. Крупные средства были вложены им в корабли и в товары. При всем том он задумал соорудить на свои средства крупную библиотеку в Кордубе и щедро помогал нуждающимся.
Я намекнул ему, что прошу уделить мне несколько минут для важного разговора. Умоляюще взглянув на меня, он обещал повидаться со мною попозже вечером или же утром на следующий день. В соседней комнате водяные часы издали свистящее бульканье, и он повел всех нас посмотреть на это устройство. Поплавки отмечали час, подбрасывая в воздух камушки и издавая свист. Эту штуку установили уже при мне механики из Александрии. Когда я собрался уходить, Лукан дал мне поручение к Афранию, предупредив, что тот выходит из Сената в шестом часу. Я должен был сказать: «Голубь прилетел с опозданием». Я не успел спросить, что означала эта условная фраза. Лукан торопился, он должен был присутствовать при вскрытии завещания умершего сенатора.
Я отправился через Аргилет, за мной плелся Феникс. Двух других своих рабов, доставивших мой багаж, я передал в распоряжение домоправителя на все время своего пребывания у Лукана. Для своих личных нужд я обходился одним Фениксом. По дороге я снова присматривался к цирюльникам, сапожникам, сукновалам, торговцам цветами, к девушкам, искусно вплетавшим бумажные нити в драгоценные шелковые ткани, привезенные из Китая. Атрект, стоявший у порога своей лавки, заметил меня и поклонился. Я купил у него недорогой, сильно испачканный список произведений Персия. «Перечту его повнимательнее, — подумал я, — во всяком случае, приятно иметь такую редкость». Миновав храм Януса с запертыми дверьми, я вышел на площадь Комиций. Здесь некогда гремели пламенные ораторы, и люди внимали им, зная, что от их решения зависит ход истории, судьба государства. Внезапно я ощутил бурную, разнообразную и могучую жизнь древней Республики и сравнил ее с духовным застоем и лукавством своих современников. Я понял, что имели в виду преторианцы. Теперь никто не смел говорить открыто. Мысли прокладывали себе извилистый путь под порогом сознания. Будучи осознаны, они метались и петляли в поисках надлежащей словесной формы. Этот процесс стал до того привычным, что мы даже перестали его замечать. Я вспомнил жалобы Марциала на отсутствие некоторых книг в публичных библиотеках. Они были втихомолку оттуда изъяты и уничтожены. «Нет надобности устраивать показные сожжения книг, как при Тиберии. У нас имеются более надежные способы контролировать умы».
Я осмотрелся вокруг и как бы впервые по-настоящему увидел Рим. Некогда должностные лица вели ожесточенные споры на рострах, открыто сталкивались интересы крупных землевладельцев и плебеев, люди голосовали в собраниях, которые впоследствии упразднил Тиберий. Книги Саллюстия, Ливия, речи Гракхов, Цицерона и многих других, Кальв и Целий Руф ожили для меня, обрели новую глубину и силу. Не только стилистические упражнения на заданные темы, как их изображали нам в школе, но выражение подлинных чувств людей, действовавших всерьез, боровшихся не на жизнь, а на смерть за содержание, форму и направление, какое должна была принять государственная жизнь. Впервые я осознал природу государственной власти, ее влияние на общество, которое имеет неотразимую силу, хотя бы граждане не отдавали себе в этом отчета. В самом деле, чем меньше они ощущают это влияние, тем могущественнее оно формирует их сознание. И я понял, как глубоко заблуждаются все известные мне философы, за исключением киников, которых я презирал, — утверждая, что представители государственной власти всегда разделяют интересы своих граждан и стоят выше и в стороне от их разногласий.
В глубине площади стояла Курия с беломраморным портиком. Я медленно подошел к зданию, словно это и в самом деле был священный храм, где обитала золотая Победа Рима. Статуи кружились и обступали меня, словно хотели вновь заключить в круг великолепных иллюзий, от которых я освобождался. Я разглядывал облицованный мрамором и местами оштукатуренный фасад, высокие бронзовые двери, тимпан, а над ним карниз из травертина. Возле алтаря Победы и окружающих его египетских трофеев восседали незримые сенаторы, и все еще царила атмосфера величия. Но теперь я знал, что подлинное величие было достоянием прошлого, а ныне оно стало декорацией, которой прикрывали раболепие и интриги. У меня был еще час времени, и я не захотел оставаться здесь.
Я спустился по лестнице и миновал место, где было сожжено тело Цезаря, затем святилище Сатурна и круглый храм Весты, где за решеткой ограды среди колонн мерцало пламя вечного огня и высокое дерево бросало тень на красную черепицу; базилику Юлия и храм Кастора, стоя у которого я несколько дней назад наблюдал, как скульпторы во дворе ваяли статуи гениев. Но вот я вступил в кварталы, где происходило энергичное строительство. Образцовая улица с регулярными портиками была почти закончена, хотя повсюду еще виднелись груды камня и кирпича, кучи бревен, и штукатуры трудились вовсю. Со временем весь Рим должен был уподобиться этой широкой парадной улице, хотя бы и не удалось повсюду возвести галереи по обеим сторонам улиц. Улица примыкала к террасе, которая являлась преддверием Золотого Дома, где предполагалось установить колоссальную статую Нерона. Нерон намеревался между холмами Палатином, Целием и Эквилином прорыть неглубокую широкую долину площадью около двухсот акров и разбить великолепный, искусно спланированный парк с рощами и лужайками, где бродили бы стада, дикие звери, где были бы уединенные уголки и большое озеро. В этом окружении предполагалось воздвигнуть императорскую виллу, украшенную драгоценными камнями, перламутром, слоновой костью, алебастром и мрамором всех сортов. Здесь и сейчас было весьма оживленно; взад и вперед сновали придворные, рабы, солдаты, разодетые бездельники с прилизанными волосами, пахнущими кассией, соглядатаи, сводники, чиновники.
Я вернулся к Курии и стал ждать. Наконец стали поодиночке появляться сенаторы, окруженные многочисленной свитой. Вскоре я увидел Афрания, который разглагольствовал довольно пронзительным голосом. Я поклонился. Он кивнул мне, и я присоединился к его клиентам. Сенаторы обсуждали злободневные политические новости, между прочим, толковали о людях, чьи имена красовались в «Ежедневных ведомостях», вывешенных у входа в императорскую канцелярию. Я уже заметил, что читавших «Ведомости» не слишком занимали опубликованные там новости. Обычно они все это уже знали. Преимущественно их интересовало, почему опубликовано то или иное сообщение, в каком оно дано освещении и в каких выражениях. По данной формулировке пытались определить, каково будет повышение или опала. Я слыхал, что недавно в «Ведомостях» было опубликовано известие о взыскании Мелей крупных сумм с его должников, что повело и банкротству нескольких финансистов, причастных к сбору налогов в Азии, и повлияло на политический климат целого ряда городов в Киликии.
Мне вспомнилось, что несколько лет назад Нерон предложил упразднить все подати и налоги; теперь это казалось мне рассчитанным политическим ходом. Сенаторы одобрили его побуждения, но в панике стали протестовать против меры, от которой жестоко пострадала бы торговли и разорились бы налоговые компании, неимоверно наживавшиеся в провинциях. Мы в Кордубе пришли было в восторг, хотя члены Совета, владевшие крупными поместьями, и ворчали, что отмена налогов повлечет за собой новые и еще более многочисленные конфискации. Разве не придется государству с отменой налогов для изыскании средств завладеть землями свободных поселян, а может быть, и мастерскими, Изготовляющими кирпич, цемент и гончарные изделия? Шепотом говорили, что логическим завершением подобной меры будет контроль государства над всем хозяйством. А это пугало даже владельцев небольших поместий и мастерских. Радовались только мошенники, надеявшиеся, что отмена налогов поведет и сдаче в аренду государственных мастерских компаниям оборотистых предпринимателей. Как бы то ни было, в Риме сенаторы быстро объединились против проекта.
Теперь меня поражало, что в иных вопросах император был бессилен; Нерон старался ввести закон, регулирующий подоходное обложение. Прежде оно составляло государственную тайну. Теперь ставки обложения были обнародованы, чтобы с ними мог познакомиться любой гражданин. Нерон потребовал также, чтобы сборщики податей не взыскивали недоимки более годичной давности, и жалобы на них рассматривались без промедления преторами в Риме и правителями провинций. Кроме того, он отменил некоторые обременительные налоги. Однако я знал, что сборщики продолжали их взимать за спиной императорских чиновников, а порой и в сговоре с ними. В то время все мы считали, что Нерон всецело занят заботами о благосостоянии своих подданных. Теперь я задавал себе вопрос: что побуждало его к этому? Не посоветовал ли ему Сенека? Но мне было известно, что Сенека вел крупные дела с Мелой, Луканом и другими членами их группы. Впрочем, у императора могли самостоятельно возникнуть либеральные идеи на основании каких-нибудь рассуждений Сенеки, к которым он прислушивался, когда был еще юн и упорно мечтал о царстве справедливости и о всеобщем благополучии.
Афраний с усмешкой вынул золотые карманные солнечные часы с драгоценными камнями, обозначавшими цифры, не с тем чтобы узнать время, но чтобы похвастаться перед присутствующими. Высокий сутулый сенатор жаловался, что жизнь в Городе расшатывает нервы. Скоро в Риме останутся только дворцы да трущобы, не будет места для людей среднего достатка и благоразумным людям придется селиться возле рощ Пинция или Дникула. Он предполагал в скором времени оставить дела и переехать в деревню. Афраний рассказывал о своем приятеле, который заплатил двадцать тысяч за глухого возницу, поскольку глухие не болтливы.
О подобных предметах говорили громко. Подойдя поближе к Афранию, я услышал уже другие речи, полные намеков. Тразея Пет вновь не явился на заседание, отказываясь присутствовать в Сенате, где никто не смеет высказать свое мнение. Один сенатор сообщил, что подголосок придворных упомянул о людях, «которые громко говорят, чтобы ничего не сказать, и напоминают о себе своим отсутствием». Эти слова воспринимались как намек, что против Пета будут приняты меры. В каком тоне они были высказаны? Быть может, это было лишь предупреждение, чтобы другие не следовали дурному примеру? Отправят ли его в изгнание или вежливо предложат ему вскрыть себе вены? Окажутся ли замешанными в дело люди, осмеливающиеся до сих пор с ним обедать или его навещать? Все одобряли эти смелые догадки, но если бы их прижали к Стене, они ответили бы угодливо, что не усматривали здесь никакого намека, а просто восхищались изящной антитезой.
Обсуждались и кое-какие юридические вопросы, не вполне для меня ясные, о взаимоотношениях с государством уцелевшего со времен Республики Кассационного суда, где заседали присяжные представители среднего сословия: подчинен ли он юрисдикции городского претора, которому императоры поручали важные дела? Несколько лет назад Валерия Понтика обвинили, что он передавал дела претору с тем, чтобы они, по предварительному сговору, были проиграны и не попали к префекту, который, разумеется, действовал исключительно в интересах цезаря. Суд присяжных вызывал подозрения. На нынешней сессии Сената раздавались упреки «некоторым лицам, которые с неуместной поспешностьюобращаются к квестору», однако никто не понял, кого именно имели в виду. Сенатор, которого считали доброжелателем Пета и Пакония, поднялся и спросил, не является ли это клеветой на суд, действующий с полного согласия императора. Все решили, что он поступил опрометчиво и может навлечь на себя суровую кару. Другой сенатор, друживший, как было известно, с префектом Тигеллином, возражая ему, спросил, как может благонамеренный гражданин отвечать перед судом, представлявшим собою предосудительный пережиток времен буйного произвола, которому божественный цезарь положил предел, покончив с классовыми раздорами и установив в обществе порядок и мир; ныне всякий благонамеренный гражданин захочет предстать перед судом, которому непосредственно переданы полномочия милостивым цезарем, либо перед судом Сената под председательством самого цезаря. Продолжительные аплодисменты. Спор закончился, начали копаться в каких-то мелочах, значение которых от меня ускользало.
Афраний отошел в сторону и взял меня под руку. Я осторожно передал ему условную фразу. Он озабоченно нахмурился, потом поблагодарил меня и удалился со свойственным ему беспечным видом. Я уже слышал, почему он был недоволен Нероном. Тот написал шутливые стихи, в которых явно намекал на Афрания: в них высмеивались его изнеженность и огорчение по поводу кое-каких придворных назначений:
Занятной басенкой потешить вас хочу.
Венера никого не допускала чистить
Помет и сор в своей священной голубятне.
Но ты, Рафраний, ты, что женщин презираешь,
Порхая день-деньской и сладостно воркуя, —
Прими угодливо высокий этот пост!
[123]
Я слышал, как он, уходя, сказал небрежным тоном приятелю:
— Я забыл захватить свои пастилки против чесотки. Мы целуемся с встречным и поперечным, но это далеко не безопасно.
Рядом с ним кто-то говорил:
— Каково! Врачи прописали Тонгилию ежедневные ванны! Лихорадка, которой он страдает, вызвана ненасытным голодом и жаждой. Он расставляет сети, чтобы поймать жареных дроздов, и забрасывает крючок, ловя форель или щуку в пряном соусе.
Я собрался уходить, когда заметил человека странной наружности, замешавшегося в толпу сенаторов и в их свиту; этот красноносый кривобокий коротыш развязно и неуклюже размахивал большими волосатыми руками. На носу у него сидела огромная бородавка, а жидкие брови забавно щетинились. Все перед ним раболепствовали. Он взял под руку сенатора, и тот кисло улыбнулся, выражая свою признательность.
— Давно я тебя не видел, — заговорил урод низким скрипучим голосом, лукаво подмигивая крохотными свиными глазками. Сенатор ответил, что он поехал на свою виллу в Кампании и там заболел.
— Ты слишком удаляешься от Солнца Мира, которое день и ночь сияет над Римом, — ответил его собеседник. — Почему ты так поступаешь, друг мой, почему? — Тут он отпустил руку сенатора, усмехнулся, глядя в лицо, и стало видно, что у него недостает нескольких передних зубов. — Да ну же, говори. Я умею хранить тайны. Говори всю правду. Ты знаешь, я заслуживаю доверия. Но я не люблю людей, которые прикусывают язык. Они что-нибудь-да скрывают и получают за это по заслугам. — Он оглушительно расхохотался, брызгая слюной в лицо сенатору, не смевшему обнаружить свое отвращение.
Я услышал, как кто-то близ меня шепотом назвал Ватиния; этот мучитель был широко известный соглядатай; сын сапожника, он вырос в Беневенте и в свое время втерся в милость к Нерону благодаря бесстыдному шутовству. Он умел с неподражаемым искусством подпустить яду в свои шутки и до смерти любил пугать вельмож и богачей.
— У меня были дела за городом, а потом я занемог, — пробормотал, запинаясь, сенатор, грузный человек с желтоватыми глазами и костлявым лицом, похожим на мордочку ящерицы. Его рука судорожно дергалась, ему хотелось ударить негодяя, но его удерживал постыдный страх.
— Да, да, это бывает со всеми. Но почему ты туда поехал? Да ну же, рассказывай откровенно, как другу. Доверься мне, и я всегда за тебя заступлюсь. Почему ты поехал? Почему поехал так далеко от Рима? Напрасно ты это сделал, право же, напрасно. Я мог бы сказать тебе это наперёд. Ты знаешь, что существуют особые приспособления, устроенные так же, как голосники в театрах, усиливающие голоса актеров и доносящие их до зрителей в задних рядах. Шепот в Капуе может быть услышан так же явственно, как крик в Риме. Пожалуй, даже еще явственнее. Не упрямься, расскажи мне, что ты говорил за запертыми дверями, плотно занавесив все окна в доме, что стоит на вершине холма?
— Да он вовсе не на холме.
— Так ты признаешь, что я угадал? Что ж, и это неплохо. Дело идет на лад. Но ты ошибаешься насчет дома. Он виден со всех сторон. Человек столь знатного происхождения, как ты, не может укрыться от глаз, как какой-нибудь безногий нищий, который подыхает под мостом, оплакиваемый одними блохами.
Все вокруг смеялись, откровенно пресмыкаясь перед ним, но все же опасаясь привлечь к себе его внимание и стать очередной жертвой наглого хищника. Никто не знал, пристает ли он к сенатору из любви к искусству и обычного желания нагнать страху или же он вправду задумал его погубить. Чтобы — не попасться ему на глаза, я стал, пятясь, тихонько выбираться из толпы. Наконец он отпустил свою жертву и обратился к другому человеку, который особенно рьяно им восторгался. Воспользовавшись этим, я поспешно удалился.
Я испытывал необходимость обстоятельно поговорить с Луканом. Я больше не мог выносить этой неопределенности. Я запутался в сетях его заговора и при этом ничего не знал о нем, лишь догадывался на основании случайно услышанных сумасбродных выкриков. Я направился на Марсово поле. По аллеям, обсаженным лаврами и платанами, я вышел на открытую площадь, отведенную для игр, затем повернул к торговым рядам, где в лавках продавались самые одаренные и красивые рабы, изделия из слоновой кости, ложа с инкрустацией из черепахи, хрустальные чаши и пропитанные миррой краски, серебряная посуда древней чеканки, золотые ожерелья с изумрудами, духи с эротическими названиями, серьги из крупных жемчужин, напоминавшие мне Цедицию. Я обогнал старика, живущего в нужде, но коллекционирующего старую бронзу, с которым меня познакомил Марциал. Он не узнал меня, поглощенный покупкой, которую держал под своей потрепанной тогой. По блеску его глаз можно было догадаться, что ему улыбнулось счастье.
Я миновал длинное здание с колоннадой, где помещались канцелярии и банки и были выставлены драгоценные ткани, привезенные из Египта, Сирии и Пергама, и по Фламиниевой дороге прошел к триумфальной арке, воздвигнутой Клавдием в честь завоевания Британии. Покорились одиннадцать королей, и римляне не понесли потерь. Далее простиралась обширная, поросшая травой площадь, ограниченная справа аркадами. Я остановился поглядеть на упражнения. Гимнастика, игра в мяч, состязания в беге, скачки, борьба. Стоя по углам треугольника, игроки бросали друг другу и ловили жесткий мяч. Другие подбрасывали большой мяч, набитый перьями. Я подивился бесполезной затрате усилий, хотя в Кордубе сам присоединился бы к игрокам. Атлеты прыгали с двойными гирями в руках, метали диски. Другие упражнялись деревянным мечом, набрасывались на столб, осыпая его ударами и размахивая плетеным щитом. Я подумал о войнах, которые безжалостно и слепо ведут в ясном сиянии дня, и все же присоединился к рукоплесканиям зрителей, восхищенных ловкостью и умением гимнастов. Чтобы не отличаться от других или потому, что мне самому это нравилось, — я не мог бы на это ответить. Молодые патриции блистательно проделывали упражнения верхом на конях.
Вдалеке в небо вздымался мавзолей Августа — монументальное основание из белого мрамора со статуями в нишах и на нем могильный холм в виде ступенчатой пирамиды, усаженный вечнозелеными деревьями. Все сооружение увенчивала величавая статуя императора. У входа стояли бронзовые доски, где перечислялись все его деяния. Против мавзолея простиралась окруженная балюстрадой и окаймленная тополями мощеная площадка, на которой сжигали тела императоров, меж тем как их орлиный дух на глазах у всех взмывал к небу. Стоял теплый день. Легкие облачка плыли светозарными гирляндами над головами счастливых жителей земли, увенчивая всех нас. В кустах шныряли любовники, и девушки всякий раз попадались в ловушку. Какое дело было этим людям до того, правит ими Нерон или Тразея Пет, исчадие ада Тифон или увенчанный лаврами Аполлон?
Я побрел обратно. Вышли на прогулку женщины. Иные из них расхаживали под яркими зонтами, которые несли евнухи или мальчики-прислужники, за ними увивались их любовники, болтая и обмахиваясь веерами из павлиньих перьев или шелковыми платками. Другие сидели в носилках, поставленных на землю, словно у себя в приемной комнате или в опочивальне. Одна матрона покатывалась со смеху, сидя между двумя греческими философами, приводившими доводы за и против платонической любви. Я узнал особу, о которой Марциал рассказывал, что она вступила в фиктивный брак, чтобы быть совершенно свободной. Действительно, немало браков в высших слоях общества, о которых я теперь кое-что знал, были попросту ширмой для соблюдения приличий. Так, гомосексуалист вступал в брак, дабы ускользнуть от закона, накладывавшего пеню на холостяков, а его жена заводила себе сколько угодно любовников или окружала себя девушками-фаворитками. Главным любовником этой матроны был гладиатор, вернее, он был ее постельным поденщиком.
— У Платона такой изысканный стиль, — лепетала она, — и, без сомнения, его учение о морали должно иметь самое благотворное влияние на цвет лица женщины.
Поблизости женщина, облаченная в столу[124], как почтенная матрона, легкомысленно выбалтывала то, что сказала своему супругу:
— Хорошо тебе говорить, но вот Церулия всякий раз появляется в новом платье и все сходят по ней с ума, а я — ничто в собрании матрон. Что ты скажешь по этому поводу? — Она жеманно улыбнулась. — Да, моя дорогая, он огорчился лишь, когда я дала ему отставку. — Я догадался, что она имела в виду собрания, какие устраивают жены сенаторов в своих комнатах на Квиринале.
В другой группе, собравшейся вокруг носилок, шел жаркий спор на литературную тему. Костлявая женщина с разгоревшимся лицом защищала Дидону против Энея. Неподалеку коренастая румяная девица хвастала количеством съеденных накануне устриц и фалернским, которое пили из чаш для благовоний, говорила о предстоящей охоте в Сабинских горах. Ее приятель с лицом фавна забавлялся, поглаживая ее под платьем вдоль спины длинной чесалкой с наконечником из слоновой кости в виде руки. Другой молодой человек хотел ее защитить, но девица оттолкнула его локтем.
Я никак не мог найти лавку со стеклянной посудой и уже не надеялся встретить Цедицию, как вдруг увидел ее, медленно прогуливающуюся вдоль лавок в сопровождении двух рабов. Ее лицо было почти скрыто тонким покрывалом, но я тотчас ее узнал. Она небрежно мне кивнула, не разыгрывая удивления, и сказала, что уже собиралась возвращаться домой. Из-под полы ее синего плаща поблескивали золотые сандалии и выглядывал край одежды. Когда, не найдя подходящего предмета для разговора, я сказал, что отыскивал портик, где выступали декламаторы, она зевнула и ответила, что только дурно воспитанные люди помнят то, что говорилось накануне вечером. Ее тон глубоко уязвил меня, и я почувствовал к ней острую неприязнь. Я готов был холодно с ней проститься, но она взяла меня под руку и повела по узкому проходу к лавке Сосибиана, которую я так и не нашел, хотя спрашивал о ней нескольких человек и раза два проходил мимо. Наверное, ее раздосадовало, что я не ждал ее у назначенного места.
Я сразу все ей простил. Феникс и двое рабов Цедиции ждали снаружи. Я предвидел, что они будут смотреть на него свысока и отвергнут его попытки познакомиться, считая себя куда выше моего раба с его провинциальными манерами, дружеской улыбкой и лохматой головой. Мы направились в заднюю комнату, где жирный лавочник, от которого несло египетской душицей, предложил нам поднос с ломтиками хлеба, поджаренными в масле и политыми медом. Когда мы отказались от угощения, он сам съел один гренок, затем вытер пальцы о волосы мальчика-раба и почтительно удалился в лавку. Я взглянул на выставленные стекло и хрусталь и подумал, уж не ждет ли Цедиция, что я ей куплю дорогую чашу или вазу. И решил не замечать никаких намеков. Впрочем, она вскоре заявила, что ей здесь ничего не нравится. Она откинула с лица шелковое покрывало.
И сразу преобразилась. Она улыбнулась, и я подивился ее красоте. Ее нельзя было назвать красавицей, но она производила впечатление своей статностью.
— Я тебе не нравлюсь в обличье римской матроны?
Мне самой оно не по душе. Так не лучше ли мне станцевать или плеснуть тебе вином в лицо? — Она осмотрелась. — Живей вина, и я тебе все прощаю.
Мне хотелось спросить, за что меня надо прощать, но меня озаботило ее требование. Я растерянно спросил, позвать ли Сосибиана или послать одного из наших рабов… Она ответила, что придумала что-то получше, отдернула занавесь и, показав мне лесенку, ведущую на верхний этаж, стала по ней подниматься. Я смущенно последовал за ней, ощущая близость ее пышного тела, на ней было много наверчено, складки ее длинного одеяния колыхались, обтекая бедра, и я чувствовал, как от нее пышет жаром. Верхняя комната была задрапирована красными занавесками, там стояло опрятное ложе, накрытый стол с кувшинами вина, чашами и серебряным ручным зеркалом. Свет проникал сквозь единственное высокое окно с зеленоватыми стеклами. Осмелев, я попытался заключить ее в объятия, но она спокойно отстранила меня, заявив, что сейчас предпочитает тихую беседу. Я возразил, что мы могли сколько угодно разговаривать в любом месте на Марсовом поле, но ласкать ее удобно именно здесь, впрочем, поскольку комната принадлежит ей, то ей и решать, как лучше ею воспользоваться. Здесь ей все хорошо знакомо и она должна знать, как себя вести.
Ей как будто понравились эти слова, которые, как мне казалось, должны были прозвучать холодно и саркастически. Она одобрила мое благоразумие. Она с первого же взгляда решила, что я разумный человек, и ее крайне удивляет, что я позволил затянуть себя в безнадежное предприятие. Она решила дать мне добрый совет и готова была для этого даже рискнуть своей репутацией. Но почему бы нам, между прочим, не выпить вина? Вдобавок комната принадлежала не ей. Комнату снимала ее близкая подруга, у которой ревнивый муж, в минуту откровенности та проговорилась о комнате. Во всяком случае, недурно иметь пристанище, где можно отдохнуть от скучных обязанностей, не рискуя, что тебя потревожат бесцеремонные посетители.
Мне становилось не по себе. Мы выпили. Я снова решил не предпринимать никаких попыток. Меня отталкивала эта женщина со своим жеманством и крупным пышным телом. Но мне хотелось выслушать, что она намерена мне сказать. Цедиция сидела или, вернее, полулежала на ложе, а я присел, поджав колени, на узкий табурет. Она старалась выпытать, насколько я посвящен в заговор. Я сделал вид, что даже не понимаю, о чем она говорит. И впрямь мне было очень мало известно, а ее вопросы меня возмущали. Меня интересовали ее отношения со Сцевином: он как будто не обсуждал никаких дел со своей женой, хотя вообще отличался болтливостью. Я стал подозревать, что она любит супруга, но не показывает этого ему (а может, и себе в этом не признается), и они уже давно идут каждый своим путем, причем у них нет ни времени, ни охоты беседовать по душам. Я почувствовал ревность к Сцевину и увидел, что оказался в глупой роли: женщина пригласила меня на свидание, чтобы пополнить пробелы в своем знании политики и сблизиться со своим мужем.
Однако Цедиция была слишком хитра и, возможно, слишком хорошо воспитана для откровенного допроса. Она выказала интерес к Бетике и стала расспрашивать о моих родителях. Разговор невольно увлек меня. Если бы не ощущение, что я попал в унизительное положение, он доставил бы мне удовольствие. Она была умная, сведущая женщина, и мне стало казаться, что я ей нравлюсь. Порой она как будто хотела внушить мне, чтобы я восстановил ее мужа против заговора и против Лукана, но я пропустил ее намеки мимо ушей. Она, конечно, знала, что я не могу повлиять на столь упрямого и безрассудного человека, как Сцевин. Я решительно не понимал этой женщины, и мне было неясно, какие мотивы руководят ею. Впрочем, то же самое можно было бы сказать обо всех моих римских знакомых, кроме, пожалуй, Марциала. Возможно, в ней говорила неудовлетворенная жажда власти, а вовсе не любовь, и ей хотелось играть роль в заговоре, от которого ее отстранял легкомысленный Сцевин, решив ни с кем не разделять опасность и учтиво держать жену на расстоянии. Какая тут любовь, просто обида на мужа. Заговор сам по себе, несомненно, не имел для нее значения. Она только досадовала, что Сцевин поглощен важным делом, от которого она отстранена. Во всех этих представителях высшего сословия Рима я чувствовал неимоверную холодность, раздражение и горечь, которые я не мог объяснить, как объяснял горечь Марциала. В этот момент я позабыл о преторианцах, в которых не почувствовал никакой жажды власти. Но они отнюдь не принадлежали к высшему обществу.
Хотя я продолжал испытывать унижение, эта сцена начинала мне нравиться. Я не был таким простаком, чтобы позволить этой властной и утонченной женщине обвести себя вокруг пальца. Ей ничего не удастся вытянуть из меня против моего желания. Меня даже забавляло, что она тратит столько искусства и уловок, меж тем как я так мало знал и не мог ей по-настоящему помочь. Теперь моей главной задачей было скрыть от нее незначительность своей особы. Пусть себе думает, что я гораздо ближе к Лукану, чем на самом деле. Что я, быть может, агент замешанных в заговор групп в Бетике и даже связан с такими высокими лицами, как Гальба в Испании и Оттон в Лузитании. Дело кончится тем, думалось мне, что я оставлю ее в дураках, как она задумала оставить меня.
Мы пили. Она выудила из меня рассказ про флейтистку. Как я и предполагал, Полла об этом знала. Один из рабов, подсматривавший у дверей, все рассказал служанкам. Полла наверняка ему за это платила. Сперва я отнекивался, потом признался и выложил все, как было. В сущности, этот эпизод ставил меня на одну доску с Луканом и ее мужем. К тому же, если она в самом деле любила Сцевина, рассказ должен был хоть немного ее огорчить. Мне становилось ясно, что она низведена с пьедестала и, подобно мне, испытывает унижение и уколы самолюбия.
Видимо, она тоже это почувствовала. Слушая меня с чуть смущенной улыбкой, она неожиданно плеснула в меня вином. У нее изменилось выражение лица, ее лукавый взгляд я принял за дружественный, пожалуй, в нем даже сквозила насмешка, переходившая в вызов. Струйки вина стекали у меня по подбородку за воротник рубашки, и я уже не мог выдерживать свою тщательно обдуманную роль равнодушного наблюдателя, который находит естественным беседовать о политике в комнате, предназначенной для прелюбодеяния. Сейчас она волновала меня. В небольшой нише я заметил бронзового сатира, подозрительно навалившегося на гермафродита, при виде его мое возбуждение усилилось. Мой срывающийся голос доставил ей удовольствие, и ома попросила еще вина. Она приметила, как дрожит моя рука.
— Я буду вести честную игру, — заявила она и плеснула вином себе на грудь, как это сделала за обедом у Лукана, соблазняя меня.
Теперь я понял: ей хочется, чтобы я ее обнял, она хотела этого с самого начала. Но я все еще испытывал обиду и колебался, опасаясь, что она вновь меня оттолкнет, и не желая, чтобы она мучила мужчину, которого выбрала с холодной расчетливостью. Поэтому я отстранился и ничего не ответил. Она продолжала Смотреть мне в глаза, во взгляде ее по-прежнему светилась насмешка, но к ней примешивалось что-то новею.
— Что ты хочешь еще узнать? — спросил я тоном человека, заканчивающего скучный деловой разговор — Цифры вывоза шерсти из Бетики прямо-таки внушительны.
Она тихонько рассмеялась.
— Я многое хочу знать. Например, почему ты так робок.
— Мужчине свойственно опасаться, — ответил я наставительно, стараясь поддержать свое достоинство. — Но, надеюсь, я не лишен мужества. И вероятно, докажу это в свое время.
— Ты не понял моего вопроса, — ответила она с тихим смешком. — Я вовсе не имела в виду разговоры шепотком на политические темы. Вероятно, все это рассеется, как погибают всякие несбыточные мечты. Я думала о чем-то более серьезном. Ты еще не решил, какую роль тебе играть в нашем мире. Я даже думаю, что тебя соблазняет эта игра Марка и моего мужа, ибо таким образом ты можешь выдвинуться.
— Я бедный провинциал, — перебил я ее.
— Марциал беднее тебя, однако он ненавидит всех, у кого власть и толстый кошелек. И твердо стоит на своей почве. Вот это, я понимаю, мужчина.
Я встал.
— К чему были все эти приготовления, матрона, если ты хотела оскорбить меня самым обычным путем? Ты говоришь, что я неполноценный мужчина и не способен дать надлежащий ответ, хоть я, пожалуй, тоже способен испытывать ненависть к тем, кто нагло угнетает слабых…
Она громко рассмеялась, прижав руку к груди.
— Милый мой Луций, как легко тебя расстроить. В самом деле, ты бедный провинциал, но ты можешь сразу разбогатеть, когда твой отец услужливо уйдет из жизни. Ты решительно ничего не понял из моих слов. Быть может, я устала от всех этих людей, таких самонадеянных и полных сознания своего мужского достоинства. Быть может, ты мне понравился именно потому, что робеешь и неуверен в себе. Или даже без всякой причины… Во всяком случае, тебе на пользу, что ты не такой, как люди, к которым я привыкла. — Она улыбнулась, исчезло насмешливое выражение, глаза ее смотрели спокойно и пытливо. Но я был настороже. — Сядь сюда ко мне. — Она подобрала свое платье, я повиновался, во не сделал попытки пододвинуться поближе. Она поднесла чашу к моим губам. Я выпил и внезапно ощутил прилив злобы и желания, потребность во что бы то ни стало поддержать свое достоинство. Швырнув пустую чашу на пол, я повернулся к ней, готовый заключить ее в объятия. К моему удивлению, она с гортанным смешком откинулась назад, увлекая меня за собой.
Спустя полчаса проворными, ловкими движениями поправляя прическу, она велела мне вылить остатки вина, потом зевнула.
— Мне хотелось быть той флейтисткой. Печатью великой клятвы. — Мне не понравилось ее замечание, но прежде, чем я успел ответить, она продолжала с улыбкой: — Научись осторожности, Луций. Не доверяй никому. Ни Марку, ни моему мужу. — Она снова насмешливо улыбнулась и добавила с вызовом: — Ни мне.
Я снова перестал ее понимать. Казалось, она хотела поколебать во мне уверенность, какую сама внушала. Она колебалась между желанием помочь мне своей любовью и больно меня ранить и погубить. Я решил проявить твердость. Иначе я потерплю крах и заслужу презрение.
— Быть может, я и сам отличаюсь вероломством, — сказал я как можно спокойнее.
Она не ответила, внимательно разглядывая себя в зеркале. И я не знал, ненавижу я ее или желаю так, как еще не желал ни одной женщины.
Она ушла первой, стараясь сохранить до конца двойной облик — нежной любовницы и загадочной жестокой женщины. Через некоторое время спустился и я. Сосибиан торговался с покупателем и едва мне кивнул. Феникса я застал играющим с мальчуганами в «отгадашки» в углу портика возле статуи полководца, о котором я никогда в жизни не слыхал. — Мы отправились домой. Было необходимо полностью выяснить, куда втянул меня Лукан. С каждой минутой возрастали мой гнев и тревога. Я так торопился, что побежал бы, если бы это не привлекло внимания. Сумерки сгущались. Запирали лавки. Шум становился глуше, народ сновал во всех направлениях. Но я был слишком поглощен своими мыслями, чтобы замечать, что делается вокруг, лишь на краткие мгновения все представлялось мне необычайно отчетливо, выпукло, как на барельефе, но без всякой глубины и фона. Лица казались жесткими и свирепыми, замкнутыми, тревожащими и мертвыми, как искусно сделанные маски. Вырезанные беспощадным резцом алчности или вылепленные обезображивающим пороком. Навязчивые образы внешнего мира всплывали безо всякой связи, даже не по контрасту с моим внутренним миром. Лицо Цедиции, то близкое и нежное, то чуждое и насмешливое, остро прожигало мне память. Теперь я понял, что не смогу разобраться ни в ней, ни в этом черством римском мире, пока не заставлю Лукана мне открыться. В переулке старуха развешивала зеленые ветки и фонарики над своей дверью. Ей лениво помогала молодая женщина с сосками, окрашенными в алый цвет, с распущенными волосами и розой в зубах. Она на мгновение остановила на мне взгляд своих черных глаз, непостижимо чуждый и отталкивающий. Над лавкой ремесленника низко нависла и поскрипывала сломанная вывеска. Я наткнулся бы на нее, если б Феникс не оттащил меня в сторону.
Возвратившись к себе, я осведомился, дома ли хозяин. Ночные сторожа с колокольцами уже вышли на службу, они охраняли дом от пожара и нападения грабителей. Я ожидал, что мне не ответят, но меня сразу провели к домоправителю, а тот проводил меня к Лукану, в его рабочую комнату — тесное помещение, заставленное шкафами с древними статуэтками и ящиками, где хранились готовые рассыпаться маски предков, тут же виднелись счеты, а на сломанном канделябре, украшенном сфинксами, висел свиток. Не успел я открыть рот, как Лукан обнял меня. Меня-то он и хотел видеть.
— Нам следует поговорить по душам, — заявил он, усаживая меня на хромоногий табурет.
Он не дал мне вставить слово, и это показалось мне подозрительным. Я невольно вспомнил совет Цедиции никому не доверять. Все же я выдавил из себя, что сам чрезвычайно хочу с ним поговорить.
— Я вовлечен в предприятие, о котором не имею ясного представления. — Он спокойно смотрел на меня, его широкое тяжелое лицо потеплело и стало ласковым. Даже слеза блеснула у него в глазах. Это сбило меня с толку. — Или только слабое представление, — неловко поправился я.
Он отвернулся и забарабанил пальцами по столу.
— Нелегко бывает после восторгов, вызванных общением с музой, вернувшись к действительности, отыскивать в жизни то, что мы прославляем в стихах. Быть может, нам недостает не мужества, а веры в свои слова.
Я почувствовал, что он хочет сделать решительный шаг в мою сторону с тем, чтобы окончательно меня подчинить, подчинить прежде всего себе, — заговор был на втором плане. И мне захотелось его успокоить, он всегда вызывал у меня такие чувства. Я огорчился за него. И молча слушал.
Он продолжал:
— Слова, несомненно, выражают все, что есть драгоценного в наших сердцах. Что мы за существа, Луций?
— На это должен ответить ты сам, — сказал я, все еще испытывая к нему жалость. — Я то, что ты сделал из меня.
Возможно, это была известная хитрость, я чувствовал, он будет говорить откровенно, лишь когда убедится, что я его последователь, безоглядно ему преданный. Я опасался, что он снова пустится в абстрактные рассуждения и не даст мне точных сведений, какие я жаждал получить.
Он снова сделал усилие и удержался от слез. Все это меня смущало, и я охотно нашел бы предлог, чтобы удалиться. В его вопросах звучала какая-то душевная истерзанность. Но он тут же справился со своей слабостью. Лукан боялся не оправдать моего высокого о нем мнения и лишиться моей преданности. Ему прежде всего нужно было чувствовать тепло и братскую связь с другими людьми, и я догадывался, что он вступил в заговор не из ненависти к тирану, а из потребности к близости с людьми, шедшими на риск ради возвышенной идеи. Видя, как ему трудно объясниться, каких мучительных усилий стоило ему открыть мне тайну, дабы привязать меня к себе и своему делу, я приходил в отчаяние, но он никак не мог высказаться. Быть может, я воспринимал все так болезненно потому, что пришел сразу после свидания с Цедицией, после борьбы двух воль и столкновения тел; и если тогда мне казалось, что я обрел точку опоры, то теперь это свидание пробуждало во мне жестокое сомнение и тревогу. Лукан, казалось, тоже поступал не-женски, пользуясь мной как ширмой, чтобы заслонить от себя острую тревогу и нестерпимые сомнения, все это он хотел мне передать, по существу ничего мне не открывая.
— Нам предстоит освободить Рим, — внезапно сказал он ровным ясным голосом. Он встал и прислонился к стене. Одна из старых масок оказалась рядом с его лицом, и я уловил родственные черты. На маске были трещины и щербинки, поэтому сходство проступало как бы сквозь мутную воду, и губы у нее кривились в презрительной призрачной гримасе. Я отвел глаза и стал смотреть в лицо Лукану. Но маска произвела на меня столь сильное впечатление, что теперь накладывала отпечаток на его черты. Мне казалось, что рассыпавшийся в прах в сумрачной усыпальнице предок говорит бледными устами живого человека. — Я знаю, что слово «свобода» имеет много значений. Для Пакония — это единение со вселенной. Для его вольноотпущенника — всего лишь право подобрать зубами монету из навозной кучи. Для нас свобода может означать только избавление от угнетающей нас тирании. Мы должны устранить тирана теми способами, какими устраняют тиранов.
Все это мне было известно, и все же его слова поразили меня. Мне хотелось зажать уши и выкрикнуть эти слова во весь голос. Все сказанное им казалось очевидным и необходимым, безумным и невозможным. Прятаться, делая вид, что ничего такого не было сказано, или говорить открыто лишь потому, что все слышали эти слова, все ждут этого момента. Вез сомнения, тиран должен умереть, кто же этого не хочет? Но почему до сих пор никто об этом не говорил? Я уставился на Лукана, ожидая, что его слова немедленно вызовут какие-то ужасные последствия. Как можно постигнуть наш мир, если самые здравые, убедительные слова звучат, как слова безумца, и леденят кровь? Я содрогнулся и, чтобы не упасть, схватился за первый подвернувшийся предмет — то был подсвечник? Свиток упал на пол. И я обнаружил, что гляжу не на Лукана, а на маску предка, дышащую неимоверной злобой и силой. Той силой, какой больше не встретишь в нашем сложном и выхолощенном мире. Эта сила превращала человека в таран, способный пробить брешь в любой стене, воздвигнутой обстоятельствами, побуждала его идти к цели без тени сомнения, верить в свое право с безмятежной свирепостью, право, осуществляемое отцами семейств далекого прошлого, которых оберегала добрая змея домашнего алтаря.
— А что придет на смену уничтоженному злу? — спросил я с поразившей меня самого настойчивостью. — В самом сердце вещей может оказаться пустота. — Говоря это, я вспоминал его стихи, в которых он уподоблял Нерона грузному центру равновесия вселенной, и теперь я удивлялся, что раньше не понимал злой насмешки, заключавшейся в его словах, что все мы в Кордубе воспринимали их как смелую и восторженную гиперболу.
— Править будет Сенат. — Лукан овладел собой и ничуть не походил на человека, смотревшего на меня с мольбой, глазами, полными слез. Он глядел куда-то поверх меня, и лицо его сияло отвагой. — Катон в конце концов одержит победу над Цезарем.
Признаюсь, идея замены Нерона Сенатом не вызвала во мне особого энтузиазма. Но волнение Лукана передалось и мне. Поспешно, ровным голосом он излагал свои планы. Нерона придется убить. Богатый и обаятельный сенатор Пизон, пользующийся широкой популярностью, будет провозглашен императором; он произведет реформы. Совершит нечто подобное тому, что предполагал сделать, но так и не осуществил Тиберий. Император и впредь будет руководить всеми государственными делами, но Сенат будет иметь право критиковать, вносить изменения и отклонять. Мне хотелось спросить, будет ли новая система разработана и опубликована как конституция, которой руководствовался бы как император, так и Сенат, и если это осуществится, то как обеспечить соблюдение конституции.
Но Лукан спешил высказаться.
— Мы зашли бы чересчур далеко, если б уже сейчас захотели сделать императора простым исполнителем воли Сената, хотя со временем именно так и будет. Сейчас важнее всего восстановить равновесие между Сенатом и монархом. Пизон поклялся, что осуществит это. Надежный человек, отнюдь не честолюбивый, сознающий свою ответственность перед государством.
Затем Лукан перешел к общим вопросам, которые мне не хотелось обсуждать, и заявил, что свободный Сенат возродит античный дух и покончит с засильем вульгарных, наглых выскочек, этих ублюдков, — вольноотпущенников из Сирии, Греции, Азии, лишенных присущего римлянам чувства достоинства и гражданской доблести. Это сохранит равновесие классов еще незыблемей, чем при Августе, восстановит силу закона, упразднит страх перед доносчиками и соглядатаями.
Местами программа расплывалась в туманных риторических фразах. Не все в ней мне нравилось. Ублюдков и выскочек он назвал уроженцами стран Востока, но каково было его мнение о новых людях с Запада, из Галлии или и в нашей Испании? Аннеи с их испанскими связями, пожалуй, считали бы, что на жителей Бетики не распространяется закон, направленный против пришлых людей, но большинство Сената было против предоставления прав гражданства выходцам как с Востока, так и с Запада. Не они ли и не их ли отцы ненавидели и высмеивали Клавдия за то, что он даровал жителям западных стран права римских граждан? Мне вспомнился широко известный памфлет, написанный после его смерти, где Клофона говорила, что охотно дала бы императору пожить еще часок-другой, чтобы он успел обратить в римских граждан полдюжину пришельцев, остававшихся еще без тоги; Клавдий будто бы задался целью облачить в тоги весь мир — греков, галлов, испанцев и даже бриттов. Правда, моей семье ничто не грозило. Мы происходили из италийского рода и до сих пор сохраняли связи с Аквилеей, откуда наши предки выехали сто лет назад. Однако мы уже глубоко пустили корни в Испании, и, естественно, мне не нравилась и казалась неосновательной кампания против финансистов сомнительного происхождения и неразборчивых в средствах, грязных торговцев, вольноотпущенников и чиновников-рабов на императорской гражданской службе, продавцов реликвий, ритуальных кастраторов, служителей, ударяющих в гонг, и прочих святош из Фригии и Сирии. Стоило начать такую кампанию, как она вызвала бы целый ряд побочных последствий и в конечном итоге — я был в этом убежден — в выигрыше оказались бы крупные землевладельцы и богачи, заседающие в Сенате.
Все это меня встревожило. В голосе Лукана звучала ненависть, когда он говорил о толпе пришельцев, именующих себя римлянами и позорящих Рим своей алчностью и пороками. Я разделял его чувства, но они меня пугали. Однако по мере того, как он развивал свои мысли, мои сомнения и беспокойство все ослабевали. В заговоре участвовало немало известных людей. Он пользовался гораздо большей поддержкой, чем я предполагал. Возможно, указанный Луканом путь был единственным, каким еще можно было спасти хоть каплю свободы в мире, нуждавшемся в централизованной власти, подобной той, какую установил в свое время Август. Имя Калпурния Пизона мало что мне говорило, но я знал, что он принадлежит к кругам, отличным от окружения Сцевина и Афрания. Я начинал верить, что новая система в известной мере воскресит добродетели республиканского периода, возродит дух Кальва, Целия, Катулла и молодых смелых ораторов, бичевавших продажность. Я встал и взял Лукана за руки.
— Я знал, что ты всем сердцем будешь с нами! — воскликнул он. — Я предчувствовал это с первого дня. Как будто мой родной город послал мне тебя в тяжелый час. Мы добьемся успеха, и мир будет нас благословлять.
Мы покинули его заставленный вещами кабинет и прошли в Коринфскую комнату. Лукан потребовал вина, и к нам присоединилась непривычно покорная Полла. Она была в скромном одеянии из плотной шерстяной ткани. Кольцо с крупным аметистом — все, что она себе позволила. Лукан весело и непринужденно рассказывал о некой литературной даме — Сабинии, которая за обедом рассуждала об этимологии, но все, что она вычитывала из книг, через час уже забывала.
— За нее пишет поэмы её домашний философ из Апамеи, присматривающий за ее комнатными собачками. Вот почему она пренебрегает латынью и пишет свои опусы на греческом. Однажды ее любимая сучка ощенилась на плаще философа, и он потребовал прибавки жалованья.
— Так говорится в эпиграмме, написанной его врагом Феодотом, — заметила Полла. — Вероятно, все это вымыслы.
Лукана задело ее мягкое возражение.
— Если рассуждать таким образом, можно зачеркнуть всю историю.
— Если история интересуется только суками и их потомством, — сказала мне Полла мягким тоном, к какому прибегает женщина, когда хочет втянуть третье лицо в свой спор с мужем. Я промолчал. Она повернулась к Лукану. — Быть может, ты прав.
— Я ничего такого не говорил.
— Но ведь он это сказал, не правда ли? — спросила она меня с невинным изумлением.
Мне надо было решить, кому из них досадить. Я запнулся, потом ответил:
— Ты слишком искусная спорщица, чтобы быть щепетильной.
Она бросила на меня сердитый взгляд, встала и вышла.
— Ты будешь завтра на чтении? — после краткой паузы спросил Лукан. Я видел, он нахмурился.
VIII. Луций Анней Сенека
— Да, ветер дул с юго-запада, и созвездие Аргонавтов взошло накануне ночью, день был ясный и ветреный, пронизанный лучами и испещренный пятнами теней, — диктовал он Фебу, глядя на курчавый золотисто-рыжий затылок своего секретаря, замечая, как тот закусывает губу, когда его торопят, следя за его крепкими быстрыми пальцами. Тут он вздохнул, и юноша поднял голову. — Я ничего не сказал, продолжай писать. На чем мы остановились? Да. Если ты проезжаешь через Литерн, сверни у четырнадцатого дородного столба. Проселок песчаный, поэтому езда тут медленная и докучная, если ты в коляске. Если же ты способен ехать верхом, то путь покажется тебе приятным и коротким. Когда ты свернешь с большой дороги, перед тобой развернутся пленительные виды. Я наслаждаюсь ими всякий раз, как проезжаю по этим местам. Кое-где густой лес подступает к дороге, потом деревья отдаляются, уступая место широким лугам, где пасутся овцы и коровы, спустившиеся с гор на зимние месяцы. — Он закашлялся. — Пока достаточно.
Он заметил, что Феб оторвался от рукописи, радуясь, что его отпускают и можно погулять на солнце и послушать пение птиц, и снова почувствовал, как годы подточили его силы и ему все труднее поверить, что и он был когда-то таким же юным и сильным и мысли его устремлялись, как птицы на простор, и он зорко, весело искал где ягоду, где цветок, каплю росы или взметнувшийся кверху стебелек травы. Юноша вышел, и Сенека закрыл глаза. Даже сейчас он не мог остановиться и продолжал составлять фразы, словно все еще диктовал, хотя и знал, что потом ему уже не вспомнить своих мыслей и позабытые фразы будут смутно его раздражать и казаться куда лучше обдуманных выражений продиктованного письма. «Я только что возвратился с прогулки в носилках и устал так, будто меня не несли, а я всю дорогу шел пешком. Я все еще ощущаю покачивание носилок, слегка кружится голова, и мир колеблется вокруг меня, словно расшаталось основание всех вещей, ослабело напряжение сил и больше нет под ногами твердой земли, все предметы уплывают, без внутреннего импульса или воздействия высшего образа, обнаруживая свою преходящую натуру; их края и очертания расплываются в туманном радужном свете, и моя старость становится старостью всех вещей, все они истончаются, становятся прозрачными, и исчезает разница между землей, воздухом и водой благодаря возрастающей власти огня в заключительных фазах великого года, в цикле космического движения. В моем состоянии даже лежать некоторое время на движущихся носилках — уже тяжкий труд, тем более что подобное передвижение носит неестественный характер, ибо природа дала нам для этого ноги; итак, я сознаю свою слабость, вызванную старостью, и вместе с тем она является отражением слабости, овладевшей ныне всеми, даже молодыми людьми, эта слабость порождена роскошью, и мы неспособны делать то, что уже давно отказались делать, полагаясь на мышцы и мозги других людей, получая и воспринимая все из вторых рук и тем самым создавая себе иллюзию свободы и расширения диапазона чувств».
Его иссохшая рука непроизвольно двигалась, перебирая бахрому одеяла. Комната выходила прямо в сад, небольшой, закрытый со всех сторон, где стояла статуя философа Зенона. На плечо Зенона опустился черный дрозд и начал поднимать и опускать хвост, как бы стараясь обрести равновесие. На ветру с дерева осыпались бледно-розовые цветы, падая на мраморную стену. Сенека мысленно продолжал свой рассказ, теперь обращаясь к самому себе, словно все его послания были попыткой убедить себя в том, что пережитое им укладывалось в приемлемые каноны.
«Все же врачи нашли нужным дать моему телу встряску, дабы растворилась желчь, скопившаяся у меня в пищеводе, или же, если б мое дыхание стало чересчур затрудненным, его облегчила бы эта благотворная для меня тряска; печальное положение дел, когда прибегают к воздействию извне, дабы восстановить хотя бы до известной степени естественное равновесие сил, которое должна была бы осуществить саморегулирующая система, жизненный центр человека. Поэтому я приказал, чтобы меня носили дольше, чем обычно, вдоль чудесной отмели, простирающейся между Кумами и виллой Сервилия Ватии, ограниченной морем с одной стороны и озером с другой; это всего лишь узкая полоса земли, обретшая плотность из-за недавней бури, захлестнувшей ее волнами, ибо, как известно, волны уплотняют и укрепляют отмель, выравнивая ее, а после длительного периода хорошей погоды земля крошится, дает трещины, высыхает связующая ее влага, и она становится рыхлой и слабой, как мое тело к старости, когда меня посещают печальные видения утрат; ведь еще в дни молодости я уже стал в известном смысле стариком, посвятив себя философии и финансовым делам. Я надеялся направить мир по пути добродетели, оказав влияние на правителей, и даже не подозревал, что в жилах моих бурлит молодость, та самая молодость, видения которой преследуют меня, как единственная ценность на свете, сейчас, когда жизнь в своем истонченном и зыбком аспекте истекает из моего тела и терзает мой дух, более ясный и здравый чем когда-либо, но уже лишенный действенной силы из-за чувства утраты, от которого вещи становятся пустыми и призрачными ирастворяются в свете, как в прозрачности океана, становясь столь же абстрактными, как числа, однако без их четкой лаконичности и непреложности; числа обретают бесконечность, а затем вновь оплотняются, подобно изморози, сливаясь с преходящими формами вещей, скрывая свою ветхость и неустойчивость и вновь тяготея к изначальной единице — подобно тому как мы теперь отвергаем понятие о непрерывной поверхности тела и мыслим ее себе как бесконечное множество линий, из которых слагается поверхность вписанных и описывающих фигур, сливающихся в данную фигуру и определяющих ее как динамическое целое».
Мысли его путались, и он уже не был уверен, имеют ли его жалобы на неустойчивость всех вещей прямое отношение к бесконечности, которую он стремился обосновать.
«В природе не существует какого-либо крайнего тела, — повторил он про себя, рисуя очертания листа на ладони левой руки указательным пальцем правой, — не существует ни первого, ни последнего, ничто не может ограничить размеры тела, но всегда возникает нечто, находящееся вне данного тела, которое ввергается в бесконечность и безграничность. В данный момент надо позвать домоправителя и казначея, чтобы узнать, как обстоит дело с моими капиталами, вложенными в Александрии и в Эфесе».
«Однако на отмели, болезненно напоминавшей мне об утраченной молодости, я стал осматриваться по сторонам, надеясь увидеть что-либо, что может мне пригодиться, и при всей своей мимолетности и иллюзорности послужить точкой опоры в вечном приливе и отливе, сопутствующем моим поискам гармонии и сознанию, что время существует только в явлениях природы, — и вот взгляд мой упал на виллу, некогда принадлежавшую Ватии, и мне подумалось, что в этом месте знаменитый богач-преторианец провел свои последние дни, знаменитый лишь тем, что прожил жизнь, пользуясь неограниченным досугом, и потому почитавшийся счастливым; своим отсутствием он постоянно напоминал о себе тем, кто неспособен был обуздать жажду власти и кого погубила дружба с чересчур откровенным Азинием Поллионом, умершим голодной смертью в темнице, или вражда с Сеяном, или же, после его падения, близость с ним, и так далее, ибо несчастна и возмездия, заслуженные и незаслуженные, без конца сыплются на головы людей, чересчур приближающихся к источнику императорской власти, Ведь, когда стряслись все эти беды, народ постоянно восклицал: „Ватия, ты один умел жить!“ Однако он умел не жить, а только прятаться, и между жизнью на досуге и ленивой жизнью целая бездна, поэтому при его жизни, проезжая мимо виллы, я всякий раз говорил себе: „Здесь покоится Ватия“. Все же философия, которая учит нас отрешаться от жизни, — святое дело, достойное всякого почитания, и, даже грубая подделка этого учения обманывает людей и вызывает их восхищение. Ибо большинство людей считают, что человек, удалившись от общества, обладает неограниченным досугом, свободен от забот, доволен собой и живет только для себя, на деле же эти высокие качества не так-то легко обрести, их надо завоевать на тяжкой стезе познания, ибо человек, находящийся во власти забот и опасений, не знает, как жить для себя в одиночестве, и про него нельзя сказать, что он вообще умеет жить; человек, бежавший от дел и от собратий, обреченный на одиночество в результате несчастий, которые он сам навлек на себя необузданными желаниями, который не может равнодушно видеть богатство и удачи соседа, которого страх загнал в логово, как напуганного ленивого зверя, такой человек живет не для себя, но для своего брюха, для удовлетворения потребности во сне, для насыщения своей похоти, самой постыдной вещи на свете, да, человек, который ни для кого не живет, естественно, не живет и для себя, ведь он — никто, всего лишь скопище разрозненных импульсов и потребностей, он лишен той целостности, какую дает одна мудрость, хотя я готов допустить, что есть заслуга к том, чтобы неуклонно идти к своей цели, и инертность, если ее непрестанно придерживаться, может снискать уважение».
Все эти фразы он бормотал скороговоркой, чтобы заглушить другой поток слов. Он совсем выдохся и задремал, ибо мучительно трудно было придерживаться определенного направления мысли в жажде обрести опору в этом ошеломляющем мире стремительных изменений.
Найти вечно ускользающий, динамически рожденный образ, абсолютный образец, источник первичной силы. С каждым днем это становилось труднее. Повторять и осознавать основные истины: человек состоит не из большего числа частиц, чем его палец, и космос — не из большего числа частиц, чем человек, ибо деление тел происходит бесконечно, и среди бесконечностей не существует большей или меньшей, и вообще ни одно количество не превосходит другое, и частицы ущербленного тела не перестают расщепляться и пополняют собою целое. И все же, зная об этом, он боролся со сном, видя в нем образ смерти, замаскированной сменой сновидений, роем образов, внушенных ужасной сумятицей жизни, контролируемой разумом, обнаруживающей бессмысленное чередование, которое он пытался силой обратить в осмысленные периоды, связанные между собой и приводящие к логическому заключению. «Я нуждаюсь в сне и боюсь спать. Нельзя обрести решение в мире, где мы нуждаемся в том, чего боимся, и боимся того, в чем нуждаемся».
— Позвать Титира, — приказал он, желая положить конец этим предательским мыслям, опровергавшим его убеждения. Он ждал. Нет надобности повторять приказание. Через минуту-другую Титир уже стоял перед ним, стройный, румяный и смуглый, со склоненной головой, слишком блестящими глазами и чересчур красными губами.
— Не работай так усердно, Не имеет значения, сколь-, ко времени займет переписка. Мне кажется, пребывание под египетским солнцем пошло тебе на пользу.
— Так оно и есть, господин, — хриплым голосом ответил раб.
— Болезнь вспыхнет снова, если ты останешься здесь. Ты не плевал кровью на этой неделе? Мне сказали, что Форум Юлия в южной Галлии хорошее место для тех, кто страдает от изнурительной грудной болезни, Там отличное молоко. Я надумал послать тебя туда.
— Ты слишком добр, о господин. Я не хочу покидать тебя. Позволь мне остаться.
— Нет, поезжай в Форум Юлия на год или на два. Береги себя, и, может быть, ты сможешь вернуться раньше.
Титир упал на колени и поцеловал исхудалую руку Сенеки.
— Ты слишком добр. Чем я заслужил такое отношение?
— Поднимись, мой друг. Никогда не становись на колени перед смертным. И разве я не могу спросить: «Почему мне дано оказать тебе такую помощь?»
Титир встал, щеки его пылали. Сенека посмотрел на него.
— Теперь садись за работу и не волнуйся, мой друг.
Вероятно, он снова задремал, хотя и не сознавал этого. Он не заметил, как исчезло лицо Титира, смотревшего на него с благоговением, в котором сквозил какой-то лихорадочный страх, и перед ним очутилось спокойное лицо Паулины, круглое и теплое, с едва проступающим тусклым румянцем, как у слегка увядшего яблока, отражавшее сдержанную заботу.
— Ты отдохнул? — спросила она и тут же продолжала: — Тебе не следовало так утомляться.
— Я должен подгонять свое тело, иначе оно станет подгонять меня.
Она промолчала. Лицо ее дышало невозмутимым бесстрастием, как лицо богини, она казалась разумной и ничего не понимающей, отчужденной и полной сострадания. После небольшой паузы она спросила:
— Хочешь, я тебе почитаю?
— Благодарю, не надо. У меня нет должной собранности в мыслях. Я не могу отдыхать, пока не разрешу вопросы, которые меня расстраивают. Пришли ко мне, пожалуйста, Максима и Лигдама.
Она постояла, наблюдая за ним, словно занятая соображениями, как будто не относящимися к нему и его состоянию; в своей спокойной неподвижности она походила на статую, случайно обратившуюся в богиню, или же на богиню, превратившуюся в статую, со спокойным, несмыкающимся взором, вечно его сторожащую. Но он тревожно задвигался, глядя на ее широкую грудь и красивый изгиб мягких губ, вдыхая ароматное дыхание еще не миновавшей юности, впитывая живые соки здоровой и крепкой плоти и еще сильнее ощущая дряблую сухость своего тела, как бы растворенного в колыхающихся водах. Затем она ушла, и на ее месте уже стояли те двое.
Он приподнялся и заговорил четко и быстро.
— Мне сегодня нездоровится. Я слишком долго прогуливался в носилках. Поэтому я не стану подробно обсуждать дела, но дам, как обещал, указания по поводу займа, предоставленного ликийским городам.
— Да, господин, — ответил домоправитель Максим, низкорослый, коренастый, с коротко подстриженными темными волосами и ничего не выражавшим взглядом. Казначей Лигдам, человек с широким шишковатом лбом, тонким горбатым носом и затрудненным дыханием, взял в руки табличку и стило.
— Мы потребуем уплаты займов и залогов, — начал Сенека ровным голосом. — По всей строгости закона. В подобных случаях следует принимать в соображение лишь текст договора. Мир держится именно на такого рода соглашениях. Это незримые нервы и мускулы общества. Поэтому я должен заставить эти города выполнять свои обязательства и поступать соответственно. Я навел справки и знаю, что они не обременены никакими чрезвычайными обстоятельствами. Одна лишь небрежность и неумение вести дела. Я сожалею, что приходится прибегать к таким мерам, но деньги при всех их пороках и недостатках все же единственный надежный фактор в нашем хаотическом мире. Если и деньги потерпят крах, то воцарится анархия.
— Да, господин, — подтвердил Максим.
Лигдам, приоткрыв рот, быстро записал. Его большие темные печальные глаза на мгновение остановились на Сенеке, и он снова опустил взгляд на табличку.
— Можете идти, — сказал Сенека, откидываясь на подушку. — Завтра мы подробнее займемся отчетами из Кирены и Камулодуна.
С минуту он колебался, не позвать ли снова секретаря. Но было куда приятнее, хотя и утомительно, по-прежнему писать в уме. «Я знаю только снаружи виллу Ватии, могу описать лишь то, что предстает взору прохожего. Но могу вам рассказать, что там два грота, на устройство которых затрачено немало труда; они не уступают по величине самому просторному атрию, и в первый не проникает ни одного луча, второй же залит солнцем весь день от восхода до заката. Вспоминаю также поток, протекающий через пальмовую рощу, он вливается и в море и в озеро Ахеронт, вечный поток, питающийся водами океана и преисподней, он проносится по моему лицу, заливает его, и оно растворяется в зыбучих песках и в беспокойных узорах морских водорослей, потом он рассекает рощу, стремительный, как вода, падающая через плотину, что бурлит и кружится в водоворотах, врываясь в тесный канал; эта шумная жизнь истекает из полноты бытия и, будучи ее частью, вновь в нее возвращается. Поток достаточно велик, и там может жить рыба, хотя вода непрестанно из него уносится. Эту рыбу ловят, лишь когда буря принуждает рыбаков сидеть дома; в тихую же погоду, Паулина, предоставляют рыбе скользить и петлять в извилистом русле. И хотя Байи совсем близко, это место обладает немалыми преимуществами перед гнусными купаниями, его овевает благотворный западный ветер, не достигающий Байи».
Внезапно он почувствовал, что ему невыносим этот дремотный отдых. Он поболтал ногами и окликнул слугу. Мальчик-раб тотчас принес сандалии и обул своего господина. Сенека тяжело оперся на его плечо и выпрямился. Он направился в правую сторону по дорожке, чувствуя себя куда свежее и лучше, чем мог ожидать. Он взбодрился. Что делается в Риме? Вот уже три дня нет известий. Было условлено, что Наталис будет держать его в курсе всех перемен, любого происшествия. Ненадежный человек, хотя и неглупый. Когда придет время, посмотрим, чья помощь окажется нужнее, Сенеки или Пизона. Он почувствовал легкость и прилив сил. Почему бы ему не прожить еще двадцать лет, философ наконец станет императором, свершится то, к чему всегда стремилась история и что до сих пор еще не осуществлялось. Он утвердится на надежной скале, и пусть себе несутся мимо темные безжалостные воды.
Он проходил мимо крыла, требовавшего починки. Но ее отложили, чтобы он мог спокойно пожить несколько недель, пока не переедет поближе к Риму, а может быть, и в самый Рим. Оказалось, что дом требует куда больше переделок, чем он предполагал. Управляющий обещал сделать все, что только возможно, но дом очень старый. Старый? Как может он быть старым, размышлял Сенека, если он строил и надстраивал его своими руками? Что же происходит с моим телом, если камни одного с ним возраста уже рассыпаются? Сенека подошел к управляющему, который разглядывал группу платанов, поглаживая тройной подбородок.
— Вот доказательства твоей небрежности, — резко сказал Сенека. — Посмотри на эти деревья. На них нет листьев, ветви у них искривленные и совсем высохли, стволы растрескались и обросли мохом. Ты знаешь не хуже меня, что, если бы их окапывали и поливали, они не были бы в таком жалком состоянии. Им нужна вода, вода!
— Клянусь твоим гением, — хрипло ответил Евпор, — я сделал все, что только возможно. Я не жалел усилий, господин. Но эти деревья очень старые.
Сенека нахмурился.
— Я их сам посадил. Я видел, как они в первый раз зазеленели. — Овладев собой, он огляделся. Позади него долговязый седой раб налегал на заступ, высунув язык и тяжело дыша. — Ты говоришь, деревья старые? Единственное, в чем они нуждаются, — это влага. — Он указал на копавшего землю беззубого старика с мутными глазами и редкими спутанными волосами. — Что это за идиот?
— Он обычно сторожит ворота, господин, — ответил Евпор. — Но сейчас у меня не хватает людей для работы в саду.
— Ему больше подходит стоять у ворот. По всему видно, что он не жилец на свете. Где ты его откопал? Неужели тебе приятно будет его хоронить?
Раб медленно подошел к Сенеке и без всякого смущения кивнул ему.
— Это ты обо мне говорил так участливо, господин? Разве ты меня не узнаешь? Я Фелицион. Когда-то ты приносил мне глиняных куколок. Мой отец был Филозит, домоправитель, а я был твоим любимцем.
Сенека отшатнулся.
— Старик сошел с ума, — пробормотал он. — Он впал в детство. У него вывалились зубы.
— Да, господин, — Фелицион кивнул головой. — Это я, — проговорил он, брызгая слюной, и в его голосе звучала благодарность.
Сенека повернулся и направился к дому. Он все еще чувствовал бодрость, но без радости.
IX. Луций Кассий Фирм
Я проснулся на заре после крепкого сна. И сразу же вспомнил, что мне так и не удалось выведать у Лукана подробности заговора. Я не представлял себе, как и когда будет убит Нерон. И может быть, из-за этого вся затея в утреннем свете выглядела нелепой, фантастической, неисполнимой. Потом передо мной возникло лицо Цедиции, ласковое и насмешливое, и я услыхал ее слова: «Не верь никому и береги себя». Временами у меня вызывали восторг стихи из «Фарсалии», в которых звучали далекие голоса сибилл, и мне виделись грозные багровые тучи, проносившиеся над Римом. От Феникса я узнал, что флейтистке Олимпии накануне даровали волю, и это показалось мне хорошим поступком, добрым предзнаменованием. Прогуливаясь после завтрака в саду, я встретил Герму. Она вспыхнула и хотела ускользнуть. Я поймал ее за руку и взял за подбородок. Я обиделся, увидев в ее глазах испуг.
— Чего ты боишься?
Она еще гуще покраснела и убежала.
Я пошел было за ней, но вспомнил, что не договорился с Цедицией о следующем свидании. Как мне снова с ней встретиться? Не рассердится ли она на письмо? Я опасался сделать какую-нибудь неловкость и заслужить репутацию наивного провинциала.
Мне прислали приглашение на вечер Помпулла, который должен был читать свои стихи в доме Гая Калпурния Пизона. Тот построил большую аудиторию для своих любимых поэтов, и мне хотелось посмотреть как этот зал, так и самого Пизона. Но Лукан не желал смешиваться с толпой ранних гостей, поэтому мы еще долго оставались дома. Он разбирал строку из седьмой книги «Анналов» Энния: «Тогда бешено ринулись вперед четвероногие всадники». Следовало читать именно так, настаивал он, ссылаясь на обнаруженный им старинный список. Я слушал его вполуха.
Мы прибыли с небольшим опозданием и все же рано. Нам предназначались места в первом ряду, где стояли кресла; я понимал, что очутился на этом вечере да еще на почётном месте лишь как приближенный Лукана. Он поморщился и шепнул мне, что из первого ряда труднее незаметно ускользнуть, но уселся в свое кресла с важным видом. Все должны были заметить его появление. Перед нами возвышался помост, на котором перед занавесом из красной ткани стоял стол и резной табурет. На стенах были изображены Аполлон и музы; говорили, что художник придал Галии черты жены Пизона, Аполлону — сходство с хозяином, а Марсию, с которого сдирали кожу, — черты поэта, оскорбившего Пизона. На лепном потолке сверкали золотые гирлянды цветов и звезды. Слуги раздавали на память программы.
Складки занавеса в глубине помоста слегка зашевелились, и мы догадались, что из-за них выглядывает поэт. Приглашенные непринужденно болтали, но громче всего раздавались возгласы в задних рядах, где молодые люди перебрасывались остротами на счет Помпулла.
— Хорошо, когда он читает в каком-нибудь зале по соседству с Форумом, — говорил кто-то позади нас. — Тогда можно болтаться неподалеку и посылать раба справляться, появился ли автор, прочел ли вступление, кончил ли поэму…
— Жаль, что с нами нет Гемина, — бросил другой. — Вы знаете, какая у него великолепная память. Когда Авгурин читал свою «Мирру», Гемин встал и заявил, что эта поэма написана им. Чтобы уличить Авгурина в плагиате, он стал декламировать наизусть, пока мы не заставили его замолчать. Подумать только, нам пришлось выслушать этот напыщенный вздор дважды за один вечер! Между тем он никогда не слышал о «Мирре» и не читал ее, но запомнил во время чтения.
Наконец Помпулл, решив, что в зале уже достаточно публики, появился из-за занавеса, сделай несколько быстрых шагов, потом пошел медленно. Его черные волосы лоснились от масла, а на пальцах сверкали перстни. Он начал со льстивых строк, адресованных Риму как мировому центру изящной словесности, а потом аудитории как избранной в этом городе. Затем он разразился эклогами.
Поведай, почему так пламенеет солнце,
И вздохи ручейка столь сладостно звенят,
И древний Океан, ласкаемый зефиром,
Исполнен негою, вздымает плавно грудь
[125].
Мы наперед знали ответы на сотни вопросов, которые задавал пастушок. Нерон цел, аккомпанируя себе на лире, и бедная Природа из кожи лезла, стараясь быть ему созвучной. Еще несколько недель назад я слушал бы серьезно, полагая, что стихи, пусть гиперболичны, но в остальном приятны. Мое внимание было бы поглощено техникой стихосложения, я оценивал бы, в какой мере Придворному поэту удалось воплотить свои замыслы. Но сейчас эклоги казались мне смешными и проникнутыми низкопоклонством. Я перестал слушать и отдался грезам наяву, представляя себе, как мои еще не написанные стихи осеняют смутные лучи славы.
Лукан задел меня локтем, потянувшись за табличкой, переданной ему сенатором, державшим в руке лупу из изумруда. Лукан взломал печать, прочитал, ваял стило и тщательно стер все написанное плоским концом. И нервно забарабанил пальцами по ручке кресла. Я искал его взгляд, но он упорно смотрел в другую сторону. Все же мне удалось мельком увидеть его лицо, повернутое на три четверти, оно было суровым и напряженным, взгляд его блуждал. Гости в первых рядах щурились, чистили себе уши, ерзали в креслах, усаживаясь поудобнее, прикрывали глаза рукой, чтобы подремать, делая вид, что сосредоточенно слушают. На задних скамьях переговаривались, даже не понижая голоса. В какой-то момент занавес немного раздвинулся, и я заметил в просвете жену поэта, она стояла, скрестив руки на животе, дородная, краснощекая женщина с роскошными темно-каштановыми локонами.
Меня все больше тревожила табличка, расстроившая Лукана. Эклоги заняли больше часа. Пастухи совершали возлияния козьим молоком гению Императора и были вознаграждены невиданными удоями. Любовники прерывали свои лобзанья, чтобы посвятить минуту блаженства Господину Всех Радостей. Приан был изображен почтенным патриотом, поскольку утехи, каким предаются в садах, способствуют росту населения империи и могут дать множество здоровых рекрутов для легионов. Даже коза, помнится, произнесла утонченную речь, предлагая посылать лучшие сыры Нерону; обладающему самым тонким вкусом на свете. Но все же местами встречались и хорошие стихи, особенно строки, где говорилось о ветре, раскачивающем вершины сосен, там было передано шуршание хвои и тончайшие оттенки изменчивого вечернего освещения, хотя, вспоминая, я, быть может, и преувеличивал их достоинства.
Мне никак не удавалось надолго сосредоточиться, мысли мои блуждали, я забывал о Помпулле и о Лукане, пытаясь вспомнить что-то важное, ускользавшее от меня всякий раз, как я возвращался к действительности. Сидевший неподалеку от меня жеманный юнец взмахивая рукой в такт метру. По временам возникал образ Цедиции, заслоняя все остальное. Как любовница она не представляла ничего особенного: не обнаруживала особого пыла, чуть не засыпала в объятиях, словно погружалась в теплую расслабляющую ванну. Ее подстрекал нежный аромат арабских духов, и она как губка только впитывала наслаждение. Раз-другой я пытался растормошить ее жадными поцелуями или ритмом страсти, она же оставалась лежать в расслабленной дремоте. Но теперь я понимал, что она отдавалась мне более полно, чем какая-либо другая женщина, и напрасно я огорчался, что не сумел ее разбудить. Сейчас я желал ее, как еще никогда не желал другой женщины. Я предчувствовал, что, когда мы встретимся в следующий раз, я испытаю, подобно ей, всепоглощающее наслаждение, при котором сон становится каким-то потоком музыки, то нарастающим, то затихающим в извечном стремительном беге. Я вспомнил, что у нее небольшой шрам на левом бедре, и возмутился: какой же я разиня, что не поцеловал его! Как это я отпустил Цедицию, не увидав ее нагой спины, которую я сейчас представлял себе в причудливой игре теней и света. Отпустил, не покрыв ее поцелуями сверху донизу! Меня терзали горькие сожаления. В ее теле заключалась безопасность, единственная возможная теперь безопасность.
Поэт вновь привлек мое внимание в момент, когда он ударился в эпиллий[126], посвященный Икару. В его словах чудился тайный смысл, отнюдь не вложенный в них. Быть может, ему смутно хотелось в символической форме изобразить крушение всех чересчур честолюбивых мечтаний. Он прочитал такие строки:
Нам сокровенных тайн природы не постигнуть,
Нам не дано стоять в огне, взойти на небо.
И далее:
Нам не дано парить подобно птицам, тщетно
Стремиться нам взлететь на крыльях выше солнца.
Подделать не дано нам дерзкою рукою
Цветок, дитя весны, расцветший ранним утром,
И возмутятся все стихии мирозданья,
Узрев поддельный блеск фальшивых наших молний
[127].
Мне казалось, будто он проповедует против заговора, осуждая попытки ничтожных смертных соперничать с высшей силой. И все же, говорил я себе, Нерон не солнце и не бог. Он тоже смертен. Он обезумел, оказался в нестерпимом положении. Икар — это он, а не я. Тем временем напряжение росло. В переполненной и перегретой зале сделалось так жарко, что у меня со лба струйками стекал пот. У меня не хватало силы поднять руку и отереть лоб. Лукан поник в своем кресле, мертвенно-бледный, с опущенной головой.
Наконец Икар погрузился в пучину, и в патетических нотах декламации нам послышался громкий всплеск. Плеяды загоревали, поэт принялся разводить мораль. Затем он сделал паузу и, медленно прочитав последнюю строку:
…И слезы солнца стыли в вышине,
остановился опустошенный, обессиленный, словно его поддерживал лишь звук собственного голоса и он страшился иронического молчания. Но вот раздались рукоплескания, и он воспрянул, засиял, стал кланяться и поворачиваться к занавесу, словно хотел удостовериться, что жена все слышит. Избранники в креслах аплодировали прохладно, задние скамьи почти опустели, но клакёры в самых последних рядах усердно зарабатывали свое вознаграждение.
Лукан встал, меж тем как все вокруг нас только собирались подняться и поправляли складки на тоге. Он приветствовал Помпулла, и голос его, вначале пронзительный, под конец совсем упал:
Он о паденье поет, мыслью высоко взмывая.
Гибель Икара мы зрим в окрыленных стихах
[128].
Вряд ли это двустишие он сочинил дома. Он говорил мне, что не имеет представления, о чем будет читать Помпулл. Вероятно, он сочинил его во время скучной декламации, несмотря на одолевавшие его заботы, и не упустил случая публично прочитать свой экспромт.
Помпулл был в восторге. Он всплеснул руками.
— Я не даром жил на свете. Твоя эпиграмма сохранит мое имя, когда мой Икар канет в пучину времен.
Он огляделся, удостоверясь, что его комплимент слышали и будут повторять, и вместе с тем опасаясь, что двустишие Лукана стяжает больше похвал, чем тысячи его строк. Потом мне пришло в голову: может быть, Лукан сочинил и прочитал это двустишие, чтобы создалось впечатление, что он всецело занят вопросами литературы, и желая сгладить впечатление от тревоги, какую невольно обнаружил, получив табличку сенатора. Гости со всех сторон обступили Помпулла, всем хотелось что-нибудь сказать, вознаградив себя за длительное молчание. Потом, выложив запас тщательно отчеканенных похвал, они принялись болтать и сплетничать.
— Ты видел Фабия? Это его первое появление в обществе после смерти жены, между нами говоря, четвертой. Его следовало бы свести с Клестиллой — она только что спровадила на погребальный костер своего пятого мужа.
Афраний издевался над матроной, заплатившей бешеные деньги за лиру, выброшенную прославленным кифаристом.
— Вы слыхали про Лелию? Она переоделась мальчиком и прислуживала актеру Мелеагру. Разыгрался ли скандал? Ну, конечно, все спрашивали, почему он опустился до такого уродливого мальчишки.
Наконец я увидел Пизона. Это был крупный радушный человек могучего сложения. Он то и дело приглаживал свои кустистые брови и был со всеми одинаково любезен. Его блекло-голубые глаза отражали ясный ум и свойственный ему юмор. Меня поразило, что подобный человек связал свою судьбу с заговорщиками. Латеран, намечаемый в консулы, также находился здесь, и я глядел на него с любопытством. Лукан говорил, что он принадлежит к редкой породе людей. Ярый республиканец, столь ярый, что многие сомневались, разумно ли привлекать его к заговору, цель которого обновление, а не уничтожение императорской власти. Он тоже был рослый и плотный, смеялся беззвучным грудным смехом, кивая головой и сотрясаясь всем телом. Ему недоставало врожденного добродушия Пизона, но мне было трудно представить себе его в роли любовника Мессалины, осужденного Клавдием, но затем помилованного благодаря заслугам его дяди Авла Плавтия, завоевателя Британии. Я надеялся увидеть жену Пизона, Аррию Галлу, разведенную с Домицием Силием, женщину незнатного происхождения, но славившуюся красотой. Однако она не появлялась.
Наконец мы отправились домой. На людных улицах слуги шли слишком близко от нас, и я не мог задавать вопросов. Лукан шагал, то поднимая, то опуская голову, не замечая приветствий, и сурово оттолкнул щеголя, который попытался его задержать и поцеловать. Раз он повернулся ко мне и сказал: «Я удивляюсь Помпуллу». Как только мы вошли в дом, он бросил на меня быстрый взгляд, и я последовал за ним в библиотеку. Я спросил его, что он хотел сказать про Помпулла.
— Тема Икара опасна, — нетерпеливо ответил он. — Актер, исполнявший его роль на играх в Неаполе, поскользнулся и упал. Его кровь брызнула на императора и многие сочли это дурным предзнаменованием. Нерон воспарил чересчур высоко. Какой же глупец Пизон, что позволил художнику придать Аполлону сходство с собой. Если завистливый безумец на троне услышит об этом… — Он быстро подошел к двери удостовериться, что никто не подслушивает. — Но все это не так важно. Арестована Епихарида.
Он взглянул на меня, и я не знал, что сказать. Я не подозревал, что она участвует в заговоре. И в самом деле, она не была в него замешана. Без сомнения, она от кого-то о нем узнала. Только не от Мелы — Лукан на этом настаивал, тот ничего не знал. Медленно, цедя сквозь зубы слова, как если бы ему противно было об этом говорить, Лукан сообщил мне все, что он слышал. Епихарида отправилась на виллу Мелы к открытию купального сезона. По собственному почину она принялась вербовать заговорщиков, орудуя на свой лад. Никто в Риме не был об этом осведомлен. Она встретила капитана Мизенского флота Волузия Прокула, который признался ей, что у него зуб на императора. Он был на дежурстве в ночь, когда убили мать Нерона, и не получил награды, на которую претендовал. Епихарида решила его завербовать. Как видно, она воображала, что может без чужой помощи сделать больше, чем знаменитые заговорщики, проявляющие такую нерешительность, и шла напролом, надеясь потом выступить в роли скромной героини, которая делала что могла, вовсе не намереваясь изменить ход истории.
Нерон любил Неаполь и залив, на берегах которого он расположен. Епихарида решила, что полезно иметь сообщников во флоте. Волузий поклялся, что ему до смерти хочется насолить этому скряге императору. Пьяный, валяясь в ее постели, — Лукан гневно закусил губу, несомненно, он упомянул об этом, лишь досадуя на опрометчивость женщины, которую ревниво ненавидел как любовницу своего отца. Как бы то ни было, капитан на следующее утро, протрезвившись, бросился к префекту Тигеллину и сообщил ему обо всем услышанном. Епихариду тотчас же арестовали и привезли в Рим. Больше ничего не известно. Никто не знал, что именно она выболтала Волузию. К счастью, добавил Лукан, Мела не поехал в Байи — его задержали расчеты с крупной азиатской компанией.
Слуга доложил о приходе Сцевина, через несколько минут появился Наталис, он привел Клавдия Сенециона, тощего желтолицего человека, который некогда был приверженцем и любимцем Нерона и все еще находился при дворе, хотя уже не в фаворе. Все трое были расстроены, хотя знали еще меньше Лукана. Началось бестолковое обсуждение: упреки, сожаления, предположения, толкли воду в ступе. Казалось, каждый хотел занять позицию, с которой мог бы порицать других, если б дело худо обернулось.
— Кто-нибудь проболтался Епихариде, — проворчал Сенецион, и шрам на его правой щеке побагровел. У него была вдавленная переносица, длинный острый нос, выступающий подбородок и впалые щеки, прорезанные глубокими морщинами. — Трудно допустить, что она сама задумала заговор, ничего не зная о нас.
— Если ты имеешь в виду меня, — отозвался Лукан, — то обманываешься. Я не видел ее добрых три месяца и никогда не встречался с ней в отсутствие отца. Ни полслова не шепнул ни отцу, ни дядям. Ты и сам это знаешь. Впрочем, я не намерен оправдываться, когда на меня взваливают нелепости.
— Но ты должен признать, что она что-то слыхала о наших планах, — вставил Наталис, недоверчиво глядя на Лукана.
— Похоже на то, — согласился Лукан. — До нее могли дойти какие-нибудь смутные слухи. И она опрометчивая особа.
— Смутные слухи могут повредить нам не меньше определенных. Если она что-нибудь слышала, значит, слыхали и другие.
Сенецион повернул ко мне свое тощее, испитое лицо.
— Ты навещал Мелу и видел эту женщину?
Я кивнул.
— Только мельком. Они с Мелой пререкались из-за каких-то счетов, вот и все.
Все посмотрели на меня с подозрением, но Лукан пришел мне на помощь.
— Неужели же Луций мог говорить о секретных делах с женщиной, которую в первый раз видел? Он ходил по делу.
— Она может живо обработать человека! — усмехнулся Сенецион.
— Я не меньше вас встревожен тем, что заговор выплыл наружу, — сказал Лукан. — Но дело не Только в нас. Немало людей знают — нечто готовится.
— Слишком много, — вставил Сенецион.
— Это верно, — заметил Сцевин, нервно кусая ногти. Затем, видя, что Лукан собирается сердито ему ответить, поднял руки. — Погоди. Я прошу об одном: действовать быстро!
— Мы будем действовать при первой же возможности. Пока же, полагаю, нам лучше разойтись. Было сущим безумием приходить сюда. Вы должны знать, что мой дом и дома моих родственников, по всей вероятности, под наблюдением. Где здравый смысл?
— Мы уйдем через заднюю калитку, — сказал Наталис.
— Откуда ты знаешь, что и ее не сторожат? — огрызнулся Лукан. — Что может быть подозрительнее! Нет уж, идите, как вы пришли, и постарайтесь болтать как можно беззаботнее. Если вы заметите что-то подозрительное, громко говорите о проигрыше в кости или на бегах. О чем угодно, лишь бы о чем-нибудь простом и обыденном.
В эту минуту он подчинил себе всех нас четверых, и это, несмотря на волнение, радовало его. А я с тревогой Спрашивал себя: как мог Сенецион узнать, что я был у Мелы? Я побаивался этого человека и не стал ни о чем его спрашивать, чтобы снова не привлечь к себе его внимания. Наталис, приунывший больше всех, захотел себя показать.
— Почему бы не донести на нее? Это отвлекло бы от тебя подозрение, а?
Лукан отнесся к этому серьезно.
— Я уже думал об этом. Но это бросит тень на моего отца. Нерон будет недоумевать, откуда я знаю о любовнице отца больше его самого.
— Это вполне естественно, — бросил Сцевин и подмигнул мне, но я сделал вид, что не заметил. Он очень нравился мне, и я хотел, чтобы он об этом знал, но опасался, что, если поддержу его, это бросится в глаза Лукану и я окажусь в неловком положении.
— Нерон именно так и подумал бы, — возразил Лукан. — Поздно, поздно. Тигеллин заинтересуется, почему я доношу лишь после того, как ее выдал кто-то другой. Нам остается только ждать. О наших планах она может знать лишь очень немного или ничего. — Он стал подталкивать друзей к двери. — Вам пора уйти.
— Унылый конец возвышенной мечты, — вздрогнув, сказал Сцевин. — Девка вильнет хвостом, и рушится мир, и она загребает в охапку весь мировой порядок. — Он, видимо, решил испортить настроение Лукану и был недоволен, что заразился от Наталиса паникой. — Давайте пойдем все вместе на Форум и там перережем себе горло. Замечательная новость для «Ежедневных ведомостей». Или убьем кого-нибудь. Мы могли бы пробраться черным ходом в императорский дворец и зарезать главного повара. А требуху бросить в суповой котел и вызвать у Нерона понос. Что ты предлагаешь, Луций?
— У них нет никаких определенных улик против нас, — заявил Лукан, — иначе нас арестовали бы сегодня утром.
— Такое пренебрежение даже оскорбительно, — заметил Сцевин. — Не пожаловаться ли мне Тигеллину? Его доносчики и соглядатаи никуда не годятся.
Мы невольно заразились его беспечностью. Лукан сердито хмурился, а Наталис старался подбодрить себя. Сенецион, явно раздраженный, стоял позади, подозрительно поглядывая на меня. Но вот Сцевин взял Наталиса под руку.
— Я жалею только об одном, что ни разу не поспал с этой злосчастной Епихаридой. Я всегда мечтал сойтись со Сциллой, а затем с Харибдой. Однажды я повел девушку на вершину Этны. Но мне думается, в Епихариде больше вулканичности.
Он вышел вместе с остальными. Лукан сидел молча. Я направился было к выходу, но на пороге вспомнил, что еще не обо всем его спросил. Подойдя к нему, я сказал, что все еще брожу в потемках, это унизительно для меня и я нахожусь в глупом положении.
Сперва мне показалось, что он пропустил мои слова мимо ушей. Потом он встал, повернулся ко мне и заговорил слабым, упавшим голосом. Первоначально предполагалось убить Нерона на вилле Пизона в Байях, куда он нередко приезжал без телохранителей купаться и обедать. Можно было бы просто, без всяких помех совершить убийство и сохранять это событие в тайне, пока не утвердился бы на престоле новый император. Но в последний момент Пизон отказался осуществить этот план. По его словам, с его стороны было бы святотатством нарушить закон гостеприимства и совершить это ужасное преступление, вдобавок он рисковал навлечь на себя проклятие, навеки себя запятнав.
— Я не согласен, что закон гостеприимства охраняет такую тварь, — сказал Лукан, закусывая губы, — но пренебречь просьбой Пизона было невозможно. Заманив чудовище в ловушку, мы оттолкнули бы от себя народ. И разве после этого Пизона признали бы спасителем государства? Конечно, никакой ропот не имел, бы значения, если бы Сенат и гвардия высказались за Пизона. Пожалуй, мы горько пожалеем, что щепетильность заставила нас отвергнуть столь надежный план.
— Но восстанет ли гвардия против Нерона? — По не совсем ясным для меня причинам я не передавал Лукану своей разговор с Аспером и Сильваном.
— Да. В свое время, после надлежащей подготовки. — Он остановился в нерешительности, словно ему претило сообщать дальнейшие подробности. Он заставил себя заглянуть мне в лицо. — Среди преторианцев есть сильная группа, — заговорил он каким-то неожиданным, отрывистым тоном, — готовая пойти на все, лишь бы вернуть империи былое достоинство и честь. Они не вполне разделяют наши взгляды. Им не по душе Пизон, он не их лагеря. Я ему симпатизирую. Но он не из тех, о ком всякий скажет: «Сильная личность». Искусный оратор. Знатен. Популярен. Располагает к себе. Гордится тем, что если и не стяжал лавров на войне, то спас жизнь многим согражданам в судах. Как ты знаешь, он покровительствует искусствам. Такой человек не пойдет на то, чтобы пытаться запугать Сенат или подчинить его себе. Но нелегко найти другого с такими могущественными связями.
— А преторианцы?
Он облизнул губы.
— Думаю, у них нет полного согласия. У некоторых устарелые понятия. Военные стоят в стороне от жизни, они не знают жизни нашего общества. — Он помолчал. — Один префект на нашей стороне и будет вести переговоры со своими коллегами. Половина трибунов с нами, лишь трое с Нероном. Мне незачем называть имена.
Поскольку недовольным трибуном не мог быть Тигеллин, я догадался, что это был Фений Руф. Я еще не знал его в лицо.
— Когда же будет нанесен удар?
— В середине апреля, во время игр в честь Цереры. Цирк уже почти достроен. Как ни осложнилось все, мы вынуждены дожидаться этого дня. Если только Епихарида не выдаст нас. Тогда мы будем избавлены от ожидания. — Он прищурился и тяжело вздохнул. — В руках у этой женщины весь капитал Мелы, вложенный в Галлии и Далмации. Я возражал, насколько позволяли приличия. У нее всегда чесались руки ворочать делами. Мела должен признать, — что я его предостерегал со всей сыновней почтительностью. Но он утверждал, что у нее способности к счету; она может руководить компанией, но не домом, говорил он, словно оправдываясь, что в свои годы сошелся с этой женщиной. Пойти потребовать у него отчета? — Он принялся шагать взад и вперед по комнате и, казалось, был скорее обеспокоен финансовыми затруднениями, чем провалом заговора. Внезапно он повернулся ко мне: «- От тебя она ничего не могла узнать?»
Его вопрос удивил меня и обидел.
— Ты слышал мой ответ. Не думаешь ли ты, что я солгал?
— Разумеется, нет. — Он пристально посмотрел на меня. — Но всякий может совершить ошибку, особенно человек неискушенный. Ты мог нечаянно что-нибудь выболтать. Она только прикидывается наивной.
— Могу лишь повторить, Мела присутствовал при разговоре. Неужели он оставил бы нас наедине? Он поспешил меня сплавить. Мы не говорили ни о чем особенном… — К своему ужасу, я не мог вспомнить, о чем шла вообще речь. Мне пришло в голову, уж не сказал ли я чего-нибудь, в чем можно было усмотреть скрытый смысл. — Во всяком случае, разговор шел на самые избитые темы. О декламации, поэтах и тому подобном. — Я тщетно рылся в памяти — мне ничего не удавалось припомнить. Если Епихарида скрывала незаурядную хитрость под личиной очаровательной простоты, то она и впрямь могла выудить у меня что-нибудь важное.
Но Лукан прекратил расспросы и молча расхаживал по комнате. Потом он усилием воли овладел собой, у него разгладились складки на лбу, и он вздохнул с облегчением.
— Я могу довериться Гиллу. Пошлю его посмотреть, что нового в «Ведомостях», заодно он послушает, о чем толкуют на Форуме. — Гилл был тот раб с шелковыми ресницами, чьи вкрадчивые манеры мне не нравились. — Но вряд ли он принесет что-нибудь утешительное для нас. Впрочем, если б она указала на меня, я бы давно был под арестом. — Эта мысль успокоила его, и он повеселел. — Она на самом деле глупа, при всех своих наивно-коварных повадках. Возможно, сам капитан вбил ей в голову, будто замешан в какое-то темное дело, а наутро струсил. Не иначе! — Я направился к выходу, но он остановил меня, взяв под руку. — Останься, пообедаем вдвоем. Я пошлю сказать Павлу, что мне нездоровится. — Он заколебался. — Нет, этого не следует делать. Все должно идти, как обычно, будто ничего не случилось. — Он провел рукой по лбу. Он казался растерянным. — Поговорим после.
X. Гавий Сильван
Ему удалось на несколько дней нанять лошадь в конюшнях за Пинцианскими воротами. Не терпелось пуститься в путь, и он решил не останавливаться под старой смоковницей, как обычно он это делал, и не пить вина на дорогу из благоговения к отягченному плодами древнему дереву. Оно стояло как бы на грани между Городом и полями, между суетой мошкары и широким простором, где крепко укоренилось все живое, переплелось корнями. Но вот к нему подошел старший конюх, неторопливо вытирая руки о кожаный фартук. Сильван кивнул, и тот крикнул в открытую дверь таверны напротив. Появился мальчик с двумя чашами, которые он осторожно нес в обеих руках, он перешел через дорогу, вымощенную плитами, вытесанными из лавы.
— Славная весна!
«Все весны хороши. Весной всегда славно», — подумал он. Дерево давно пережило пору, когда у него острым ножом обрезали первые весенние побеги. Больше не нужно смешивать охру с гущей оливкового масла, навозом и поливать корни, чтобы лучше наливались плоды, были слаще и сочнее.
— Добрый конь, он тебя не сбросит.
Не надо больше слов. Он вскочил в седло и поскакал. Сторож сердито убирал нечистоты у высокого надгробия с барельефами,изображающими уборку винограда и продажу вина, и надписями, призывающими не осквернять прах усопших. Две шлюхи, ночевавшие, видно, здесь же, у могил, сидели на обрушившейся колонне и расчесывали волосы сломанными деревянными гребнями. Они поманили всадника без особой надежды на успех. С каждым рывком лошади он чувствовал, что Город куда-то проваливается там, за спиной, с грохотом исчезает за горизонтом его сознания, и не хотел оборачиваться. Отъехав несколько миль, он перевел лошадь на шаг и залюбовался полями, где уже зеленели купы кустов и благодаря раннему теплу цвел миндаль. Горьковатый дым застилал пурпурные холмы, где жгли стерню и сухие сучья маслин. Он разминулся с угрюмым мужчиной, одетым в рваные козьи шкуры.
Он остановился посмотреть на поселянина, который пахал на волах, и ему понравилось, что тот не прибегал к стрекалу и, проведя борозду длиной около двадцати сажен, наклонял плуг, возвращался назад и снова ставил его прямо. Он пахал чисто, не оставляя огрехов, и в конце борозды давал передышку своим мышиного цвета волам, причем придерживал животных и оттягивал ярмо, чтобы остудить им шею, и она у них нигде не была натерта.
Он поехал дальше, веселый и довольный. На склонах люди обрезали лозы, на которых еще не набухали почки. Ему были знакомы каждое движение, каждая мысль людей, работавших в полях. Наступила пора отбирать еще не распустившиеся черенки для прививки лоз и деревьев, вторично мотыжить кукурузные поля. Один земледелец может за день обработать мотыгой участок земли, на котором высевается три меры семян. Очищать луга и не выгонять на них скот. В теплых и сухих местах это нужно было делать уже с месяц назад, но в холодных местах следует запускать под покос луга, лишь начиная с Квинкватров[129].
Он сдержал коня. Невдалеке от проезжей дороги человек сажал гранатовое дерево. Увидев, что Сильван остановился, он подошел к нему. «Раб-надсмотрщик», — подумалось Сильвану. Человек был коротко острижен и ступал легко и свободно.
— Пить? — спросил он.
— Недурно бы.
— Откуда едешь?
— Из Сентина. Далеко отсюда.
— Так далеко я никогда не бывал, но знаю одного человека из Форума Семпрония. Его зовут Титиний Капитон.
Сильван покачал головой.
— Мне не приходилось там бывать.
— Обожди минутку. — Поселянин подошел к кусту, достал флягу, вытер горлышко полой своей туники и протянул ее Сильвану. Он стал пить, оглядывая широкий простор, волнистые линии холмов, купы деревьев на пригорках. Потом вытер горлышко фляги, вернул хозяину. Тот тоже отпил глоток.
— Будешь обмазывать верхушку саженца ассафетидой с вином? — спросил Сильван, которому хотелось еще и еще говорить с земледельцем.
Тот почесал подбородок и смерил глазами молодое деревце.
— Говорят, это хорошо против терпкости, — ответил он задумчиво. — Я поливаю его свиным пометом.
— Будь здоров! — попрощался Сильван и поехал дальше. «Почему, — спрашивал он себя, — подобная встреча так воодушевляет меня?» Он больше не задавал себе вопросов. Его мысли мирно блуждали по земле, он многое замечал, и впечатления откладывались в сокровищницу памяти, но ему не хотелось напрягать ум. Долгое приятное путешествие по зеленым заливным лугам и полям, уже вспаханным и взбороненным. На орешнике сидели вороны. Приземистые холмы, разделенные потоками, промывшими глубокие извилистые русла среди каменистых утесов. В незапамятные времена здесь селились и процветали маленькие общины независимых земледельцев, выбиравших места, представлявшие собой естественную крепость и обеспеченные источниками. Равнина была изрезана оврагами, повсюду виднелись невысокие холмы и крупные глыбы туфовых отложений. Придерживаясь направления на гору Лукретилия, он выбрался на Тибуртинскую дорогу, перед ним блеснула река, далее ему нужно было свернуть на проселок, который вел к Медуллии. Простор нежной бархатистой зелени. Ложбина, где росли дикие цветы, аронник с глянцевитыми листьями, чертополох в молочных прожилках, боярышник, высокий коровяк с мохнатыми листьями, в которых летом прячутся осы, тысячелистник в расщелинам, седых от пыли, и множество других растений, названий которых он не знал, ярко-голубая и бледно-желтая вика и стрелки желтого нарцисса. Далее — мохнатые холмы. А впереди — горы в изменчивом освещении, затянутые голубой и фиолетовой дымкой. Легкие облачка цеплялись за скалы и плыли над равниной, а по земле бежали их тени.
Он собрался так поспешно, что не захватил с собой никакой еды. Где-то на полдороге, как ему припомнилось, должен быть убогий постоялый двор. Вокруг на много миль — ни одной виллы. Обычно виллы строили подальше от большой дороги, чтобы избавиться от незваных посетителей. Он нашел постоялый двор, который почернел и разваливался, но содержал его прежний хозяин, молчаливый человек с глубокими морщинами на лбу. Его согнули годы, но он еще держался. Сильван попросил сыру, хлеба и маслин. Хлеб оказался темным, с примесью мякины, маслины — мятыми, плохо просоленными, козий сыр был черствый и припахивал мочой. Но он не стал жаловаться и съел все с аппетитом. Хозяин, стоя на почтительном расстоянии, наблюдал. Подавая кислое как уксус вино, он сказал:
— Ты здесь проезжал в прошлом году.
— У тебя хорошая память.
— Здесь редко останавливаются проезжие.
— Через несколько дней я загляну к тебе на обратном пути.
— В Рим?
— Да. Хоть я и предпочел бы жить здесь.
Хозяин задумался.
— Не знаю, — ответил он. — Я никогда так далеко не ездил. Однажды я отправился в путь, да, отъехав несколько миль, воротился. И впрямь, куда мне ехать?
Сильван расплатился и поскакал дальше. Он любил эту местность с ее изменчивыми красками. Из года в год он приезжал сюда летом, и всегда окружающие картины сливались с картинами, запечатлевшимися у него в памяти. Он любил следить с Албанских гор за внезапно налетевшей полуденной грозой с ливнем и трескучими вспышками молний, которая проносилась над равниной, обрушиваясь на потемневшие холмы и дома, меж тем как все вокруг — и деревья и горы — было залито ярким знойным солнцем. К вечеру картина менялась, в небе вспыхивали яркие краски, в закатных лучах пылала земля, залитая расплавленным золотом, влажные луга и ложбины превращались в светильни, где нежное радужное сияние переливалось всеми цветами, а тени растворялись в пленительной дымке. Равнину мягко устилало серое покрывало, широкая тень быстро и неприметно поднималась по склону горы, и казалось, это движется время, обретшее зримость; темнели пурпурные поля, небо приобретало пепельный оттенок, в соседних с рекою ложбинах змеились струи молочного тумана. Кое-где вспыхивали огни на жнивье, темнели клочья дыма. Густо-оранжевые тона небосклона бледнели, переходя в золотисто-лимонные; ярко-зеленые краски сменялись блеклой желтизной, в темной вышине загорались крупные звезды, и под конец мгла заливала равнину, освеженную росой и набегающими ветерками. Исчезали все формы, оставалась только земля, призрачная и бесконечно реальная; по ней твердо ступали ноги, и отзывалось трепетом сердце, средоточие жизни.
Сильван свернул на заброшенную дорогу с глубокими колеями, всю в ямах, усеянную валунами, заросшую травой. Он спрыгнул с коня, повел его в поводу и, обогнув изломанных очертаний бугор, увидел перед собой жилище. Мальчик, одетый в рваную козью шкуру, свистнул и бросился к приземистой хижине, сложенной из необожженных кирпичей. Почерневшая соломенная кровля; одна стена представляла собой, обмазанный глиной плетень. Из дома вышел человек, прикрывая глаза правой рукой. Сильван увидел девушку, юркнувшую в козий загон.
— Разве ты не узнаешь меня? — спросил он, когда человек приблизился.
Тот пристально посмотрел на Сильвана и сказал:
— Уж не тот ли ты воин, что приезжал прошлый год и помог мне убирать урожай?
— Я говорил, что вернусь. Можно мне побыть у тебя три дня?
— Живи сколько угодно, господин, — ответил хозяин даже слегка заискивающим голосом, но глаза его по-прежнему смотрели неприязненно и подозрительно.
— Не говори так со мной. Покамест я здесь, я тебе ровня. Если только буду справляться с работой не хуже тебя.
Человек усмехнулся и почесал густую бороду.
— Да, ты говорил, что любишь работать на земле. Ты так говорил.
— Это сущая правда.
— Большинство норовят покинуть землю.
— Что тебе до них?
Почва здесь была каменистая. Хозяин продавал в Тибуре яйца, сыр, кое-какую зелень; сеял пшеницу и ячмень для себя, а для скота — вику и люцерну. Мальчик подбежал к ним, радуясь, что может взять коня под уздцы.
— Почисти его как следует, — велел ему отец.
— Я пойду и помогу ему, мы живо управимся, — сказал Сильван, взъерошив и без того лохматую голову мальчика. Тот широко улыбнулся. Сильван уже не жалел, что приехал сюда, и к нему вернулось хорошее настроение.
— Жена! — крикнул человек. Из дому вышла женщина, набросив покрывало на голову и плечи. — К нам приехал прошлогодний воин. — Теперь и он заулыбался, хотя все еще не доверял Сильвану, опасаясь, что тот приехал неспроста, что-нибудь недоброе задумал. Поля по другую сторону холма принадлежали крупному землевладельцу; за рекой находилось поместье другого. Небольшой каменистый участок затерялся между ними, и никто на него не зарился. Никто не заставлял его продавать землю, никому не пришло в голову выжить его отсюда, разорив его или спалив его лачугу зимней ночью. И бедняк упорно держался за землю, суровый и крепкий как скала. Это и понравилось в нем Сильвану прошлым летом, когда он сбился с дороги, стараясь проехать напрямик из Камерии в Тибур, и случайно наткнулся на ферму. Они пили вино, и хозяин изливал ему душу, а на другое утро стал сердитым и подозрительным, досадуя на собственную откровенность.
Жена вернулась в хижину, из вагона выглядывала дочь — Прима. «На такой бы я женился», — подумал Сильван. Он запомнил копну пышных вьющихся волос и кроткие темные глаза, совсем как у косули. Хозяин мало-помалу успокоился, он решил, что его гость тронутый человек, но безобидный. Он стал рассказывать, какие работы уже сделаны и что еще предстоит. Они убрали с пашни самые большие камни, разбили глыбы, теперь пашут и разделывают полосы локтей в пятьдесят длиной под люцерну, оставляя междурядья, чтобы удобно было полоть и подвозить на волах воду для поливки в больших глиняных кувшинах. Потом будут унавоживать, а в конце апреля — сеять. Придется изрядно поработать, но труды ре пропадут. Косить? Косить, как станут осыпаться семена. Хозяин говорил медленно, порой замолкал, собираясь с мыслями, постукивал прутиком по земле.
Они направились к хижине. Вышла женщина, вытирая тряпкой растрескавшиеся руки. Сильван увидел коз в загоне, у них была длинная шелковистая желтовато-белая шерсть, белые бороды и блестящие, как бусинки, раскосые глаза. Девушка, как же ее зовут? — да, Прима, — стояла, соскребая грязь с правой голени левой ступней.
Прибежал мальчик и от избытка чувств бросился к Сильвану. Тот обнял его за шею.
— Ты сказал, три дня? — спросил хозяин. — Мы ради помощи, но заплатить нам нечем. На сегодня мы кончили, завтра поднимемся на работу до свету.
— Я буду спать на сеновале, над свинарником, как прошлый раз.
Седая женщина в мешковатой столе из серой шерстяной ткани принесла две берестяные кружки с вином.
— Добро пожаловать, господин, — сказала она. — Это вино самого лучшего урожая, какой был у нас пять лет назад.
Девушка медленно спускалась по склону. «Да, на ней я бы охотно женился, — снова подумал Сильван. — Мне нравится ее походка. Девушка знает, что такое земля». Он нагнулся, взял комок земли, растер его между пальцами и понюхал.
XI. Луций Кассий Фирм
Эту ночь я не спал. Мне даже казалось, что у меня жар. Я почти наяву видел перед собой то пышное обнаженное тело Цедиции, то внезапно мрачное, опущенное лицо Лукана; появился Сцевин и, размахивая руками, смотрел на меня диким, насмешливым взглядом; настойчиво и упорно глядел на меня Сильван. Я пытался отогнать назойливые видения, занявшись сочинением стихов. Это помогало мне в Кордубе, когда, меня одолевали житейские заботы. Сейчас это только усилило нервное напряжение.
Лукан обещал быть в суде, чтобы послушать новую знаменитость — блестящего адвоката, и ему волей-неволей пришлось там появиться. Мы отправились, Писцы показали нам места. Мы сидели, слушая бесконечные споры по поводу какого-то наследства и связанных с ним преступных махинаций. Наш оратор выступал по вопросу о бездетных кандидатах на должности преторов и прокураторов, усыновляющих подростков, дабы соперничать с людьми, имеющими законных сыновей. Добившись своего, такие люди избавлялись от приемышей, — практика, недавно признанная незаконной особым указом Сената. И сейчас происходили длительные прения на тему о том, имеет ли этот указ обратную силу, хотя это, конечно, исключалось. Вопрос был поставлен на обсуждение умышленно, чтобы публично заклеймить бездетность и холостой образ жизни. Лукан шепнул мне, что сам адвокат бездетный.
Потом некоторое время мы беседовали с адвокатом Маурицием, чьи сторонники на все лады обыгрывали то обстоятельство, что его оппонент Канин страдал подагрой и произносил свою речь сидя. Мауриций принадлежал к школе, представители которой не только прибегали к бурной жестикуляции во время речи, но и к движению по залу. Его враг как-то подошел к нему и сказал, делая вид, что сочувствует: «Дорогой коллега, я восхищен твоей энергией, но боюсь, что ты преждевременно растратишь силы. Сколько стадий ты продекламировал?»
Лукану не удавалось скрыть своей озабоченности, и он изрекал избитые истины.
— Адвокат, как и публичный чтец, широко прибегает к выразительным взглядам и жестам — это атрибуты утонченного красноречия. Естественно, внимание аудитории ослабевает, если она не получает ярких впечатлений, не восторгается изящными жестами и остроумными, ядовитыми экспромтами. Все мы подвластны предрассудкам и эффектные громогласные речи предпочитаем простой, скромной манере общения.
— Судьям нравится одна манера, публике — другая, — возразил один из наших соседей.
— Верно, хоть и неразумно.
Мауриций напомнил о себе.
— Меня поражает, — сказал он, — как отличается наш образ действий от того, какой принят у греков. Они давно отменили бы закон, противоречащий более раннему, а мы начинаем спорить, сравнивать один с другим. Я пытался здесь доказать, что преступление, подпадающее под смысл и букву закона о явном вымогательстве, подсудно не только этому закону, но и прочим подобного же характера. Людям, не сведущим в римском праве, не приходит это в голову, но лица, искушенные в нем, должны бы высказывать более разумные суждения. Поэтому я предполагаю некоторое время спустя выступить с публичным чтением своей речи и пригласить наиболее просвещенную публику.
— Превосходная мысль, — сказал Лукан.
— Вы обратили внимание, — продолжал Мауриций, — что на сына Домиция Аполлинария так напирали со всех сторон, что порвали на нем тунику? Несмотря на это, он простоял все пять часов, слушая меня.
Когда мы выходили, Лукан сказал мне на ухо:
— Боюсь, что сын Домиция Марк не ушел просто потому, что не мог выбраться из толпы.
Никого не интересовали обстоятельства дела, ущерб, нарушения закона. Имели значение только ораторские приемы и способ ведения процесса, зал суда был своего рода сценой, где создавались или погибали репутации адвокатов. Все позабыли о подзащитном — краснощеком человеке с оттопыренными ушами, который проиграл дело не потому, что его вина была доказана, но скорее из-за красноречия Мауриция.
— Система нашего правосудия, — задумчиво сказал Лукан, — весьма сложна, особенно в области гражданских дел и имущественных исков. А уголовные законы не разработаны или запутанны. Этим воспользовалась тирания, и нас ловко прибрали к рукам.
Усталые от этих впечатлений, мы вернулись домой; там меня ждало письмо отца, привезенное иллиберийским купцом. Оно было краткое. Отец справлялся о моем здоровье и о результатах моих деловых визитов в Риме. Несколько слов приписала мать. Она радовалась, что прошла зима и не разыгрался ее ревматизм. Стараясь скрыть от меня свою озабоченность и огорчение, она выражала надежду увидеть меня в середине лета. Все это не выходило за рамки принятых условностей, однако письмо глубоко меня потрясло. Меня мучило сознание, что я изменяю своим родителям, и возникало горячее желание поскорей вернуться домой. Но если окружающий меня мир приобрел оттенок кошмара, из которого хотелось вырваться любой ценой, то и покинутый мною мир Кордубы тоже казался призрачным. Желанный, но уже потерянный. Мне предстоял выбор между уже не существующим миром и миром, державшим меня за горло. Лукан явно подозревал, что в письме дурные вести, и я дал ему прочесть его. Потом я пошел в свою комнату и спрятал письмо на дальнюю полку. Я сам не знал, почему оно меня так расстроило, и боялся доискиваться.
По-прежнему не было известий об Епихариде. Лукан твердил, что в данном случае отсутствие новостей уже хорошая новость. Но вот он получил записку — он не сказал от кого, а я не стал спрашивать, — ему сообщали, что эта женщина никого не выдала. Следствие приостановлено, Но она все ещё под арестом. Видимо, она все отрицала, а Против нее свидетельство только одного лица.
— Это правдоподобно, — проговорил Лукан, проводя рукой по лбу. — Нас не арестовали, но, вероятно, они следят за нами, надеясь, что мы допустим оплошность и дадим им в руки недостающие улики. — Он задумался. — Записке можно верить. — Он вздохнул. — Но мы должны иметь в виду, что Отныне становимся Предметом особого внимания доносчиков и соглядатаев. Поскорей бы все это кончилось, так или иначе. — Тут он приободрился, даже дружественно отозвался об Епихариде, хотя все еще сетовал, что невозможно установить, как она распорядилась галльскими и далматинскими капиталовложениями. — И все же, пожалуй, лучше мне не посылать к Меле и ничего ему не писать.
Пока он говорил, я ломал голову, как бы мне под благовидным предлогом съехать от него. Было поздно обращаться к банкиру Присциану. Я был вовлечен в крут интересов и дел Лукана и под разными предлогами все откладывал разговор с банкиром. Теперь он захотел бы узнать, что меня так задержало и почему я переезжаю от Лукана. Он заподозрил бы, что я чем-то не угодил Лукану, и начал бы наводить справки. И вот я решил попросить Марциала подыскать мне недорогие комнаты. Но, если я порву с Луканом, не покажусь ли я неблагодарным, не упаду ли в глазах его многочисленных знакомых и не потеряю ли доступ в литературные круги Рима? Вдобавок сейчас было опасно менять квартиру. Заговорщики решили бы, что я струсил и готов их предать, они могли бы даже додумать, что я остановился у Лукана лишь для того, чтобы выпытать все подробности, и, добившись своего, поспешил скрыться. Я вспомнил, что Сенецион советовал Лукану отвести от себя подозрения, сделав донос на Епихариду. Они могли бы заподозрить, что я задумал спасти свою жизнь, выдавая их, и в свою очередь донести на меня или же подослать ко мне убийц. Теперь я знал, что в заговоре участвовало несколько слабо связанных между собой групп: группа Лукана, группа Пизона, группа преторианцев, вероятно, были и другие. Подлецу Сенециону ничего не стоило бы пустить по моему следу наемных убийц. Теперь я горько раскаивался, что в свое время не остановился у Присциана. Мне никак не удавалось придумать убедительную версию — сослаться на возникшие столкновения интересов, на настоятельные требования отца, которые заставляют меня на время целиком посвятить себя коммерческим делам. Ведь я легкомысленно сказал Лукану, что мне даны далеко не срочные поручения — и все это можно отложить до мая месяца, а может, и на больший срок.
Доложили о приходе матери Лукана. Я хотел было уйти, но он сделал мне знак остаться. Ацилия вошла торопливым шагом, мрачная, сурово поджав губы, взгляд ее серых глаз был холоден, а волосы как-то особенно туго затянуты на затылке.
— Что это говорят про Епихариду?
— Не знаю, что ты слышала, — отрывисто ответил Лукан. — Во всяком случае, и знаю не больше тебя.
— Как ты можешь это утверждать, не зная, какими я располагаю сведениями?
— Мне известно, что ее арестовали. Больше ничего.
— Неужели ты не мог посоветовать отцу строже за ней приглядывать?
Лукан пожал плечами.
— Ты же знаешь, я не могу давать отцу советы в таких делах. Будь логичной.
Она всюду сует свой нос, эта бесстыдная девка! Она высказывает свое мнение даже о финансовых вопросах, ты это отлично знаешь. И увещания были бы вполне оправданны.
— Я возражал, насколько позволяло уважение к нему. Но все это не имеет никакого отношения к данному делу.
— Надеюсь, теперь у твоего отца откроются глаза.
— Я тоже надеюсь.
— Он не сможет сказать, что я его не предостерегала. — Она уставилась на меня, но я не мог уйти пока меня не отпустит Лукан. — Теперь ты можешь говорить с отцом напрямик. Ты навестил его?
— Нет.
— Тогда ступай сейчас же.
— Матушка, прошу тебя не вмешиваться в мои дела. В настоящий момент я не собираюсь идти к нему.
— Почему? — Она внимательно посмотрела на него. — Ты плохо выглядишь. Кто мог вбить все это в голову этой твари? Она назойливое, несносное существо, но отнюдь не глупа. Кто-нибудь да подтолкнул ее. Могу я спросить, когда ты видел ее в последний раз?
— Несколько месяцев назад. Но довольно с меня бесцельных вопросов.
— Я не удовлетворена. — Ацилия снова сердито на меня взглянула, а я сделал вид, что сосредоточенно разглядываю стенную живопись. Трофеи на деревенском алтаре Дианы. — Я вижу, у тебя что-то на уме. Я приметила это еще прошлой осенью. В чем дело?
— У меня многое на уме, — ответил он высокомерно.
Она подошла к сыну и заглянула ему в глаза.
— Я хочу знать!
— Ты хочешь, чтобы я поведал тебе, как я мучительно вынашиваю свою поэму, рассказал о своих финансовых делах или поделился с тобою мыслями о божестве?
— Я хочу знать: какое ты имеешь отношение к этой бредовой затее?
— Я не имею к ней никакого отношения.
Он прищурился и отвел взгляд. Как ни старался он говорить твердым тоном, Ацилия уловила в его голосе нотки нерешительности. Она повернулась ко мне.
— Я хочу поговорить наедине с моим сыном. — Я медлил, ожидая, что скажет Лукан, но он стоял молча, пришибленный, и я пошел к двери. На пороге я на мгновение задержался, но он не произнес ни слова. Я вышел. И слыхал, как она повысила голос, упрекая его и упрашивая.
И на следующий день я никак не мог принять решения. Лукана я видел только мельком. У него был виноватый и пристыженный вид, но в складках рта проглядывало упрямство и раздражение. Я отправился навестить Марциала. Его не было дома, и мне не могли сказать, когда он вернется. Меня встретила все та же девушка. Она была смущена и выглядела далеко не столь привлекательной, как прошлый раз. Она похудела, руки стали костлявыми, глаза беспокойно бегали. Может быть, она боялась, что я попытаюсь ее соблазнить или что торчавший тут каппадокиец наплетет про мой визит небылиц. Не то просто стеснялась, что плохо говорит по-латыни. Я вышел и отправился бродить по улицам.
Едва я покинул дом Лукана, как почувствовал радость освобождения. На душе стало легко. Я ничего не хотел от жизни, кроме права и возможности свободно бродить по бесконечно разнообразным улицам, сливаться с суетливой городской жизнью, испытывая при этом радость одиночества. С какой стати дал я себя втянуть в опасное предприятие, в котором не был заинтересован? В Кордубе едва ли имело значение, кто будет в Риме императором — Нерон или Пизон. Можно было даже предположить, что слабохарактерный Пизон станет пешкой в руках честолюбивых сенаторов, от этого ухудшится положение жителей как восточных, так и западных провинций. Какое нам дело до развращенности придворных? До неудач поэтов, которые, по правде сказать, даже отдаленно не могли сравниться с Вергилием?
Выходя из улицы Шорников, я поскользнулся и налетел на мезийского раба, который вместе с другими нес паланкин. Хозяин паланкина осыпал меня бранью. Я струхнул, промолчал и скользнул прочь. Мне хотелось вновь почувствовать себя затерянным. Я стал смотреть, как работает человек, склеивавший стекло смесью яичного белка и негашеной извести. Его ловкие движения вернули мне утраченное равновесие. Приблизившись к баням, я забрел на улицу, где сновали продавцы лекарств и глазных мазей. Они громко выкрикивали свой товар. Я прочел несколько надписей: «Целебное средство из Берита, его применял Стратон из Б., когда у него слезились глаза, действует немедленно». «Испробуй это лекарство, испытанное Флором на Антонии, жене Друза, после того как другие врачи едва не лишили ее зрения». Громкие названия: «Амброзия», «Нектар», «Непревзойденный», «Фосфор», «Изида», «Попугай», «Лебедь». Я взял таблетку под названием «Изида» и понюхал ее, запах был приятный. Я чуть было не купил.
— Может быть, ты раньше времени облысел? — спросил меня человек с длинными волосами, падавшими до середины спины. — От этой мази волосы у тебя на груди и в паху отрастут до пят. Если захочешь, они вырастут у тебя даже на подошвах.
Тут его заглушил громогласный малый, державший в руках игрушечный скелет с огромным фаллосом, пляшущим на веревочке.
— Эй, ты, болит у тебя грудь? Конечно, болит. Вот лекарство, изготовленное Пакцием Антиохом, он скрывал этот рецепт, и его узнали только после его смерти. Потом; божественный император Тиберий ухватился за это средство, почитая его великим благодеянием для страждущего человечества, и передал рецепт в императорскую библиотеку. Чего еще желать? Подходи, подходи, ты же знаешь, что у тебя болит грудь… — Он ткнул пальцем в девушку с жесткими черными волосами, заплетенными в косички, слушавшую его с открытым ртом. — А может, и не болит, если Купидон еще не метнул тебе меж ребер свою жгучую стрелу. — Он подергал скелет и показал девушке, в какое место могла ей угодить стрела. — Это то самое лекарство, которое миллионер Цетенний Секунд отверг из-за его дешевизны. Он предпочел, чтобы его погубило какое-то дорогое дерьмо. — Его хитрые бегающие глаза остановились на мне. — Подойди-ка, господин. Вижу, тебя точит недуг. Если это любовь, эта девушка тебя излечит. Если боль другого рода, купи у меня склянку.
Я отошел от него и наткнулся на другого продавца снадобий, расхваливавшего женщине, которая, казалось, вот-вот разродится двойней, средства, вызывающие выкидыш. Рядом в ларьке продавались пессарии. Потом я попал в улочки с заброшенными домами — повсюду виднелись следы Пожара. Хотя бараки для рабочих размещались в отведенных для них кварталах на Авентине и по соседству с портом, лачуги и хибарки повсюду в Римё росли как грибы. Возле прекрасного особняка, окруженного садом, склады и ряды сколоченных наспех домов. При постройке их применялся цемент низкого качества, и казалось, они вот-вот развалятся и погребут под обломками своих обитателей и прохожих. Я брел по узенькому переулку и увидел женщину, сидевшую на куче битой черепицы, она кормила ребенка.
Из-за прозрачных облаков выглянуло солнце, пробежал легкий ветерок, и ребенок чихнул. Из пеленок торчали головки чеснока — против дурного глаза. Чумазая девочка играла деревянной куклой с грубо намалеванными белыми глазами и красным ртом. Шлюха с волосами, выкрашенными в кричащий желтый цвет, высунулась из окна, поперек груди у нее красовался свежий шрам. Плотник, насвистывая, сколачивал ящик на лежавшем на земле каменном столбе от ворот.
В другом переулке, где уцелело лишь несколько полуразрушенных задних крылец, на помойке лежал новорожденный. Ребенок был еще жив и тихонько всхлипывал. Две облезлые дворняги, уткнув морду между лап, готовы были прыгнуть и растерзать его. Я закричал и швырнул в них камнем. Собаки удрали, поджав хвосты. Рой мух вился вокруг ребенка, малыш издал слабый стон и затих.
— Умер, — сказал Феникс, подбежавший на мой крик.
Внезапно поднялся и встал на колени обнимавший женщину свирепого вида мужчина. Они лежали на мусоре, он был весь в грязи, и я не сразу его заметил. Он пробормотал ругательство и снова лег.
Мы обогнули склад свечного сала, факелов и свечей и вышли на более широкую улицу, где стояли лавки продавцов корзин. Мне все время казалось, что я должен с кем-то встретиться или увидеть нечто важное. Я опасался пропустить какое-то свидание. Но вокруг — обычные сцены и запахи Города. То воняло жиром и рыбой, то в ноздри ударял горячий запах пряностей и перца. Я чихнул и вспомнил ребенка, охраняемого чесноком. В конце улицы мимо меня, завывая, пробежал жрец Изиды в маске Анубиса, тут же раздался женский плач. Мужчина спорил с лавочником, ударяя себя кулаком по ладони:
— Ты смешал перец с можжевельником, а в молотый перец для весу подсыпал свинцовый порошок.
— Обвинять легко, — твердил слащавым голосом торговец. — Пойди-ка докажи. Не помню, чтобы ты у меня что-нибудь покупал.
Мы дошли до еще не восстановленного конца Священной дороги. В открытом паланкине пронесли матрону, ее широкое лицо утопало в цветах. За паланкином шел ручной лев. Грива его была позолочена. Зверь выглядел усталым, его донимали мухи, и он лениво ступал среди нумидийских рабов с бичами и дубинками. Рядом с паланкином семенил адвокат, стараясь привлечь внимание матроны и воздевая руки, унизанные кольцами. Кольца, несомненно, были взяты напрокат, а документы, которые несли в связках рабы, были клочками негодного пергамента. Он был из тех ходатаев, которые вымогают авансом гонорар, нарушая традицию, по которой закон является достоянием аристократов, оказывающих помощь своими знаниями лишь людям, по их мнению заслуживающим защиты. Я смотрел, как важно шествовал по улице этот прохвост, и он казался мне красноречивым символом путаницы и обмана, господствующих в нашей жизни.
В лавках, рассчитанных на изысканный вкус, были выставлены вина из сушеного винограда, шафран с Крита, шелка, доставленные через Понт Эвксинский, перец, привезенный через пустыню на верблюдах, гусиный паштет в корзинах, поступающий из-за Альп. Гирлянды и венки для пиров, сплетенные из выращенных в оранжерее цветов, или тонкие кружева из золотых нитей, которые предлагали покупателям смазливые мальчики и девушки с томным взором. Ювелирные изделия, над которыми добрых двадцать лет трудились голодные мастера и которые должна была купить ничего не смыслящая в искусстве жена какого-нибудь спекулянта, просто выгодно вкладывая деньги. Статуи, смотревшие из пленительного, гармоничного прошлого своими прекрасными, но отчужденными глазами. Изящные флейты, из которых высокоценимые рабы-музыканты станут на пирах извлекать мелодии, заглушаемые криками пьяных грубиянов. Драгоценные игральные кости, которые отомстят за пошлость и лихоимство, вырвут деньги из недостойных рук и швырнут их в сточную яму. Цетанский шнур из Галлии, на котором я посоветовал бы удавиться всем пресыщенным жизнью и банкротам.
Покупательниц было немного, они приходили для примерки в лавки сапожников, к портным или же для покупки изящно сделанных кожаных фаллосов, которыми они тешились, когда их мужья бывали пьяны, отсутствовали или увлекались мальчиками-рабами. Некоторые из них заглядывали в только что открытую лавку новинок. Иных особ сопровождали мужья или прислужники, которые вяло тащились за ними или ожидали на скамьях, пока те выбирали себе вещи по вкусу. Но больше всего было покупателей-мужчин — мужья, домоправители, просто слуги, — за которыми брели скучающие рабы с корзинами.
Повернув за угол, мы очутились в квартале, пользующемся дурной славой. Здесь на каждом шагу встречались возницы и гладиаторы. Мужчины с нечесаной бородой продавали программы бегов, где предсказывались победители. Завсегдатаи таверн с видом знатоков обсуждали родословные лошадей и гибель гладиаторов, а также их излюбленные приемы, уловки и состязания, в которых они должны были выступить. Я заглянул в винный погребок. Два гончара толковали о премии, которую они могли бы получить за быстрое выполнение работы. Обжигавший известь иудей жаловался на цирюльника, работавшего на другой стороне улицы:
— Покамест он доберется до лба, у тебя волосы уже отрастут на затылке.
Возле меня грузно облокотился о прилавок человек с изуродованным лицом. Он заметил, что я смотрю на его сломанный нос, и буркнул что-то насчет вина. Я сказал, что еще не пробовал, и дал знак хозяину таверны, жирному темноволосому человеку с кривыми ногами и единственным ухом. Другое у него отгрызла крыса, когда он еще лежал в колыбели, — с гордостью сообщил он мне. Там, откуда он родом, на склонах Этны, водятся гигантские крысы. Красильщик разглагольствовал об Эквиррии.
— В позапрошлом году разлилась река, и бега происходили на Целиане. Надеюсь побывать там после обеда. Я поставил несколько медяков на Полидора.
Человек с изуродованным лицом заявил, что вино здесь мерзкое, как ослиная моча, никакой крепости, намешана всякая дрянь, медяки и тухлые яйца. Весь мир катится под откос, да еще ему поддают пинка в зад. Я заявил, что не согласен с ним. Он ответил, что не он один так думает. Я сказал, что ничего об этом не знаю. Он посоветовал мне прочистить уши. Услыхав слово «ухо», хозяин таверны повторил рассказ о том, как крысы отгрызли ему ухо еще в колыбели. Я заявил человеку со сломанным носом, что ни его лицо, ни разговор мне не нравятся, и отошел от него. Обычно я избегал ссор. Но я был взвинчен и не мог удержаться. Мне всюду мерещились доносчики и соглядатаи. Собеседник увязался за мной и стал рассказывать, что на Виминале женщина родила трехглавое чудовище и надо ожидать страшных событий. Я спросил, уж не муж ли он этой женщины, и повторил, что не желаю с ним разговаривать.
— Солдаты сыты по горло, — продолжал он, — это всякий знает, а на днях родился теленок с козьей головой, и прошлой ночью с неба упало сразу десять звезд.
Я сказал, что это самое заурядное событие, что в моем родном городе клопы — величиной с человека, но никто не обращает на это внимания. Я допил вино и направился к выходу.
— Ты называешь меня лжецом? — крикнул он и швырнул кружку на пол.
Я заметил тощего малого с водянистыми глазами, который сидел, попивая горячий мед, и внимательно слушал нашу перебранку.
— Все это говорил ты, а не я! — крикнул я человеку с изуродованным лицом и вышел, смутно сознавая, что не высказал никакого предосудительного недовольства. — Я всем доволен, у меня нет никаких жалоб.
На обратном пути я осознал, что надеялся встретиться с преторианцами. Я знал о них гораздо меньше, чем о лицах, окружавших Лукана, и, быть может, потому мне казалось, что это люди сильной воли, цельные натуры и политические их взгляды не являются результатом личной обиды или недовольства. Я надеялся, что они докажут мне всю необходимость уничтожить Нерона. Потом мне показалось, что я хотел увидеться с Цедицией, На Священной дороге я вглядывался в лица всех роскошно одетых матрон, надеясь увидеть ее. С болью в сердце я чувствовал, что больше никогда ее не увижу, Никогда не выбраться мне из теснин, в какие завели меня политические интриги.
В доме Лукана я был своим человеком, и никто не остановил меня, когда я направился прямо в комнату хозяина. Войдя, я застал его с отцом. Извинившись, я хотел было удалиться, но Лукан попросил меня остаться.
— Мы кончили разговор.
— Я в этом не уверен, — ответил Мела, бросив на меня ядовитый взгляд и затем полностью игнорируя мое присутствие, — Ты должен сказать мне без обиняков, что никогда не вел с этой женщиной разговоров на политические темы.
— Я уже говорил тебе, что нет.
— Не без колебания. Это серьезный вопрос. Я хочу, чтобы ты прямо сказал, что твоя мать солгала.
— Путаница, нелепость какая-то, — нетерпеливо бросил Лукан. — Она не имела права ходить к тебе.
— Не в этом дело. Она просила меня повлиять на тебя. Это меня удивило. Мне давно не нравится твое поведение. Но я считал, что все это — проявление юношеского тщеславия и с годами пройдет. Я тоже могу пожалеть о целом ряде ошибок, совершенных в юности.
Лукан сделал усталый жест.
— Неужели мы начнем сначала?
Мела сжал руки.
— Ведь ты не лишен деловых способностей! Вот этого я не могу понять. — После небольшой паузы он опросил с подозрительным видом: — Когда ты последний раз виделся с моим братом?
— Когда он покидал Рим. Я пришел попрощаться, ты был там. Мы обсуждали финансовые вопросы.
Мела нахмурился.
— Вспоминаю. — Он провел рукой по лбу и на мгновение стал похож на сына. — Перестаю понимать, что творится на этом свете. — Он вздохнул. — Не давай матери повода снова приходить ко мне. Она утомительная особа. Я уже пять лет не разговаривал с ней.
— У меня нет ни малейшего желания напускать ее на тебя.
Они все-таки сошлись в одном — в своем осуждении Ацилии. Мела стоял, втягивая воздух сквозь зубы, и смотрел на сына.
— Я вижу, мне ничего от тебя не добиться. Я дал тебе полную волю и не уверен, могу ли я применить отцовскую власть. Не вынуждай меня к самозащите. Это я решительно тебе говорю, и запомни мои слова. Кажется, я единственный разумный человек в нашей семье. Неужели же я буду равнодушно смотреть, как гибнет Ваше состояние, как все идет прахом из-за сумасбродства человека, пребывающего со мной в кровном родстве? Я связан известными обязательствами и принимаю их без всяких оговорок. Запомни же это.
Он вышел, не замечая меня. Лукан стоял молча, глядя невидящим взором на мраморный торс Венеры Каллипиги. Я понял, на что намекал Мела. Если я правильно уловил его мысль, он собирался при худом обороте дела спасти себя, выдав не только сына, но и своего брата, философа. Только теперь я узнал, что Сенека также участвовал в заговоре. Меня удивляло, что Лукан ни разу не коснулся этого существенного обстоятельства. И я догадался, что Лукан сообщил матери о существовании заговора. Накануне она вырвала у него признание и тотчас же бросилась к Меле, надеясь освободить сына из этих пут и заодно намылить своему бывшему супругу голову за Епихариду. Она годами мечтала о таком случае.
— Я нахожу, что все это унизительно и к тому же сущее ребячество, — произнес Лукан. Я решил не спрашивать, что он сказал своей матери. Было ясно, что она сломила его волю, и он сгорел — бы со стыда, если б я заставил его в этом признаться. Мне стало его жаль. Снова захотелось любой ценой защитить его от реальной опасности — не спасти от грозившей ему беды, но указать ему на самообман. Он старался ускользнуть, не хотел осознать свои побуждения, тешился несбыточными мечтаниями. Такое поведение было тем более странным для человека его характера, обладающего разносторонними способностями, не склонного к иллюзиям, но практического, твердо стоящего на земле. Это была какая-то смесь трезвости и сумбурности, озадачившая Мелу. Я разбирался в нем лучше его отца, но и мне нелегко было понять, как уживались в одном человеке такие противоположности.
— Разумеется, он расстроен, — заметил я, не находя слов утешения.
Лукан подхватил мои слова.
— Вот именно, во всем виновата эта злосчастная Епихарида. Как только он услыхал об ее аресте, он стал ждать, что его вызовут к префекту. — Он пожал плечами. — В таких случаях отец теряется. — Потом он добавил не без злорадства: — На беду, мать захватила с собой своего лучшего друга Канинию. Вероятно, ей не хотелось очутиться с ним с глазу на глаз после всего пережитого за эти годы. У Канинии лицо похоже на сушеную смокву, и она столь добродетельна, что ей недавно поручили надзор над соблазненной весталкой. Тебе известно, что нарушившие обет целомудрия весталки поступают под надзор женщин типа Канинии?
Мне хотелось спросить, известно ли Канинии то, что он поведал своей матери. Угадав мои мысли, он поспешил рассеять мои сомнения.
— Канинии не было, когда мать говорила со мной об Епихариде. — Я заподозрил, что он выдумал это обстоятельство, спасая свою честь, тем более что он тут же добавил: — Во всяком случае, она глубоко предана нашей семье! Ее двоюродный брат женился на моей тетке, и она близкий друг моего дяди Галлиона.
В последующие несколько дней ничего не случилось. Напряжение ослабевало. Я случайно подслушал отрывок разговора между Луканом и Поллой. Она, по-видимому, хотела поехать на несколько недель в Байи в сопровождении своего домоправителя. Лукан возражал, но было неясно, по каким причинам. Ревновал ли он ее к домоправителю или опасался Байи, как места, пользовавшегося дурной славой? Быть может, он, сам того не сознавая, испытывал потребность в близости с женой, но не хотел себе в этом признаться. Правда, такое предположение пришло мне в голову лишь много времени спустя. Возможно, сама Полла хотела, чтобы он себе в этом признался, но он упорно отгонял эти мысли. Уходя, я заметил раба, полировавшего блестящую поверхность стола, и мне подумалось, что он занял удобную позицию для подслушивания. Как могли эти сенаторы, окруженные любопытными и болтливыми рабами, рассчитывать сохранить в тайне свои политические замыслы? Ведь всякий раз, как они предавались любви в собственной постели, рабы подсматривали за ними в щелку двери или сквозь занавесь.
Я отправился в сад, надеясь встретить Герму, ее там не оказалось, но я не стал посылать Феникса на поиски. Мною овладела пассивность, и я избегал всего, что требовало усилий. Пусть обо мне заботятся боги. Мне страстно хотелось покинуть дом Лукана, но я не знал, как это осуществить. Прошлой ночью мне приснилось, будто я собираюсь отплыть из Бетики, на пристани стоит мой отец, как это и было в действительности, но мне привиделось, что корабль отчалил, а я бегу по пристани и кричу, чтобы он остановился. Но корабль ушел в море. Оглядевшись, я увидел, что мой двойник столкнулся с отцом и они куда-то исчезли. Вместо них появилась мать, которая не провожала меня, не желая проливать на людях слезы. Под конец я увидел, как волны захлестнули пристань и смыли с нее мать. Потом я почувствовал, как качается корабль, и увидел, что обнимаю женщину, похожую и на Цедицию и на Поллу; но в критический момент она превратилась в мужчину. Я сказал: «Ты меня обманула, ребенок не мой». И проснулся.
Феникс видел, что я расстроен, но молчал. В его прищуренных глазах светилась грусть, жесткие волосы как-то особенно взъерошены. Я строчил Цедиции одно письмо за другим, но когда я ихперечитывал, они казались мне то слишком холодными, то чересчур страстными, то высокомерными, то фамильярными. Вызвать же ее насмешку значило навсегда ее потерять. Я не знал, как объясняться в любви столь знатной матроне, и чуть не целиком перечитал «Науку любви» Овидия. Но эта книга расстроила меня и не подсказала мне, как ухаживать за замужней женщиной, принадлежащей к высшему классу. Я был не прочь навестить Сцевина, чья вспыльчивость действовала на меня благотворно, или даже Пакония, который мог бы прояснить путаницу в моих мыслях своей размеренной речью. Но я знал, что это будет неприятно Лукану.
Но вот пришла весть: «Встречай меня в Иды за Фламиниевыми воротами. В третьем часу». Без подписи. Но я сразу догадался, что это она. Я узнавал ее запах, видел движения ее рук, каждое слова вызывало ее реально ощутимый образ. В очертаниях букв сквозили гармонические линии ее единственного в мире тела.
Оставалось ждать вечер и целую ночь.
После дневного отдыха мы отправились с Луканом в бани Агриппы. Там была нестерпимая жара. После купания я чувствовал себя совершенно разбитым. Я весь обмяк, и меня мял ловкими руками раб; он натирал меня маслом, пахнущим фиалками, а когда оно впитывалось в кожу, принимался за массаж. Феникс стоял рядом, держал полотенца и улыбался. Пожилой человек, у которого не было слуг, чесал спину о колонну, блаженно зажмурившись. Я задремал, потом очнулся, испытывая невыразимый ужас. Я как бы спустился в свои собственнее недра, как в некий Тартар, и очутился во власти вездесущего зла, в сплетении темных сил и могучих козней. Все лица вокруг виделись мне сквозь желтую дымку безрассудного страха и походили на лица демонов в подземном мире этрусков. Я не мог отличить внешнего мира от видений, порожденных болевыми ощущениями. Если римский мир превратился в этрусский ад, то этот ад отождествился с моим телом, которое корчилось от боли и проваливалось в бездну. До сих пор я еще никогда не чувствовал такой острой близости смерти, грозившей полным разложением моей плоти. Она проникала во все мои поры, в мои внутренности, могучая и беспощадная, но не спешила нанести сокрушительный удар.
Раб окунул руки в тазик с маслом и стал растирать мне плечи. Казалось, он вот-вот переломит мне кости, словно хлебную корку. Но я не в силах был его остановить. Я с ужасом помышлял, что впал в летаргию и буду лежать немой и бездвижный. Усилием воли мне удалось прогнать это оцепенение. Возле меня кто-то напевал: «Ах, с виллы лысый муж пришел». Мы направились в гимнастический зал, где играли в мяч и метали свинцовые гири, нас оглушил плеск воды, возгласы купальщиков, бестолковые споры и бесплодные вопли человека, у которого украли одежду. Разносчики вяло пытались сбыть еду, оставшуюся от завтрака, предлагая пирожные, колбасы, сваренные вкрутую яйца, сыры с клеймом в виде месяца — маркой города Луна.
Лукан, неравнодушный к сластям, подозвал лоточника, купил у него несколько пирожных и тут же сообщил мне рецепт приготовления: наперченное вино, мед, зернышки сосновых шишек, орехи и манная крупа.
— Посыпь жареными толчеными орешками и ешь. — Он улыбнулся и откусил большой кусок. — Некоторые лакомки считают, что пирожные следует еще подержать в снегу. Но для меня они и так хороши.
Я съел пирожное, но не слишком его смаковал.
Мозаики на стенах изображали борьбу, кулачные бои и любовные объятия. Мне бросилась в глаза Венера в объятиях Марса, пойманная в сеть Вулканом. На минуту богиня напомнила мне Цедицию, но я не обнаружил у себя сходства с Марсом и помолился, чтобы испытанный мною страх не предвещал ничего дурного.
Лукан обедал в городе, и я был рад, что остался один. Я обнаружил, что мне ничего не хочется. Решительно ничего. Я вынул свой грязный свиток со стихами Персия, однако мне пришлась не по вкусу его воркотня и осуждение радостей жизни. Но вот я прочел следующие строки:
«Завтра поищем!» — И вот все завтра да завтра. — «Да что же
Важного в дне-то одном?» — Но для нас с наступлением утра
«Завтра» уж стало «вчера» и пропало…
Верно, свобода нужна, но не та, по которой любому
Публием можно стать из трибы Велинской и полбу
Затхлую даром иметь
[130].
Я отложил свиток. Мне больше не хотелось разрешать вопросы совести.
Я увидел Герму в прихожей, но кругом были люди, и я только улыбнулся ей. Полла не вышла к обеду, и мои мысли устремились к ней. Она отказалась от своего намерения поехать в Байи. Феникс передавал мне со слов прислуги, будто она угрожала Лукану переехать в один из его домов в Риме. Месяцев пять назад у нее был выкидыш, и Лукан будто бы упрекал ее в этом. Я не знал, чем были вызваны его упреки, выпила ли она умышленно вина с чемерицей или же просто не уберегла себя. Феникс говорил, что она очень ревнива и по ее настоянию была отпущена на волю флейтистка.
Возвращаясь в свою комнату, я встретился с Поллой. Оказывается, ее просто не было дома. Теперь вокруг нее суетились служанки, и она холодно сообщила мне, что через час она будет в Египетской комнате и не буду ли я так добр прийти туда и разъяснить ей кое-какие непонятные вопросы. Она говорила о литературе. Я заметил, что две или три служанки переглянулись. Правда, я уже привык, что каждое слово и всякий жест отмечались и перетолковывались на все лады в домах патрициев. От Феникса я узнал, что в сборище рабов долго обсуждалось мое положение в доме, решали вопрос, в какой мере мне следует оказывать заботы и уважение.
Я пошел к себе и окунулся в холодную ванну. Освежившись, велел Фениксу причесать меня и помазать мне волосы, что он делал превосходно. Я благословлял Поллу за ее приглашение, которое позволяло мне убить время. Она влекла меня с самого начала, и я порой забавлялся, воображая, будто она в меня влюбилась. Не то чтобы я думал об этом серьезно, но слухи о ее неладах с мужем подзадоривали меня. Если б она и впрямь увлеклась мной, честь и благоразумие не позволили бы мне пойти ей Навстречу. Все же меня разбирало любопытство, и я волновался.
Ей очень шло нежно-голубое платье. Оно было не такое прозрачное, как то, в каком она была во время обеда, но сквозь тонкую ткань проглядывали темные точки сосков. Серебряная тесьма в волосах, ожерелье и серьги из серебряных лунок. Ее серо-голубые глаза порой покрывались дымкой и тогда казались зеленовато-карими. Нелегко было противостоять ее хрупкой нежности, прелести спелого колоса, в этот вечер как-то особенно золотившегося. Я ощутил потребность хотя бы прикоснуться к ее руке. На лице у нее застыло выражение смутного удивления, глаза смотрели пристально, словно оценивая меня. Мне хотелось ей сказать, каким изменчивым кажется мне ее облик. Цвет лица, его контуры и линии тела всякий раз представлялись мне иными. И все же ее неуловимый образ запечатлелся у меня в памяти более четко и прочно, чем образы других женщин. Я позволил себе только спросить, какие литературные вопросы дерзают тревожить ее мысли.
Она посмотрела на меня с искренним любопытством, которое показалось бы оскорбительным и вызывающим, будь у нее не столь благородные манеры. Потом она улыбнулась и сказала, что Лукану не хочется, чтобы она открыто проявляла свой интерес к литературе.
— Как тебе известно, он недолюбливает ученых женщин. Он предпочитает сдержанное, спокойное и бессловесное восхищение. Надеюсь, я не лишена сдержанности, и, пожалуй, постараюсь быть спокойной, на решительно отказываюсь от бессловесности. Когда-нибудь я покажу тебе свои поэмы, и мы вместе почитаем Сапфо и Эринну.
Мы обсуждали проблемы метрики латинских сапфических стихов и сравнивали опыты Катулла и Горация. Я упомянул, что в Кордубе на публичном диспуте доказывал превосходство Горация, но в Риме мои взгляды значительно изменились. Теперь я даже думаю, что если мы прочтем эти поэмы, я отдам предпочтение Катуллу.
— Я того же мнения, — сказала Полла. Потом она спросила, не думаю ли я, что поэтесса добьется большей выразительности стиха и крепости формы, если всецело отдастся любви, подобна Сапфо. Она говорила просто и доверчиво, как если бы обсуждала самые обыденные вопросы.
— Моя подруга Сабиния пыталась сочинять на брачном ложе, надеясь, что от этого стихи обретут большую ритмическую силу, но мне так и не удалось обнаружить, чем они разнятся от остальных. — Она вздохнула и все с тем же простодушным и безмятежным выражением опросила, имеет ли слово «спарта», встречающееся у Гомера в значении «канат», отношение к испанскому ракитнику «спартум», и процитировала строку из второй песни «Илиады»:
Древо у нас в кораблях догнивает, канаты истлели
[131].
Я сказал, что не знаю наверное, но думаю, что едва ли ахейцы торговали с Испанией за много лет до того, как Эней приплыл в Италию. Мне вспомнилось, что Варрон упоминает об этом предмете в своих «Древностях», и я предложил сходить в библиотеку и порыться в свитках. Она сказала, что труды Варрона лежат на полках и служанка их принесет.
Пока искали свитки, мы выпили сладкого густого критского вина из сушеного винограда. Она спросила, о моих планах и впечатлениях от Рима и почему приехало столько танцовщиц из Гадеса. Ее загадочное замечание навело меня на мысль, что она раздумывает, не пригласить ли меня в Байи, и, позабыв о своем решении, я бросил на нее пылкий взгляд. Но все же я непрестанно вспоминал Цедицию и твердил себе, что если я не увижусь с ней, то я погиб.
Принесли свитки. Мы стали внимательно их просматривать. Я развертывал их правой рукой и несколько раз коснулся Поллы плечом. Она поглядела на меня своими огромными глазами, ее губы были совсем близко от моих, и я уловил на ее матово-белом лице какое-то исступленное выражение. Я внушал себе, что нужно ее остерегаться. Мне было неясно, испытывает ли она прилив вдохновения или же ей нравится сидеть рядом со Мной. Быть может, она всерьез поссорилась с Луканом и решила пококетничать со мной, чтобы раздосадовать его и заставить пойти на примирение. В таком случае она в нужный момент оттолкнет меня. А я потеряю расположение мужа и жены. Наконец, мне посчастливилось найти примечание, которое я смутно помнил, в двадцать пятой книге. Я пробежал его глазами и кратко рассказал содержание.
— По словам Варрона, упоминаемый Гомером ракитник рос в окрестностях Фив. Как раз в дни Варрона испанская разновидность растения была привезена в Грецию. Либурнийцы привязывали свои корабли к причалу ремнями, а греки пользовались канатом, свитым из волокон конопли, льна и других растений.
— Теперь ясно, — заявила она, — но у меня есть еще немало вопросов. — Она коснулась моих губ указательным пальцем. — На сегодня довольно. — Она зевнула и потянулась. — Как тебе нравится моя приятельница Цедиция?
Ее вопрос застал меня врасплох, и волнение, вызванное ее прикосновением, вмиг улетучилось.
— Я видел ее только мельком. Она производит впечатление приятной и умной женщины.
— А ее внешность?
— Мне кажется, она очень красива. Но я ее почти не знаю.
Она следила за мной с лукавой улыбкой. Я был окончательно смущен. Уж не рассказала ли ей Цедиция? Если я попытаюсь ее поцеловать, как меня подмывает, она тотчас же сообщит об этом Цедиции. Если она только что-нибудь заподозрила, то проявление моей нежности вызовет смертельную вражду и соперничество закадычных подруг и я попаду в скверную историю. Кто бы от этого ни выиграл, я наверняка проиграю. У меня пропало желание воспользоваться благосклонностью Поллы.
Она сразу почувствовала во мне перемену. Несомненно, у нее были свои намерения. Отстранившись от меня, она отчужденным тоном, холодным и презрительным, сказала:
— В самом деле? Ну конечно, вы едва знакомы.
Она откинулась назад, и приподнялись ее маленькие безукоризненной формы груди, а тонкое, облегающее тело одеяние обрисовало ноги. Я понял, что она меня подзадоривает и ей все известно о Цедиции — то ли та сама ей рассказала, то ли донес подкупленный ею раб Сцевина. Если я не устою, она ухитрится увезти меня с собой в Байи, и тогда прощай навсегда, Цедиция. Я уже сдавался и оценивал создавшееся положение. Меня неудержимо влекло к Полле, к тому же, уехав в Байи, я избежал бы опасности, угрожающей мне в Риме. Но это было бы двойной изменой Лукану — я не только вступил бы в связь с его женой, но и покинул бы его в час грозной опасности, доказывая, что ни в грош не ставлю его дружбу. Таких поступков не прощают. В Байях меня ждало бы неземное блаженство с Поллой, какого я никогда не испытаю нигде на земле. Я спас бы свою жизнь, но заклеймил и опозорил бы себя навеки.
Потом я подумал с болью в сердце, что, должно быть, неправильно расцениваю поведение Поллы. Малейшее посягательство на ее целомудрие, несомненно, вызовет благородное негодование матроны, и она велит вышвырнуть меня из дома. Разве не могла она жестоко отомстить мужу, изобразив меня ему неблагодарным негодяем? Она даже могла рассчитывать, что такой удар сломит его, он заболеет и отойдет от заговора. Возможно, ей хотелось именно его увезти с собой в Байи, а домоправитель и я были всего лишь заслоном, за которым скрывалось ее изобретательное властолюбие. Я чувствовал, что должен что-то сказать или сделать. Время утекало, словно кровь из раны, нанесенной в сердце, я совсем обессилел, и у меня не вырывалось ни слова, ни жеста. Я смотрел на Поллу, и она менялась у меня на глазах. Исчезало ласковое выражение, сменяясь колючей жестокостью. Ее серые глаза блестели, как холодная сталь в утренних лучах. Мне хотелось молить ее в отчаянии: «Скажи, чего ты хочешь, и я исполню твое желание! Открой мне, чего ты хочешь. Я готов изменить всем и всему на свете. Лукану и Цедиции, правде и поэзии, презреть клятву, узы братства, мечты о справедливости, возвышающие человека! Только не мучай меня!..»
— Скажи мне… — начал я, но слова замерли у меня на устах.
— Что мне тебе сказать? — спросила она глухим бесстрастным голосом. — Ах, ты опять о литературе.
Она встала и сложила руки на груди. Теперь я был уверен, что первое впечатление не обмануло меня. Она хотела бежать со мной в Байи. Возможно, я преувеличивал твердость ее характера. Кто-то должен был ее толкнуть на решительный шаг — на отъезд из Рима в этот роковой час. Быть может, ей даже хотелось спасти меня, и она считала, что Лукан злоупотребил благоговением провинциала перед героями и впутал меня в заговор. А теперь я навсегда восстановил ее против себя. Меня угнетало сознание невозместимой утраты, словно я упустил единственный в жизни случай обрести полное счастье на земле. Я не мог отделаться от этого чувства, хотя и убеждал себя, что сущее безумие основывать свое счастье на бесстыдной измене, причем допускал, что все мои соображения были высосаны из пальца.
Она остановилась на минуту в дверях.
— Если в ближайшее время ты увидишься с Цедицией, передай ей, что я прошу ее навестить меня.
Теперь я удостоверился, что Цедиция ей открылась и она хочет, чтобы я это знал. Но я чувствовал, что нас разделяет пропасть, через которую не перекинуть мостика. Я оскорбил ее самолюбие. Я угадывал ее затаенную, как задержанный вздох, мысль: «Кто угодно, только не эта женщина». Я холодел от ужаса, предчувствуя соперничество и вражду, которые возникнут между близкими подругами. Быть может, Полла и обратила на меня внимание, лишь узнав про мое свидание с Цедицией. Но вот она удалилась.
Без нее стало душно и тесно. Я бесцельно бродил по комнате, переставляя вещи с места на место. Потом мой взгляд упал на Феникса, который стоял в дверях с убитым видом.
— Может, положить свитки на место? — спросил он, и тут я заметил, что наступил на двадцать пятую книгу и смял ее.
И все-таки спал я крепко, хотя и поворочался некоторое время, прежде чем уснуть. Утром, завтракая булочкой с медом, я старался истолковать поведение Поллы.
Перед сном я твердо решил, что она стала моим смертельным врагом. Какие бы цели она нм преследовала, устроив встречу со мной, ей не удалось их достигнуть. Будь то влечение ко мне, желание отомстить Лукану, попытка спасти его, надежда увезти его или отвлечь от овладевших им мыслей о заговоре. Но теперь, в бледном утреннем свете, когда по дому сновали и шумели рабы, которые только и думали, как бы посытнее поесть и поменьше работать, возложив заботы, сомнения и тревоги на господ, — теперь мне представлялось, что мои предчувствия лишены основания. Полле попросту хотелось как-то провести время, и тут подвернулся я. Ни влечения, ни отвращения ко мне она не чувствовала. Я был для нее ничтожеством, и она вспоминала обо мне, лишь когда я попадался ей на глаза. Возможно, она нуждалась в разрядке после длительного напряжения, вызванного арестом Епихариды. Она излила на меня долго сдерживаемые чувства — только и всего. Это не будет иметь никаких последствий. Я испытывал облегчение при мысли, что не обнаружил ни подлости, ни глупости и уклонился от непрочной и бессмысленной связи. Я предпочел бы, думалось мне, очутиться перед лицом разъяренного Нерона, чем перед обманутым Луканом.
С другой стороны, мои отношения с женой Сцевина ничуть не тревожили мою совесть. Он мне еще больше нравился из-за того, что я разделял с ним ложе Цедиции, если только он снисходил до ложа супруги, а не предпочитал ей, подобно большинству представителей высшего римского общества, шлюху, гулящую вольноотпущенницу, развратную матрону его круга или же льстивого и плаксивого мальчишку. Связь с Цедицией ставила меня на одну доску с ее мужем, и я мог вместе с ним во весь голос глумиться над миром. Не было нарушено никакое соглашение. Его поведение было таково, что если б он меня уличил, то не имел бы морального права негодовать.
Вытерев руки полотенцем, я подошел к окну и увидел Герму. Кого же она мне напоминала? Она робко взглянула на меня и, когда я помахал ей рукой, поспешно ушла. От Феникса я узнал, что она умеет себя поставить с рабами и у нее нет любовника. Она спала в комнате старухи Капразии, которую все считали колдуньей, потому что, по слухам, она водила дружбу с луной и знала кучу заклинаний. Феникс уверял, что Капразия искусная вышивальщица, дорожит своей репутацией и всеми средствами ее поддерживает. Благодаря дружбе с Капразией девушка могла не бояться, что во время какого-нибудь праздника она попадет в руки какому-нибудь наглому рабу. Мне было приятно узнать, что Герма девственница, и я решил как-нибудь потолковать со старухой. Феникс боялся Капразии, считая, что она может превратить его в лягушку или в летучую мышь.
У Ворот я очутился во втором часу и отпустил Феникса, посоветовав ему веселиться. Народ уже давно выводил из Города и растекался на расстояние доброй мили по полям, расстилающимся вдоль Тибра или между дорогой Фламиния и Соляной. Передо мной зеленели густые рощи, посвященные Анне Перенне, знаменующей бесконечно возобновляющиеся времена года, извечный круговорот. Краснощекие женщины продавали под навесами и с лотков сласти, ватрушки и горячие напитки; сновали разносчики, нагруженные всякой всячиной. Ставили палатки, расписанные красными, желтыми и синими полосами. Весельчаки сооружали шалаши из ветвей и покрывали их туникой или плащом. Я немного прошелся вдоль дороги и поспешил назад, к Воротам, с Трудом пробираясь сквозь толпу гуляющих. Супруги несли детей на спине или на руках или везли в тачках и тележках, иные из которых были сделаны искусно, а другие сколочены на скорую руку. Старухи тащили корзинки с провизией, бормоча себе, под нос, подбородок у них был подернут пухом, точно оплетен паутиной, они думали о давно минувших веснах, когда им приходилось крепко сжимать колени при виде кавалеров; но они забывали об опасности в минуты свидания, когда поцелуй налетали на них роем бабочек. Взявшись за руки и оживленно болтая, шли влюбленные, зная, что, как бы они ни спешили, им не догнать быстролетное наслаждение. Иные шли в одиночку, надеясь, что в этот день им будет послан чудесный спутник, который явится из мира мечтаний или из цветущего куста в ослепительном сиянии крыльев. Но большинство шло по двое, или группами, или целыми компаниями. Каждый горячо убеждал товарищей, что он нашел самое подходящее место, где можно пить, есть, петь и сколько угодно валяться.
Землю за Воротами устилал мусор — объедки, потерянные ленты, осколки кувшинов, сырные корки, огрызки фруктов. Девушка, потерявшая плащ, придерживая рукой полные груди, уговаривала солдата, стоявшего на часах, отправиться с ней на его поиски. Пятнистая собака шныряла в толпе, разыскивая хозяина. Плакал ребенок. Пьяный, пошатываясь, нес на голове кувшин. Держа за ноги, вниз головой встряхивали мальчика, проглотившего брошь. Девушка, сняв сандалии и балансируя на одной ноге, тыкала пальцем в свежую дырку на подошве, другая визжала от страха, потому что у нее в волосах запутался жук. И все веселились. Плащ разыскали, он висел на колесе телеги, нагруженной бочонками с вином, и девушка поцеловала солдата. Собака стащила кусок свинины и пожирала, давясь от жадности. Ребенок вырвался и побежал к матери; пьяница весь облился вином, девушка швырнула дырявую сандалию, а вслед за ней и целую, угодив солдату в голову, и пошла босиком. Жук улетел, испуганную девушку поцеловали в шею. Все веселились. Повсюду раздавались песни, они звучали все громче, их подхватывали со всех сторон, и они улетали в солнечную высь. Вещи терялись и находились, находились и снова терялись, земля была усеяна отбросами, собаки лаяли, и девушки откидывали волосы назад. Косоглазый пьяница сидел на камне, отбивая ритм мелодии, которую, как ему казалось, напевал он сам, а может, и кто-то другой. Девушка стояла на голове. Мальчишка метнул обруч в толстую женщину, которая почесывала спину между лопатками. На медленно ступавшего осла забралось пять ребятишек, цеплявшихся друг за друга. Люди запускали пальцы в паштет, молясь, чтобы им довелось прожить столько лет, сколько раз они поднесут руку ко рту. Кто пел старинную песню, кто мурлыкал злободневные куплеты. Мать стегала корень, о который споткнулся мальчик, и тот помогал ей его бить. Скверное дерево.
Я прислонился к стенке Ворот и оглянулся на дорогу. Но трудно было стоять спокойно. Слепой играл на лире, мальчик кувыркался, сорвавшаяся с привязи коза боднула толстяка, который продавал катышки из сыра, поджаренного с манной крупой и посыпанного маком. Людской поток снова увлек меня за Ворота, но, охваченный тревогой, я пробирался назад. Я опасался, что Цедиция проскользнет мимо меня и я потеряю ее в этот солнечный день, овеянный свежим ветром, в день, когда на глазах распускались цветы и девушки гордо выставляли вперед острые груди. Неподалеку от меня подросток напевал:
Ах, упал я в тенета любви,
Словно в суп — таракан злополучный.
Кролик — самая мудрая тварь,
Он сидит в своей норке укромной.
Ему отвечал чистый девичий голос:
Ты упал, так в тенетах сиди
И свой долг исполняй неуклонно.
Всех мудрее созданий на свете
Крот, что роется молча в земле
[132].
Было уже половина третьего пополудни, когда она пришла. Я был почти уверен, что пропустил ее, не заметив в водовороте людских тел, мое внимание могло отвлечь какое-нибудь происшествие — опрокинувшийся возок с салатом и маринованными маслинами для гуляющих, человек, споткнувшийся на дороге и вывихнувший лодыжку, толпа, обступившая пойманного карманника. Я все время испытывал странную раздвоенность: мне хотелось и стоять на месте и повсюду ее искать. Но когда она появилась, я пристально смотрел на нее и не узнавал. Я приметил женщину с благородной осанкой, закутанную в плащ, но дал ей пройти, не окликнув. Но вот она обернулась, и я услышал голос Цедиции. Она была в плаще с красным капюшоном.
— Мне давно хотелось посмотреть на праздник Анны. — Она подхватила меня под руку. Я сразу повеселел, и меня бросило в жар. Но тут же я вспомнил ее капризный нрав и пожалел об утрате Поллы, которая — я в это верил — отдалась бы мне, если бы я приложил старание. К счастью, Цедицию занимало царившее кругом оживление, она смотрела по сторонам, все ее забавляло, вызывая возгласы восхищения. Теперь на равнине толпилось еще больше народу, многие направлялись к реке, иные бежали стремглав, догоняя друг друга, другие слонялись, выделывали зигзаги, трусили рысцой, бежали наперегонки, кто скакал, кто медленно тащился, люди сталкивались, падали, перепрыгивали друг через друга, подскакивали, чтобы сорвать ветку с дерева или поймать бабочку, и кричали во всю мочь. Цедиция пожала мне руку, и я почувствовал к ней прилив нежности. Имел ли я право досадовать, что она не бросилась мне на шею, когда мы очутились вдвоем? Разве она не постаралась устроить нашу встречу, зная, что я мало знаком с Римом? Из-за меня она пренебрегла приличиями — мог ли я требовать большего? Она умышленно отсрочила второе свидание, опасаясь мне приесться. В сущности, я сердился на Цедицию за то, что потерял из-за нее Поллу, хотя та никогда не могла бы мне принадлежать. Ребяческая обида.
Позабыв о своих сомнениях и страхах, я тоже стал смотреть на влюбленных, и вид их веселил меня и радовал. На траве лежали, обнявшись, любовники, всюду пели, пили вино, шептались. Росло и росло число зеленых шалашей, причем иные из них были так тесны, что из них торчали ноги. Мы остановились у ларька, чтобы купить вина, и я стал вполголоса декламировать стихи Овидия, посвященные этому празднику, которые выучил наизусть в Кордубе, не подозревая, что увижу все это воочию:
Вот праздник настал веселой Анны Перенны.
Близ твоих берегов, Тибр, собирается люд.
Бродят плебеи толпой, растекаются шумно по лугу.
Пьют и, обнявшись, лежат пары влюбленных кругом,
Прямо под небом одни, другие ставят палатку.
Те из пышных ветвей ловко сплетают шалаш,
Из камыша мастерят остов иные, а сверху
Кроют его кое-как, тогу свою растянув.
Солнцем пьяны и вином, столько лет себе просят,
Сколько выпьют они нынче кубков вина.
Тот уже допился до Нестора лет преклонных,
Та заслужила питьем древние годы сивилл.
Что-то мурлычат, поют песенки ходкие мимов,
От души веселясь, такт отбивают рукой.
Там, нахлебавшись вина, ведут хороводы и пляшут,
Скачет красотка с дружком, кудри свои распустив.
В город, шатаясь, бредут, взоры всех привлекая,
И блаженными их каждый встречный зовет.
Вот что я видел на днях: с гулянья домой возвращаясь,
С пьяной старухой женой брел, спотыкаясь, старик
[133].
Цедиция поцеловала меня в щеку.
— Чудесно! — похвалила она. — Ты сочинил эти строки, пока ожидал меня?
Я не знал, что ответить. У меня и в мыслях не было приписать себе эти стихи; но если сказать ей, что они принадлежат Овидию, она рассердится, что попала впросак. С другой стороны, если она узнает, чьи это стихи, не сейчас, а позже, она еще пуще обидится, вообразив, что я все подстроил, чтобы посмеяться над ней. Я пробормотал что-то невнятное и сделал вид, что поперхнулся вином. Подъем, испытанный много при чтении стихов, улетучился. Я испытывал странное чувство, сопоставляя Знакомые поэтические образы с действительностью; мне казалось, что кипевшая вокруг меня жизнь стала еще реальней, словно стихотворный ритм пронизывал разыгрывавшиеся повсюду буйные сцены, упорядочивая их, а поэма обретала новый размах, выражая в скупых словах великую реальность веселья. Тут меня осенило, что, знакомясь с Римом, я воспринимал его сквозь призму поэзии, — мои переживания были навеяны не одной этой поэмой, а всеми стихами, какие я когда-либо прочел, написал или мечтал написать. Но и все происходившее со мной было воплощением знакомых ритмов и образов. Эти волнующие переживания рассеялись, сменившись неприятным чувством, когда я вспомнил ошибку Цедиции, приписавшей мне отрывок из «Фаст».
— Будем пить! — сказал я, пытаясь побороть свое смущение. Анна знаменовала смену времен года, извечное возрождение природы. Ей было угодно, чтобы здесь, в этом зеленом святилище, где царило веселье, жертвовали девственностью, ибо это способствовало обновлению мира.
Мы прогуливались, держась за руки, как и прочие влюбленные. Купили две фляги вина, продавец, отъявленный плут с крючковатым носом, уверял, что это настоящее аминейское из Пуцена. Мы снова пили и смеялись, когда вино, отдававшее смолой, потекло по подбородку. Я вспомнил, как Цедиция обрызгала меня вином в комнате над лавкой.
— Откинь капюшон, — сказал я ей, и она смиренно Повиновалась. Ее широкое лицо сияло восторгом и щеки пылали. Возле уголков рта обозначились ямочки, крохотные, как беглый солнечный блик. Но ее черты казались грубыми по сравнению с чертами Поллы, и я испытывал некоторое разочарование. Может быть, я ошибался, но мне думалось, что я понимаю Поллу и мы с ней общаемся как равные, по крайней мере в минуты, когда она расположена ко мне. Но, имея дело с Цедицией, я всегда чувствовал, что она смотрит на меня сверху вниз, даже когда она отдавалась мне. Меня обескураживали ее холодный ум и житейская опытность. А в Полле было столько непосредственности. Все же лучезарный день и бурлившее вокруг веселье сделали свое дело, и Цедиция вовсе не собиралась ставить меня на место.
Ее покинула обычная сдержанность. Мы снова пили. Когда, укрывшись за шалашом, упавшим на слишком пылких любовников, мы слились в долгом поцелуе, Цедиция сделалась покорной и ласковой. Внезапно я почувствовал, что не хочу никого, кроме нее. Полла была капризным испорченным ребенком, порой чарующе нежным, но Цедиция была взрослой, щедрой на ласки женщиной, и мне было всего желанней ее пышное, ласковое тело, ее волнующаяся грудь. Меня захлестнула бурная радость окружающей нас толпы. Мой восторг как бы сливался со всеобщим восторгом. Еще никогда не испытанное мною сознание всеобщего единения. Но я знал, что лишь потому могу сливаться с ликующей толпой, что у меня своя особая судьба, о которой не подозревает ни один из множества окружавших меня людей, обнимающихся и пьющих вино. Я дал клятву освободить этот народ и готов был умереть за это великое дело. И не имело значения, что все эти люди не сознавали своего рабства, не жаждали, чтобы их освободили герои, взявшие на себя эту опасную миссию. Союз, в который я вступил нехотя, в силу личной зависимости и случайного стечения обстоятельств, был для меня теперь ясен, как солнечный день, согревал мне сердце, как бездумные объятия, восхищал, как обряд возрождения вселенской жизни. Все лица были различными, все лица были одинаковыми. В каждом сердце трепетала все та же радость, хотя каждый испытывал различные ее оттенки и выражал ее в различных движениях. Ведь это был день Анны, когда слышится биение сердца Матери Земли — благодатной Венеры. Распевавшие вокруг люди не знали, какой тяжелой задаче я посвятил себя. Сейчас не было разъединения, не было различия между свободой и рабством. Все мы родились для этого часа. Для этого единения. И только здесь испытывалась доблесть, искренность подвига.
Мы купили еще флягу вина у болтливой старухи, которая клятвенно уверяла нас дрожащим голосом, что это лучшее розовое вино, настоянное на свежих лепестках, она трижды в неделю меняла их, а накануне подсластила его медом. Она сообщила нам, что родилась в день Анны, в год смерти божественного Юлия. Родиться в день, когда умер Цезарь! Ее слова глубоко меня взволновали, хотя ей не могло быть ста десяти лет. Возможно, ее мать родилась в Мартовские Иды, когда был убит Цезарь. На вид ей было лет восемьдесят, может, немногим больше.
— Я никогда не пропускаю праздника Анны, — говорила она, — хоть на четвереньках, да приползу, и, покуда я в силах приходить на праздник, я не умру.
У мужчины, стоявшего рядом с нами, сидел на руке зеленый попугай, то и дело повторявший: «Анна Перенна». Когда птица замолкала, хозяин легонько ударял ее по голове железным дротиком, поясняя, что это лучший способ обучения попугаев. Тут же ловили и поймали вора. Мы снова выпили вина.
Я вспомнил эпизод из «Анналов». Когда восставшие римские плебеи покинули город и расположились на Священной горе, у них недоставало хлеба. Старуха из предместья Бовилл, повязав платком свои волосы, дрожащими руками напекла для них хлебцев и еще горячие стала раздавать голодным. Потом, когда народ вернулся, в Рим, он воздвиг статую в честь Анны. Я видел перед собой ту самую легендарную Анну, только в руках у нее не хлебцы, а сосуд с розовым вином. Эта мысль воодушевила меня, и я по-новому почувствовал, что это поистине праздник простонародья и в нем таится зерно восстания.
Мы вошли в рощу. Вскоре мы отыскали в гуще кустов укромный уголок, хотя со всех сторон слышались вздохи, стоны и приглушенные смешки влюбленных. То и дело кто-нибудь раздвигал укрывавшие нас ветви, смеялся и уходил прочь.
— Все это восхитительно, — сказала Цедиция, — хотя я представляла себе еще более упоительную идиллию.
Она говорила по-гречески, на языке, который был в моде у просвещенных любовников. Это стало меня раздражать. Вдобавок ее слова не вязались с окружающим, она как бы отгораживалась от него, подчеркивая свое неоспоримое превосходство, от которого, я полагал, она отказалась. Я только что подумал, как ее захватил праздник, как она царственно спокойна и ласкова, и сравнил ее с беспокойной Поллой, которая пришла бы в восторг, бурно восхищалась бы, а потом, поостыв, стала бы все критиковать, то воображая себя на древнем празднестве, то сердясь на какую-нибудь грубую выходку простолюдина.
Я не высказал своих чувств, но, помолчав минуту, спросил:
— Почему ты так медлила с ответом?
— Почему же ты ждал так долго, о любовь моя, жизнь моя? — ответила она ласкающим голосом, но снова на греческом языке, на котором ей было легче, чем на родном, выражать эти нежности с иронической интонацией. Эта скрытая насмешка задела меня. Она продолжала, обращаясь и осенявшим нас зеленым ветвям: — Я дважды дарила ему свидание, а он жалуется на мою холодность. Какая же возлюбленная ему нужна?
— Мне очень хотелось тебе написать. — Я не мог признаться, что боялся нарушить правила приличия, принятые у римских матрон, изменяющих мужьям. — Но не смог осуществить это желание. Марк просил меня не встречаться со Сцевином и Наталисом. Я не знал, как дать тебе знать о себе.
— Для этого не надо было прибегать к помощи моего мужа. — Она сломала ветку и пощекотала листьями мне лицо. Я почувствовал, что она рассердилась. Но она продолжала все тем же мягким голосом: — Сочинил ты по крайней мере поэму в мою честь?
— Я слишком по тебе тосковал.
— Значит, ты не слишком хороший поэт. — Она протянула мне ногу. — Разуй меня. — Я опустился на колени, развязал шнурки и снял сандалии с ее пыльных ног. Но когда я позволил себе вольность, она опрокинула меня, мягко толкнув левой ногой в грудь. Я оцарапал ухо о сучок. — Мы не потомки Анны.
— Это не делает нам чести. — Я отодвинулся от нее. — Зачем же ты позвала меня?
Вероятно, она досадовала, что так легко отдалась мне в тот раз. Я решил ничего больше не предпринимать и порвать с ней, вежливо проводив до носилок, которые должны были ждать ее у Ворот. Мне было невыносимо ее высокомерие.
Не обращая внимания на мой гнев, она вновь заговорила о моих переживаниях, на сей раз по-латыни.
— Скажи правду. Ты был поглощен своими делами и тебе некогда было думать-обо мне.
— Я только о тебе и думал. — Она не ответила, и я добавил: — Правда, я был встревожен и многим другим.
— Я вижу, ты начинаешь говорить правду.
Я решил возобновить нападение.
— Уж не пригласила ли ты меня сюда обсуждать мои дела? Только дела тебя интересуют?
— Не скрою, и они.
Я продолжал, добиваясь своего:
— Что нового я могу тебе рассказать? Доверяет ли тебе муж? Или тебе нужен любовник, чтобы говорить с ним о политике?
Она улыбнулась и откинулась назад, поглаживая себе колено.
— Что ж, и для этого тоже. Неужели ты думаешь, что я стану с мужем говорить о политике? Мы оба слишком заняты. — Ее неловкий ответ доказывал, что я напал на верный след. Мне хотелось узнать, любит ли она своего никчемного супруга или попросту обижена, что он не посвящает ее в свои дела. Их отношения были для меня по-прежнему загадкой.
— Почему ты не расспросишь Поллу, вместо того, чтобы терять на это время со мной? Ведь она — твоя подруга.
Я сразу понял, что сказал нечто неподобающее, но и глазом не моргнул. Я спокойно смотрел ей в лицо.
Она сдула прядку волос, упавшую на глаза, откинулась назад. Легкая ткань скользнула, обнажив правое колено.
— Во-первых, я еще ни о чем тебя не спрашивала. И потом, почему я должна обращаться к Полле, если я хочу знать о ваших делах? Она что-нибудь сказала?
— Ничего, — поспешно ответил я.
— Почему у тебя такой смущенный вид и ты отводишь глаза? Отчего бы Полле не говорить с тобой обо мне.
— И все-таки она не говорила. Я думал, ты дружишь с ней, — мне что-то говорил мой раб Феникс, он слышал об этом от слуг.
— Ты заставляешь своего раба пересказывать тебе пересуды, — мягко проговорила она, откинув назад голову. Она согнула левое колено, и бедро чуть не до половины обнажилось.
— Нет. Но ты знаешь, что такое рабы.
— Ты поручил ему собрать сведения о Полле или обо мне?
— Я ничего ему не поручал.
— Он понимает тебя без слов?
Я увидел с досадой, что она меня поймала, и молчал, срывая травинки и разрывая их ногтями на куски. Но вот я услыхал ее мягкий смешок и, обернувшись, увидел, что она ждет меня. Я придвинулся ближе к ней, и она схватила меня за плечи. На мгновение она приподнялась, и я упал на нее, увлекаемый тяжестью ее тела.
XII. Марк Анней Лукан
Он сумел избавиться от двух приглашений на церемонию облачения сыновей сенаторов в мужскую тогу. По традиции она происходила в день Либералий[134]. Некогда в этот день созывалось ополчение свободных граждан и представлялись собранию новые граждане. Но и теперь старухи, именовавшие себя жрицами Цереры и увенчанные плющом, ходили с жаровнями по улицам, предлагая покупателям для жертвоприношения горячие медовые лепешки, разрезанные на куски. Он послал раба купить несколько лепешек, наказав, чтобы самый большой кусок был сожжен на домашних алтарях. Прошло уже немало времени после ареста Епихариды, и можно было сослаться на недомогание, не опасаясь, что это будет истолковано врагами ему во вред. Ему показалось, что он и вправду простужен, и он позвал врача-раба, купленного пополам с Мелой. Раб — ученый грек Митридат — писал трактат о лихорадках.
Митридат внимательно его осмотрел и обратил внимание на его сухой кашель.
— Я советую тебе читать вслух, пока ты не устареть, — сказал он. И добавил со сдержанной улыбкой: — Или пока тебе не надоест. Но это будет зависеть от автора, на котором ты остановишь свой выбор. Сначала кашель будет тебе мешать, но потом он успокоится. Пей через день иссоп. Немного побегай, задерживая дыхание и удостоверившись, что дорожка не пыльная. Впрочем, тебя можно избавить от всех этих упражнений, — продолжал он, взглянув на грузную фигуру Лукана. — Достаточно прогулки. И пусть тебя понемногу массируют. Пусть покрепче растирают грудь. Наконец, вели сварить на углях три унции спелых фиг и съешь их. Если после всего этого кашель не пройдет, позови меня снова, и мы попробуем ассафетиду, морской лук и вино с чесноком.
Лукану показалось, что кашель досаждает ему серьезней, чем он думал. Сперва он кашлял, когда ему этого вовсе не хотелось, теперь же не надо было притворяться — он по-настоящему кашлял. Быть может, болезнь уже сидела в нем и мысль притвориться простуженным подсказал ему притаившийся недуг. Он вежливо спросил врача, как продвигается его трактат о лихорадках. Само собой разумелось, что книга будет посвящена ему.
Митридат, человек хрупкого сложения, с мелкими, четкими чертами лица, улыбнулся и печально покачал головой.
— К сожалению, в противоположность другим авторам, я никогда не утверждаю того, что не проверено мною на опыте. К тому же я придерживаюсь того принципа, что лучшее лекарство — это здоровая пища, принимаемая в надлежащее время. Этот принцип нелегко проводить в жизнь в мире, где люди в большинстве случаев едят слишком мало или слишком много, чересчур уж много. Но это общее положение, и остается открытым вопрос о том, какую пищу следует принимать в каждом отдельном случае и когда ее надо принимать. Я хочу сказать, в какой стадии заболевания. Однако я не буду утомлять тебя своими заботами.
— В своем роде это тоже философия в широком значении этого слова, — ответил Лукан и тут же подумал, что делает красивый жест, поощряя науку, основанную на опыте. Ему не хотелось оставаться наедине со своими мыслями.
— Ты очень добр, — сказал Митридат, не обращая внимания на снисходительный тон своего господина. — Тебе известно, что сказал Гиппократ: «Болезни следует лечить, принимая во внимание общие свойства человеческого естества и особенности каждого». Я разделяю его взгляды. Я мог бы от себя добавить: …и принимая во внимание симптомы каждой болезни и ее проявления в каждом отдельном случае, а также возраст, климат, пол и бесчисленные свойства, из которых слагается человек.
— Все это очень интересно, и я уверен, что тебе удастся полностью выразить свои мысли в этом труде.
— Да, я намерен предпослать трактату предисловие, где постараюсь доказать все значение теории, применяемой на практике.
Они поговорили некоторое время. Потом Митридат поклонился и ушел, выразив признательность за благосклонное поощрение его работы. Лукан тут же громко закашлялся. Решив испытать благотворное действие чтения вслух, он начал с первой книги «Фарсалии». Но кашель не унимался. Он приказал принести чашку иссопа. Это вызвало переполох на кухне, ибо в кладовой, где хранились сушеные травы, ничего такого не нашли. Шесть рабов были тотчас посланы в разные места купить иссопу. Пока домоправитель с убитым видом просил извинения, доложили о приходе матери Лукана. Новый приступ кашля помешал Лукану отказать ей в приеме, сообщив, что его нет дома. Пользуясь правами матери, Ацилия вошла без доклада, ее сопровождала престарелая сгорбленная матрона, которую Лукан не сразу узнал.
Он дал знак дворецкомуудалиться.
Она стала настойчиво расспрашивать его, чем он лечит кашель, и, узнав про Митридата, с сомнением покачала головой и велела подробно рассказать, что тот ему предписал.
— Не понимаю, почему он посоветовал тебе гулять или бегать, — сказала она строго. — Кое-кому это может и полезно, но не тебе. Ты вспотеешь, и кашель усилится, вдобавок ты получишь насморк. Иссоп и фиги я одобряю.
Она подозвала свою приятельницу Канинию, и они принялись обсуждать состояние здоровья Лукана, пристально в него вглядываясь, перешептываясь, то и дело качая головой. Каниния считала, что ему следует тотчас же выпить вина с чесноком, которое полезнее иссопа, хотя одно не исключает другого. Потом они энергично подхватили его под руки и увели в самую солнечную комнату. Там они его уложили и завернули в одеяло. И когда он оказался в ее власти, Ацилия сообщила о цели своего прихода.
— Я видела твоего отца, Марк, и должна с огорчением сказать, что он недоволен твоим поведением. Очень, очень недоволен.
— Он ничего обо мне не знает. Я отказался с ним обсуждать что-либо, кроме финансовых дел.
— Ты знаешь, Марк, что у меня с твоим отцом немало разногласий. Он упрям, из-за его характера с ним трудно жить, у него свои привычки, о которых не стоит говорить, поскольку они касаются его супруги, а не сына, к тому же он страдает болезнью желудка и поэтому особенно раздражителен. Все же этот человек достоин всяческого уважения. Я считаю, что ты должен следовать его советам и примеру.
— Пусть так, — устало сказал Лукан.
— Значит, ты отказываешься от своих ужасных идей и замыслов? Не смотри такими глазами на Канинию. Ты знаешь, она предана тебе и нашей семье. Она будет молчать так же, как и я, если от этого зависит наше благополучие.
— Вот именно, вот именно, — отозвалась Каниния, сообразив, что должна что-то сказать. — В самом деле, полечись от кашля, Марк. Я всегда говорила, что ты слабогрудый.
— Раз и навсегда, мать, — заговорил Лукан, выбираясь из-под покрывал и усаживаясь на ложе. — Прошу тебя не вмешиваться в дела, в которых ты ничего не понимаешь. И не приписывай мне ужасных идей. Ты накличешь беду на всех нас.
— Будь добр, скажи, чего я не понимаю? Ты забыл, что мой отец был известный юрист в Кордубе? Он частенько говорил, что у меня склонность к юриспруденции, и жалел, что я не родилась мальчиком.
— В самом деле жаль, — пробормотал Лукан.
Каниния подошла к нему.
— Ты недостойно разговариваешь с матерью. Когда она мне сказала, что ты не в своем уме, я не поверила. Теперь вижу, что так оно и есть.
— Что ж она тебе наговорила?
Но Каниния не слушала, ее подхватил поток красноречия.
— Юния, весталка, порученная моим попечениям по постановлению Коллегии понтификов, Юния, говорю, женщина весьма замечательная, снова заболела, услыхав, что рассказывает о тебе твоя мать, а ведь у нее так мало сил, да будет тебе известно, она так плоха, бедняжка, страдания подействовали на ее рассудок, она волнуется из-за всякого пустяка, теперь она вообразила, что палачи вот-вот придут за ней и закопают ее живой в землю за нарушение обета целомудрия, поэтому ты пошел бы и растолковал ей, что она не отвечает за твои поступки, видишь ли, она ужасается при мысли о государственной измене и по-прежнему уверяет, что это неправда, будто ее двоюродный брат испортил ее в десятилетнем возрасте, то есть пятьдесят пять лет назад, когда, если мне не изменяет память, она была в Сардинии, а у меня на такие вещи отменная память, ибо у родственников были вложены деньги в железные рудники, поэтому ее и привезли в Сардинию, правда, там очень нездоровый климат, даже в лучшие времена года, и, без сомнения, именно там у нее заболели глаза, а ее двоюродный брат только и сделал, что запустил ей под платье змею, безобидного ужа, он вообще любил грубые шутки, глупый был малый, хотя и симпатичный, но с тех пор она никогда ничем не болела, кроме расстройства желудка и тому подобных пустяков, но ей стало худо, когда твоя мать рассказала про тебя, и она вообразила, что ты и есть ее двоюродный брат Марк Азиний Буканор, тот самый, которого судили за растрату в Вифинии, и теперь ей уже ничто не помогает, кроме почечного сала, смешанного с растертыми семенами белены и крапивы в одинаковой пропорции, — это замечательное средство…
— Видишь, Марк, видишь, — перебила ее с торжествующим видом Ацилия, — перед тобой единственный почетный путь…
— Ты совсем не поняла меня в тот раз… — начал было он, но приступ кашля не дал ему договорить. В эту минуту вошел дворецкий и принес в серебряной чаше напиток из иссопа; старухи тотчас занялись лекарством, которое их весьма заинтересовало. В разгар их хлопот поспешно вошла Полла в развевающейся свободной одежде: она услыхала о болезни мужа, но не подозревала, что у него гостьи. Полла отшатнулась, увидев их, и намеревалась выскользнуть из комнаты. Но ее заметили.
— Ах, ты здесь, Полла. Тебя-то мне и хотелось видеть. Я уверена, что ты поддержишь нас и откроешь Марку глаза на его заблуждения.
— Разумеется, — ответила Полла самым любезным тоном. — Но в каких вопросах? У него столько разных дел…
— Ты понимаешь, на что я намекаю, если только он не скрывает все это и от тебя.
— Разве ты что-нибудь от меня скрываешь, Марк? — спросила она все с тем же невинным видом. — О, это меня удивляет и обижает. Неужели ты что-то скрываешь? В чем дело? Ты потерпел денежный крах или у тебя открылась язва желудка?
Он пожал плечами. Тут вмешалась Каниния.
— Это приводит в отчаяние Юнию, весталку, знаешь, ту, что Коллегия понтификов поручила моим попечениям, оказав мне великую честь. Правда, у нее несколько устарелые взгляды, хотя припарки из дегтя с ячменем могут очень даже помочь, ведь ответственность так велика, вот я и убеждала Марка, что следует думать не только о себе, но и о других.
— Марк никогда ничего мне не рассказывает, — обратилась Полла к Ацилии, глядя на нее широко раскрытыми наивными глазами. — А меня так интересуют все его дела. Решительно все. Как бы мне хотелось принимать в них участие!
— Это наконец невыносимо! — воскликнул Лукан, хватив себя по лбу. — Имейте же в виду…
— Это семейное дело, и я имею право обсуждать его с членами нашей семьи.
Терпение Лукана иссякло. Роняя висевшие на нем покрывала, он выбежал из комнаты, несмотря на протесты Ацилии, уговаривавшей его допить иссоп, не отозвавшись на предложение Поллы участвовать в его делах и на обещание Канинии привести Юнию для беседы с ним. Все же он испытывал некоторое удовлетворение, оставляя Поллу в обществе двух старых матрон, которых она ненавидела. Он направился в сад и, убедившись, что никто не подглядывает за ним из-за вечнозеленых кустов, погрузился в размышления. До праздника Цереры еще около месяца. Своей болтовней мать могла очень ему повредить, но он не знал, что предпринять. Может быть, не следовало отказываться от помощи Поллы. Обладая тактом, природным обаянием, умением очаровывать и убеждать, она могла бы повлиять на Ацилию, задобрить ее, убедить, что та ошиблась, и вообще понаблюдать за ней. Это избавило бы его от ложной клятвы, которая никогда не приносит добра.
Он вошел в башню-обсерваторию, стоявшую в глубине сада, и поднялся в верхнюю комнату, но не стал пускать в ход механизм, вращающий купол. Он попытался восстановить душевное равновесие, размышляя на отвлеченные темы: о непрерывности и переменах, о течении и его перерывах, о несоответствии между причиной и следствием и о соответствии между целью и средствами. Углубляясь в эти идеи, он искал ключ к пониманию человека и истории. Все вещи и люди непрестанно пребывают в напряжении, и присущую им форму можно сжать или расширить, но существует исключение — это идеально прямая линия. Прямоту или добродетель нельзя ни ослабить, ни усилить, она остается неизменной.
Мысли его начали путаться, и он потерял нить рассуждений. Он обхватил голову руками и сидел неподвижно, чувствуя, что мысли тревожно разбегаются. Где обрести устойчивую форму? Его уже не удовлетворяла геометрия, объемлющая все формы во вселенной, он больше не видел плавного течения, непрерывной цепи причин и следствий, развертывающейся во времени и в пространстве и порождающей великий поток бытия. Скорее это вспышки свистящего пламени, внезапный взрыв, остановка и снова взлет искр. Быть может, это воспоминание о Великом Пожаре, когда, казалось, наступил конец света и в его голове день и ночь звучала строка Эсхила:
И в тот же день ахейцы взяли Трою.
Конец света, за которым не последует начало нового. Гибель старого мира без надежды на рождение нового. Мир, обреченный на бесконечные родовые муки, но уже не способный обновиться, произвести на свет дитя, которое принесло бы ему освобождение. Необходим меч. Кесарево сечение. Странное и волнующее совпадение: человек, упразднивший Республику и основавший Империю, носил имя, говорившее о том, что он родился не как все люди. И созданная им империя не в силах естественно рождать новые формы и нуждается в освободительном ноже. Злосчастный загадочный мир, мертвый покой или разрушительная буря, молния, падающая с ясного неба, мир губительнее всякой войны и затаенная война, которая не может завершиться желанной победой. Нет ли в самой сердцевине жизни трещины, проглядывающей сквозь показное согласие и гармонию? Не означает ли империя конечного поражения человека, истощения сил и бесславный конец истории в тупике? Эти силы отныне могут проявляться лишь в мгновенной яростной вспышке, которая вызовет повторение прежнего цикла в еще худшем аспекте. Он огляделся по сторонам и увидел, что Полла поднимается по лестнице.
— Не пугайся, — мягко сказала она. — Я отделалась от них. — Он сделал неопределенный жест, выражавший усталость и желание отвлечься. Она подошла ближе и уселась на табурет у слюдяного окна. — Ты рассердился на меня? Но я, право же, не могу иначе вести себя с ней. Мне пришлось разыграть дурочку, чтобы ее спровадить.
Он кивнул. Потом проговорил еле слышно:
— Я хотел тебя видеть.
— Я пришла.
Он не сразу заговорил. Глаза у него были закрыты, пальцы нервно сжимались и разжимались.
— Боюсь, что я не справлюсь с ней. Знаю, она и тебя раздражает, но я был бы тебе благодарен, если бы ты завтра навестила ее и попыталась выбить у нее из головы эти навязчивые идеи. Они опасны. Того и гляди она заразит ими других.
— Хорошо, я это сделаю. И вообще все, что ты пожелаешь.
— Благодарю тебя. — Он неловко взял ее руки в свои и заглянул ей в глаза. — Нам следовало бы быть всегда, как сейчас. — Он перевел дыхание и прошептал: — Мне нужна твоя помощь.
Она теснее прижалась к нему, опершись локтями о его колени.
— Я сделаю все, что могу. Ты это знаешь.
— Да, но я избегаю об этом говорить. Знаю, последние месяцы я был сух с тобой, но у меня столько забот.
Полла придвинула табурет вплотную к его сиденью и опустила голову ему на плечо.
— Сейчас это не имеет значения. Я хочу тебе помочь. Ты обидишь меня, если отстранишь.
— Знаю. — Он попытался преодолеть свои сомнения и страх. — Сегодня я не могу понять, почему так поступаю. Но завтра будет то же самое.
— Ты хочешь быть сильным, сам по себе, и…
— А разве я не такой?
— Нет сильных, — сердито ответила она. — Тот, кто хвастает силой, — лжец и обманщик или он лишь наполовину человек: он что-то убил у себя в душе и стал совсем как зверь в клетке. Одинокий зверь, что расхаживает взад и вперед по клетке и рассуждает о боге. Но он как раз и убил в себе бога.
Он повернул к себе ее голову и посмотрел на нее с насмешкой.
— Кто тебе это сказал? Или ты где-нибудь это вычитала?
— Я читаю это в глазах у людей. Никто не пишет об этом.
Он потрепал ее за ухо.
— Умница. — Он не уловил гневное выражение у нее в глазах.
— Иногда, — ответила она спокойно. — Завтра утром я навещу твою мать.
— Ты снимешь с меня большую тяжесть.
Минута близости миновала, и они уже не знали, о чем говорить. Полле хотелось расспросить его о взятых им на себя обязательствах, но момент показался ей неподходящим. Он может подумать, что она требует платы за оказываемые ему услуги. Лукану хотелось выразить нежность, которую он только что испытал, но он не находил слов. Он привлек ее к себе и поцеловал.
— Мы не должны расходиться. Как делают многие. Я не знаю супругов нашего возраста, которые жили бы в согласии.
Он попытался преодолеть страх потерять ее. Разве он на этих днях не обнимал флейтистку? Но это Сцевин толкнул его в ее объятия. До ночи далеко, и он опасался, что за это время им овладеют сомнения. Когда события развивались стремительно, он проявлял хладнокровие и находчивость. Но он ненавидел ожидание, а теперь вся его жизнь была заполнена томительным ожиданием Цереалий. Ему хотелось отстранить от себя всякого, кто приходил к нему с упреками, оказывал на него давление. Даже Поллу. Пробиться сквозь них и вырваться на волю. Несмотря на всю свою признательность Полле, на желание загладить длительную холодность, сейчас он жаждал остаться наедине с собой. Стоило бы ей уйти, и он стал бы терзаться, ему захотелось бы ее вернуть, он вспомнил бы ласковые слова, которые не сумел ей сказать. Но теперь она раздражала его, и он испытывал нетерпение и досаду. Он закашлялся.
— Посмотри, пожалуйста, готов ли отвар, — пробормотал он. — Не помню, приказал ли я или нет сварить самые спелые фиги на углях. Кажется, он сказал, четыре унции. Чувствую, это мне поможет.
Она встала.
— Я пошлю Герму узнать, готово ли. И сама принесу.
Он снова почувствовал горячую благодарность и пожал ей руку.
— Я не забуду этого.
Она взяла его руку и прижала к сердцу.
— Я люблю тебя.
— Да, — отозвался он, — да.
Она улыбнулась и стала спускаться по лестнице. Он слушал, как она осторожно ступает по узким ступеням. И сидел, подперев голову руками. Ему вспомнились строчки из его поэмы, где говорилось о страхе и о борьбе, и он почувствовал уверенность в себе.
Лязг незримых мечей, голосов зловещих раскаты
В дебрях лесных, к живым приближаются тени умерших
[135].
Еще одна ночь, темный полог, продырявленный звездами, от которого его отгораживает мягко-податливое беспощадное тело Поллы. Он вздрогнул. Если б он мог думать о ней, как о враге, то, конечно, оказался бы на высоте положения. Если б он мог забыть любовь к ней, властное желание удовлетворить и успокоить ее и думать только о мрачном препятствии, преградившем ему путь, он мог бы собрать силы и удовлетворить ее. Рассечь ее, как теплый плод, пробраться сквозь нее и приблизиться к неотвратимому мгновению, когда рассеются иглистые звезды, вспыхнет свет, рухнет последняя преграда и пламя неудержимо взметнется ввысь.
Людям во мраке ночном неизвестные звезды являлись,
Видели небо в огне и наклонно летящее пламя
Факелов в тверди пустой, и комету зловредную, страшно
Космами гривы своей земным грозящую царствам.
Частые молний огни сверкали в обманной лазури,
Всюду в эфире густом разновидный огонь появлялся
[136].
Руки его то сжимались, то разжимались, но в душе его водворялся мир, огненный мир, увенчивающий разрушение и созидание. Он обрел равновесие.
XIII. Луций Кассий Фирм
В доме по-прежнему царили страх, беспорядок и напряженность. Говорили, что Сцевин пьет запоем. К великой досаде Лукана, любимец Сцевина, худой сутулый вольноотпущенник со впалыми глазами, принес ему табличку со словами: «Я настаиваю на своем праве нанести первый удар». Лукан тотчас сжег табличку, предварительно изгладив начерченные на ней слова. Ведь порой, даже когда с дощечки счищен воск, можно прочесть письмо, ибо начертания букв вдавливаются в дерево. Он ответил Сцевину: «Прошу тебя, не пиши мне, ты пьян. Не могу разобрать, что ты нацарапал». И тут же испугался: уж не толкнул ли он Сцевина на какой-нибудь взбалмошный поступок?
Теперь я знал все. За образец они брали убийство Гая Юлия Цезаря. Предполагали, что Плавтий Латеран, несмотря на свои подчеркнутые симпатии к Республике, не возбудит подозрений. Тигеллин и другие будут думать, что человек со столь радикальными взглядами не пойдет на крайности, опасаясь, что его сразу же схватят. Ему и было поручено совершить первый шаг — во время игр броситься к ногам Нерона, словно обращаясь к нему с униженной мольбой. Но вместо того, чтобы обхватить ноги императора, он должен был толкнуть и опрокинуть его. Такому силачу ничего не стоило это сделать. Подбегут преторианцы. Но они не арестуют Латерана, а прикончат поверженного на землю императора. Все участники убийства будут военные, кроме Сцевина, пожелавшего нанести первый удар. Впрочем, Лукан не принимал всерьез это его желание. Тем временем Пизон будет ждать поблизости в храме Цереры. Префект Руф сразу же проводит его в казармы. Преторианцы провозгласят его императором. Испуганная толпа бросится вон из цирка, в панике, вероятно, будет раздавлено несколько сот человек. Преторианцы будут охранять труп Нерона и вступят в бой, если Тигеллин попытается собрать своих сторонников и напасть на заговорщиков. За два-три часа успеют расставить сторожевые заставы гвардейцев на всех римских холмах. Гарнизон и городская стража, без сомнения, присоединятся к гвардейцам. Лукан надеялся также, что Антония, дочь императора Клавдия и Элии Петины, встанет на сторону восставших. В дальнейшем ее роль не была ясна. Она требовала, чтобы Пизон поклялся немедленно развестись со своей любимой женой Аррией Галлой и жениться на ней. С консулом Вестином не вели никаких переговоров. По словам Лукана, он потерял доверие, ибо недавно женился на фаворитке Нерона, Статилии Мессалине. Однако я подозревал, что заговорщики опасаются его республиканских убеждений, в которых он был куда, более тверд, чем Латеран.
Я не был уверен, способны ли столь различные люди — Пизон и Афраний, Латеран и Сцевин, Фений Руф и Наталис, Сильван, Сенецион и другие проявить решительность, мужество, действовать согласно, быстро и без колебаний совершить переворот. Вообще же план казался вполне выполнимым. Связь между заговорщиками поддерживал неприятный мне человек, вольноотпущенник Клавдий Сенецион, он бывал во дворце, и на его посещения виллы Пизона смотрели сквозь пальцы. Я разузнал о нем что мог. Он был неизменным участником ночных оргий Нерона и Оттона, когда Нерон влюбился в юную рабыню Акцию. Теперь Сенецион редко участвовал в возлияниях, но все же сохранил свое положение во дворце. Его зеленые глаза были полускрыты нависшими густыми бровями, а отвислая нижняя губа обличала развратника. На щеке порой резко выделялся шрам, порой был едва заметен на смуглой коже. Он сутулился, и на губах у него вечно блуждала плотоядная усмешка. Он не усмехался, лишь когда я видел его в первый раз, ибо был напуган арестом Епихариды.
Он имел обыкновение пыхтеть, прежде чем начать говорить, словно собирался произнести длинную речь. Для меня осталось загадкой, какую пользу надеялся извлечь из переворота подобный субъект. Несомненно, он вымогал крупные суммы у Лукана и, вероятно, у других, ссылаясь на необходимые расходы. «Надо смазывать пружины замка», — твердил он, делая рукой движение, точно поворачивал ключ, и у него дергалась пересеченная шрамом щека.
Мне очень хотелось обсудить эти дела с преторианцами. Почему-то Лукан пренебрежительно отозвался о предложенном ими соблазнительном плане провозгласить императором его дядю Сенеку. Он назвал это сумасбродной затеей, которой естественно и следовало ожидать от военных, плохо разбирающихся в политике, и не захотел серьезно обсуждать их план. Некоторые из преторианцев, говорил он, считают позором, что ими правит матереубийца, к тому же изнеженный музыкант и актер. Другие придерживались устарелых республиканских взглядов, и им хотелось иметь императора-философа, дабы постепенно упразднить единоличную власть.
— Они рассчитывают, что он уронит свой престиж, проявляя к нему философское равнодушие. У них превратное представление о моем дяде. Во всяком случае, это предложение не имеет практического значения.
Его отнюдь не беспокоило, что после смерти Нерона могут возникнуть серьезные разногласия между военными и гражданскими участниками заговора. Мои предостережения он оставил без внимания. Он был невысокого мнения об интеллекте военных.
Лукан высказал желание, чтобы после провозглашения Пизона императором я сразу же поехал в Испанию и отвез послания правителю Гальбе и кое-кому из видных граждан. Я стал возражать, ссылаясь на скромное положение нашей семьи и свою непригодность для роли посланника. Я всячески старался отговорить его от этого намерения, не признаваясь в своей неспособности. Он решил, что я отлыниваю, просто не хочу покидать Рим (и он был прав). Он пробовал подшутить надо мной, что ему не слишком-то удавалось, и я догадался, что он кое-что знает о моих отношениях с Цедицией. Разумеется, мне хотелось оставаться в Риме, где столько поэтов и красивых женщин, к тому же я был уверен, что эта миссия к Гальбе мне не по плечу.
Несколько раз я мельком встречал Поллу. Она говорила со мной с холодной вежливостью, которая могла прикрывать как неприязнь, так и противоположное чувство.
Однажды я отправился с Луканом и Поллой смотреть пантомиму о Макарее и Канаке[137]. Ее исполнял новейшая знаменитость, актер Клит, выходец из Антиохии. Высокий, гибкий малый с вьющимися волосами и безумным взглядом. Бесспорно, замечательный танцор. Ни в Испании, ни в Массилии мне не приходилось слышать такого превосходного оркестра, состоявшего из цитр, кимвалов, труб, флейт и кастаньет. Говорили, что Клит не пользуется устарелыми текстами. Старые формы сковывают его, уверял он, и ему невыносима мысль, что данную вещь уже затаскали, даже если он впервые с ней знакомится. На сцене все должно быть в первом чтении — лишь тогда он может полностью себя выразить. На эту тему охотно говорили матроны и некоторые знатоки. Я обратил внимание, что Полла, которая накануне в беседе с Луканом и со мной издевалась над Клитом, иначе высказывалась сейчас в этом избранном и возбужденном обществе.
Декорацией спектаклю служила волнистая белая занавесь, падавшая живописными складками. Вероятно, она изображала облака, ибо Канака была дочерью Эола. В музыке слышались то шум волн, то свист, стоны и завывание ветра, аккомпанировавшие движениям актера. Клит исполнял три роли: отца, сына и дочери.
Он неподражаемо изображал юную пару. В роли девушки он был грациозен, и его движения приобретали плавность, а в роли юноши становился угловатым и мужественным, при этом он не менял одежды. В сцене сватовства Клит столь быстро и искусно переходил из одной роли в другую, что, не будь он таким блестящим исполнителем, неизбежно получился бы фарс. В конце сцены юноша и девушка сливались воедино в пленительном прерывистом ритме. Вначале я был настроен скептически, но потом пришел в восторг и принял толкование Клита, покоренный трагической одержимостью двух героев, бросивших вызов всем божеским и человеческим законам. Хор пел в глубине сцены, звучали две основные темы с небольшими вариациями, в кульминации они слились в одну. Непрестанно повторялась все та же мелодия, то явно, то подспудно. Она состояла из трех жалобных нот, передававших стон ветра и муки желания, сладостного и томительного. Признаюсь, я с трудом удерживался от слез в минуты сладостного упоения, сердце замирало, и мне казалось, что проклятие снято с влюбленных.
Вы, зажмурив глаза, над бездной шагаете смело.
И снова:
Взвейтесь, птицы весны, сердца гнездо покидая!
Мелодия была известна, и в публике многие ее подпевали. Это грубо нарушало очарование, созданное Клитом.
Есть великий вопрос; порожден вопросами всеми,
Всеми ответами он, — но нет на него ответа.
И снова:
Ниже склони главу, — от крыльев ужасных спасая!
[138]
Я чуть было не наклонил голову, чтобы меня не задели крылья…
Я слушал и наблюдал, и постепенно рушились мои прежние ограниченные представления о поэзии. Мною овладевал новый строй мыслей, новый вид гармонии, некое пленительное слияние слов с музыкой. То была попытка передать нечто выходящее за пределы общепринятого, старые представления уступали место новому восприятию связи между явлениями мира. Попытка уловить впечатления, подобно тому как ловит солнечные лучи неведомое растение с цветами чудесных оттенков, у которых еще нет названия. И я знал, что сам никогда не овладею этим новым строем, гармонией и формами. Но я ощутил их, словно веяние, пронесшееся в воздухе, и отныне меня уже не могли удовлетворять старые формы.
Я осмотрелся по сторонам, лица женщин выражали исступленный восторг, их груди сладострастно вздымались, руки нервно отбивали такт; иные как бы сладко грезили наяву и лишь усилием воли возвращали себя к действительности. И я ощутил как никогда тайну женщины, ее тела и души, и мною овладело желание, к которому примешивалась жалость и благодарность.
Пронесся слух, что должен появиться император. Он сам исполнял этот танец в прежней постановке, и особенно ему удавалась, как уверяли, роль Канаки. Момент, когда он склонялся до земли, изнемогая от любви, был увековечен в целом ряде эпиграмм: хвалебные читались во дворце, другие вешали на шею статуям в глухих уголках Города. Ходили сплетни, что у императора зуб против Клита, который создал новую постановку, как бы сводя на нет его творческие достижения и тем самым как бы отрицая манеру исполнения Нерона, безумно любившего эти танцы, как избитую и устаревшую. Поэтому публика с нетерпением ждала появления императора. Как он станет себя вести, если придет?
В старой постановке акцент делался на стыд и отчаяние, которые испытывали влюбленные, боровшиеся с овладевшей ими преступной страстью. Отец не играл почти никакой роли, он лишь сурово взывал к их совести. Влюбленные кончали самоубийством. В исполнении Клита они не переживали раскаяния, порой испытывали страх, но были исполнены безмерной гордостью.
Звуки флейт сливались с громом труб. Отец благосклонно смотрит на их дружбу, но застает их за неподобающими ласками. И здесь особенно ярко проявилась способность Клита к перевоплощению. Старик безжалостно преследует влюбленных и под конец в приступе ярости удушает их обоих под бурное стаккато хора и оркестра.
Бури, гряньте на нас и разрушьте мир развращенный!
[139]
Но еще до этой грозной развязки по залу пробежал ропот, пахнуло запахом шафрана, и все головы повернулись направо. Император сидел в золоченом кресле в большой ложе. Там раздвинули занавеси. Возможно, он сидел там с самого начала, раздумывая, какую ему принять позу, и только сейчас себя обнаружил. Он встал и начал аплодировать. Все вскочили с мест и яростно захлопали; мы с Луканом, как и все, смотрели на императорскую ложу, и наши аплодисменты как бы относились к Нерону. Как мы узнали потом, Клит спас себя, заявив, что после ни с чем не сравнимых танцев Нерона он, Клит, не дерзнул повторить постановку и прибег к новой, — слова его были переданы доброжелателями императору. Между прочим, в некоторых его жестах в роли отца усмотрели карикатуру на жестикуляцию оратора Тразеи Пета. Нерону, конечно, пришлась по душе пародия на стоика, который изрек, что ненавидящий пороки ненавидит все человечество. (Мне передавали высказывание Клита, которое он любил повторять: «Когда я изображаю какого-нибудь человека, тот видит перед собой свой образ и до смерти пугается, как бы теряя самого себя».)
Некоторое время я пристально смотрел на Нерона, потом поспешно отвернулся. Стало страшно, могли заметить, что я за ним наблюдаю. Это был крупный мужчина с одутловатым лицом, в его стеклянных глазах светилось безумие, и скорее можно было подумать, что это взор мима, изображающего Канаку, чем взор повелителя, вселенной. Близко посаженные глаза казались маленькими на раздутом накрашенном лице. Рядом с ним я увидел тонкую женщину с пышно взбитыми желтыми, как янтарь, волосами и бледным лицом, на котором алели крупные губы. Я еще потому отвел взгляд от императорской ложи, что заметил Цедицию, сидевшую рядом с Поллой на половине, отведенной для женщин, и смотревшую на меня.
Когда я снова оглянулся, гремели трубы и ложа была пуста: Нерон ушел. Исчезла и Цедиция. Я стал с волнением искать ее глазами, но ее нигде не было. Не оказалось ее и в вестибуле, где мы ожидали Поллу. Сцевин, кажется, отсутствовал. Публика была взволнована, но никто не дерзнул сказать вслух хоть слово об императоре, разве только шепотом, на ухо соседу. Зрители громко, возбужденно обсуждали пантомиму. Матрона, поднося к губам унизанные перстнями руки, говорила:
— Стоило ли поднимать столько шума из-за пустой размолвки!
И я подумал: «Не удивительно, что мы не можем сочинять трагедии, какие создавались в Афинах пить столетий назад…»
Матроне тут же ответила маленькая и шустрая темноволосая подруга:
— Поэтому-то действие перенесли в мифологические времена, моя дорогая.
Томный щеголь добавил:
— Искусство, красавицы мои, не имеет ничего общего с подлинной жизнью. Во всяком случае, хорошее искусство. Так забавно смотреть на сцене какую-нибудь душераздирающую драму, которая в наши дни послужила бы разве что сюжетом для эпиграммы дурного вкуса. Этот ужасный старикашка изъяснялся таким архаическим языком, о нем даже не стоит говорить. — И щеголь стал рассказывать, что проходит курс лечения холодной водой в Тибуре.
— Как понравилось тебе представление? — благосклонно спросил Поллу Лукан.
— Ты заметил на Поппее новую золотую корону с изумрудами? — отозвалась она. — Она казалась такой усталой, бедняжка.
Марциал не без восхищения говорил о философе Музонии. Лукан, когда я упомянул это имя, усмехнулся, но навестить его не пожелал. Я был свободен — Лукан отправился к старому приятелю на Эсквилин, а Полла вообще не появлялась — и решил сходить к философу один. Был день Квинкватров. В рабочей комнате Лукана на стене висел календарь с указанием всех римских праздников и торжеств, составленный каким-то хранителем старины. Церемонии, давно вышедшие из обихода или сохранившиеся в упрощенном виде, были упомянуты там наряду с теми, какие и в наши дни жили полнокровной жизнью. Цитаты из Варрона, Энния, Фабия Пиктора, грамматика Веррия Флакка, из «Фастов» Овидия и тут же выдержки из «Великих Анналов», составленных понтификами; на полях выписки из календарей различных латинских и сабинских городов. По временам я заглядывал в эти таблицы и еще накануне отметил Квинкватры.
«Мальчики и девочки в этот день молятся Минерве». В Риме, как и в Кордубе, мальчиков отпускали из школы, и они приносили своим учителям медяки в качестве жертвы богине. Мы подозревали, что наш учитель оставлял их себе. Кто стал бы его порицать, зная, какие гроши он получал? Наш учитель был родом из Фиден близ Рима.
Мне думалось, что именно в такой день подобает посетить учителя. Я знал, что его дом находился где-то у Септимиевых ворот, неподалеку от еврейской синагоги Августинов. Если создавшееся у меня со слов Марциала представление соответствовало действительности, то Музонию подобало жить в бедном квартале. Мне почти не пришлось расспрашивать: любой встречный мог проводить меня до дверей его дома, стоявшего в конце тупика. Я постучался, меня впустили, не спрашивая имени, и проводили в небольшой садик. У философа было уже человек шесть посетителей. Я узнал его без труда. Приземистый мужчина с добродушным лицом и подстриженной бородой вел беседу, сопровождая свои слова выразительными жестами, он говорил непринужденно, приветливым тоном. Трое его слушателей были молодые люди. Музоний приветствовал меня кивком головы и улыбкой, не прерывая своих рассуждений.
Речь шла, как я уловил, о равенстве мужчины и женщины, о правах женщины на философское образование.
— Образованная женщина, естественно, будет более мужественной. Она никогда не пойдет на низость из страха перед смертью или болью, не будет пресмыкаться перед тираном. Она усвоила высокий образ мыслей. Не воспринимает смерть как зло и не почитает жизнь совершенным благом. Не избегает труда и не гоняется за личными удобствами. Это супруга, способная трудиться и переносить превратности, она вскармливает детей своей грудью, помогает мужу своими руками, не задумываясь, исполняет обязанности, которые некоторые считают унизительными.
Я заметил, что он произнес слово «тиран» без малейшего смущения. Хотя о кое-каких азбучных истинах он разглагольствовал в духе Пакония, общий его тон и характер высказываний были совсем другие. Разумный, вполне земной, без всяких претензий. Он понравился мне с первого взгляда, и мне даже не пришло в голову его спросить, почему такая образованная женщина, как Цедиция, ничуть не похожа на нарисованный им идеал. Вдобавок меня поразили его свобода от предрассудков и нежелание блистать умом.
Пожилой человек сказал:
— Ты хочешь, чтобы женщины проводили время в рассуждениях на тему о добре?
Музоний осадил его, весело выдвинув простые, но убедительные доводы:
— Я вовсе не хочу, чтобы женщины, а также и мужчины пренебрегали своими обязанностями ради споров. Пусть они вступают в диспуты, дабы почерпнуть в них пользу для своего дела, а не увиливая от работы. Рассуждения врача бесполезны, если они не имеют целью сохранить здоровье нашего тела. Рассуждения философа праздны, если они не содействуют совершенствованию нашей души. — Он широко улыбнулся и добавил: — Я не хочу сказать, что женщина должна усвоить все философские термины или отличаться незаурядным остроумием. Избыток этого нехорош и в мужчине. Однако я настаиваю на том, что женщина должна обладать тонкостью суждений и благородством характера. Философия — это всего лишь осуществление душевного благородства в жизни. Она учит женщин, равно как и мужчин, остерегаться жадности, уважать равенство, делать добро и отказываться вредить ближним…
Мы медленно прогуливались по небольшому, чисто прибранному садику. В этом человеке привлекала непринужденность, сочетавшаяся о насмешливым пренебрежением к себе и с известной самоуверенностью. Хотя порой хотелось посмеяться над ним и вместе с ним, это не умаляло уважения к нему. Ничего похожего на меланхолическую важность Пакония. Мы подошли к садовнику, разрыхлявшему мотыгой клумбу. Музоний заметил ему, что надо работать усерднее, взял у него из рук мотыгу и подал ему пример. Слушателями были люди, как видно принадлежавшие к среднему сословию. Они ничуть не походили на сенаторских сынков. Они задавали вопросы практического характера и интересовались ответом, а не только стилем и формой, в которую он облечен. Должен ли человек воспитывать все свое потомство или же избавляться от лишних детей?
— Растить надо всех, сколько бы ни народилось, — отвечал Музоний. — Многочисленная семья — великое благо, и как приятно смотреть, когда родители гуляют со своими чадами. — Я ожидал, что он заговорит о том, как священна человеческая жизнь.
На вопрос, вправе ли человек по своему усмотрению распоряжаться своей собственностью и услаждаться любой из своих рабынь, он ответил:
— Подумай о том, что бы ты сказал, если бы твоя жена вела себя подобным образом с рабами. Полагаю, тебе не понравилось бы, если бы так же поступала твоя незамужняя сестра или мать. Вряд ли ты станешь утверждать, что мужчина слабее женщины и неспособен, подобно ей, управлять своими желаниями и вводить их в должное русло.
Он заявил, что здравомыслящий человек ни за что не станет юристом.
— Философ считает, что лучше терпеть зло, чем причинять его другим. Если он не в состоянии переносить удары, оскорбления, убытки, чего он стоит? Какая тогда польза от философии? Кроме того, помни, большинство поступков порождены невежеством. Мясная пища, — продолжал он, — ведет к полноте и связывает полет ума, не говоря уже о том, что она низводит человека до уровня дикого зверя. Человек должен жить, подобно богам. Они питаются лишь испарениями земли и моря. Предпочтительнее есть все в сыром виде — орехи, свежие овощи, сыр, мед, маслины. Довольствуйся необходимым. В доме должна быть только самая необходимая обстановка. Он должен защищать от непогоды, подобно хорошей пещере. — Музоний, добавил, нахмурив брови, с характерной для него внезапной вспышкой здравого смысла: — Может быть, немного обширнее, чтобы хватило места для хранения провизии. Но никакой роскоши.
Его высказывания по большей части незначительно отличались от рассуждений стоиков и киников с их критикой образа жизни светских людей. Но у него встречались и своеобразные доводы.
— Излишества требуют немалой затраты труда и средств как общественных, так и частных, которые можно было бы употребить с большей пользой для людей. Насколько похвальнее помогать нуждающимся, чем жить в роскошном доме. Насколько благороднее тратить деньги на людей, чем на дерево и камни.
Один из слушателей, заметил, что, строя большие дома, богачи затрачивают значительные средства и дают заработок другим людям. Музоний взглянул на него с лукавой усмешкой.
— Ты приводишь довод в пользу богачей. Но они лучше бы поступили, если бы тратили свои средства, насаждая равенство и братство. Это единственный безопасный путь. — И добавил: — Можно с одинаковым удовольствием вкушать за простым деревянным столом и утолять жажду из глиняной кружки. В самом деле, глиняная посуда нередко улучшает вкус вина.
Обаяние этого человека как-то смягчало его дидактику. Он не предписывал суровых лишений, но приглашал к болей высоким наслаждениям. Он высмеивал женщин, обвешанных побрякушками, и мужчин, сбривающих бороду и усы.
Мы проходили мимо садовника, и я заметил, что он прислушивается к разговору. Музоний обратился ко мне:
— Мы как будто с тобой еще не встречались.
Я извинился за самовольное вторжение и сослался на Марциала, назвав его своим другом. Музоний ответил, что не считает меня назойливым посетителем, коль скоро я пришел в поисках знаний или с намерением ими поделиться. Он взял у садовника мотыгу и принялся энергично разрыхлять землю. Потом он разразился гимном в честь земледелия, противопоставляя его ростовщичеству и другим занятиям, имеющим целью накопление денег. Земля щедро вознаграждает труд, и возделывать ее вполне достойно свободного человека. То, что Гесиод[140] был пастухом, нимало не повредило его поэзии, почему же такое занятие повредит нашей душе?
— Я считаю, что быть пастухом — прекрасно. У нас был бы досуг для размышлений и углубления в вопросы культуры. Нам приходится сосредоточивать внимание на любом деле, требующем значительного физического напряжения. Внимание напрягается вместе с мышцами. Более же легкие работы не отягощают душу и во всех отношениях достойны похвалы. Сельские работы приличествуют мужчине и куда полезнее для здоровья, чем занятия философией, сопряженные с сидячим образом жизни. И поистине достойно человека жить трудами рук своих.
— Но ведь недостойно образованного человека, — возразил молодой человек слабого сложения, — пахать землю наравне с поселянином — разве это не чудовищно?
— Это будет чудовищно, — горячо сказал Музоний, — если оттолкнет человека от философии. Но если молодые люди увидят, что их учитель трудится, осуществляя на практике принципы, к которым мы приходим путем рассуждения, я полагаю, это будет для них полезнее, нежели простое посещение его лекций в городе. Что может помешать ученику работать с учителем и внимать его наставлениям? Таким путем можно многому научиться. Я против мешанины из абстрактных понятий, какую нам преподносят. Подлинный мыслитель сосредоточивается на существенном. Осмелюсь даже сказать, что человек, не способный философствовать, выполняя ручную работу, недостоин называться философом. В деревне молодые люди обладают немалыми преимуществами, день и ночь общаясь со своим учителем, к тому же там они ограждены от городских пороков. — Он еще долго развивал эту тему, настаивая на необходимости сочетать, умственные занятия с физическим трудом.
Хотя он говорил просто и порой шутливым тоном, нередко о самых обыденных предметах, его слова производили на меня сильное впечатление и поражали своим своеобразием. Сперва я испытал легкое разочарование, но оно сменилось убеждением, что передо мною именно тот учитель, в каком я нуждался. Я был сильно взволнован и дождался ухода остальных, чтобы поблагодарить его. Он предложил мне приходить, когда мне заблагорассудится.
— Возможно, — сказал он с невеселой усмешкой, — что в недалеком будущем мне придется осуществить на практике свою теорию о том, что следует сохранять бодрость духа в изгнании.
Я ответил, что в скором времени непременно его навещу. Когда я выходил, прибежала девочка лет шести.
— Отец, — кричала она, — пойди и скажи Гаю, что было неразумно дергать меня за волосы из-за того, что он ушиб себе коленку! — Очевидно, Музоний проводил в жизнь свое учение в собственной семье.
По дороге домой некоторые поучения философа показались мне уже не столь убедительными. Он по-прежнему внушал мне уважение, но было не ясно, как применить его теорию в жизни, Все же его слова, его голос, его лицо вдохновили меня, и я был в приподнятом настроении. Этому содействовали яркое солнце и цветущий миндаль. Я попробовал подвести итоги: чего мне удалось достигнуть в Риме меньше чем за два месяца? Прибытие ночью в конце зимы, февраль с его странными, переменами погоды и медленные помрачения и прояснения в трудных и опасных обстоятельствах, рои умерших, требующих законных даров и умилостивления, мучительные попытки уложить новое в старые формы, нарастающее напряжение и борьба в пределах этих форм, могучее пробуждение земли и победное прорастание новой жизни сквозь твердую почву, закрепление связей с новыми Друзьями, радостное открытие дружеского единения, помогающего преодолеть угрызения совести истрахи, на первый взгляд удручающее торжество вражды и разврата, Анна Перенна и тело Цедиции, новая разумность, возникающая из хаоса слепых, неразумных сил, Музоний, проповедующий век Минервы. Все это как будто согласуется между собой.
Тут я вспомнил, как воспринял вчерашнюю пантомиму, и мне было не ясно, как это сочетать с призывом Музония вести простой образ жизни. Следует ли мне отвергнуть и изгнать из души все, что откликнулось на танец и музыку? С какой-то точки зрения пантомима была продуктом нравственного разложения, там властно звучал призыв поддаться пороку. Но были моменты искренних и глубоких переживаний. Неужели же только разложение? И разве можно предаваться утонченным наслаждениям, проживая в пещере и честно обрабатывая землю?
XIV. Гней Флавий Сцевин
Он ходил взад и вперед по Форуму, и ярость его все возрастала. Голова трещала с похмелья, ему казалось, что он какая-то зловещая птица, хотелось взмахнуть полой тоги и посмотреть, как сбегутся авгуры и станут гадать, какое бедствие он сулит. Он ненавидел всех людей, которые болтают втихомолку и принимают этот ужасный мир. Почему не выхватить кинжал, спрятанный у него под тогой, и не взмахнуть им над головой? Дерзкий вызов. Он вспомнил, что накануне вечером рассказал обо всем Петронию и тот омрачился и посоветовал ему отмежеваться, ибо заговор не может удаться, а если и удастся, будет еще хуже. Так что же остается делать? Преодолеть страх, взглянуть в глаза действительности, доискаться причин развращенности и зла, подробно описать положение вещей, избегая лживых прикрас, к каким прибегают, прославляя глупцов, вроде Катона, ибо ответственность несут все или никто; выявить корни господствующей повсюду алчности, а также факторы, ее поддерживающие, и бороться с ней бичующей сатирой в твердом сознании своей правоты, не поддаваясь обманам, и тогда, быть может, в должное время возвратится золотой век, который примет новые формы; а может, и не возвратится, но все это дело будущего, мы всегда что-нибудь да упускаем из виду, не принимаем в расчет. В любой момент могут пробудиться скрытые силы, они вызовут коренной переворот, и откроются новые возможности, но мы их не видим, обманутые и слепые, мы не видим дальше своего носа. Доверяй жизни и говори правду. Настал день, горестный день бесплодной правды. Страх всегда смущает и деморализует, и поспешные поступки внушены страхом.
Все это правда, он готов признать, но это не может повлиять на его поступки и чувства. Все это хорошо для Петрония, который умеет излагать в письменной форме свои мысли о правде, но не для него. Ведь он способен только на гневные и бесполезные тирады и на отчаянные поступки. В такой-то год царствования нашего владыки Нерона… Какой же это был год? Чем отличается один год от другого в этом бессмысленном цикле? В такой-то год царствования нашего владыки некто Флавий Сцевин, допившись до белой горячки в День Труб, на сей раз безмолвных, выхватил на Форуме кинжал и стал им размахивать. Ничего особенного не произошло, только его задержала стража, которой он заявил, что взял кинжал в храме Фортуны. Никто доподлинно не знал, что с ним потом случилось, но ходили слухи, что Поппея исколола его булавками, а потом его швырнули в императорский нужник, где он и пропитался, как бальзамом, священными испражнениями нашего владыки. Краткая запись в «Анналах». Ничтожный, но характерный эпизод, один из бессмысленных протестов, какие возникали в правление этой жирной куклы, этой размалеванной бессмертной скотины. Кто теперь бросит камень в египтян за то, что они поклонялись корове или крокодилу? Его рука судорожно стиснула рукоять кинжала. Он просто хотел поддержать свое нравственное достоинство и испытывал неутолимую печаль в этот солнечный день, нежно-розовый, как цветение персика.
Он заметил Цервата Прокула, чье лицо напоминало мордочку испуганного хорька, и подошел к нему.
— Давно тебя не видел.
— У меня были боли в желудке. Доктор велел мне лежать.
Сцевин посмотрел на него мутными глазами.
— Я разрешаю тебе вставать. Или ты все еще лежишь? Ты похож на кобеля, которому дали пинок в зад. Взбодрись, приятель.
— Я и так бодр, — испуганно отозвался Прокул. — Не понимаю тебя.
— Это необязательно. Просто делай то, что тебе говорят. Я недостаточно тебя натаскал, так ведь? Открой-ка рот, и я брошу туда медяк. Не мудрено, что у тебя болит живот, раз ты глотаешь одни деньги.
— Я должен встретиться с одним человеком… — пробормотал Прокул.
— Зови его сюда. Я люблю смотреть, как встречаются собаки. Они обнюхивают друг друга, поднимают ногу и мочатся. Я хочу посмотреть, как ты все это проделаешь.
Прокул хотел было улизнуть, но Сцевин удержал его за руку.
— Не торопись, так будет лучше. Можешь мне поверить. Я сам хотел бы стать собакой. В конце концов, быть человеком — чудовищно ответственное дело. Какая у нас цель? Человеку некуда податься. Зато у псов великое будущее. Так будем же жрать все что попало, даже свои слова. И навоз и падаль. В нашем мире важнее всего готовность жрать падаль. Знаешь, вчера вечером я беседовал со старым другом. Он пишет книгу. Он остановился на сцене, когда наследники богача дают согласие выполнить его волю и сожрать его труп, чтобы получить наследство. Я сказал ему, что это слишком похоже на правду. Ныне любят фантастические сюжеты. Пиши о садах Гесперид, о героях, подобных Гераклу, или о блудницах, превращающихся в птичек, или же о герое низкого происхождения, что наследует миллионы и похищает супругу бога.
Люди стали собираться вокруг него и слушать. Прокул вывертывался изо всех сил, но никак не мог освободиться из цепких рук Сцевина.
— Я, право же, спешу, мне нездоровится.
— Ну конечно. Как и всем нам. Мы все больны смертельным недугом. Между прочим, мне только что написал мой друг Модест из Сицилии, он там учительствует.
Припомни, два года назад этот Модест, в прошлом претор, был одним из самых модных адвокатов, все псы к нему подлизывались, виляли хвостом. Потом он потерпел крушение. Он в изгнании, преподает риторику в Агригенте. Он пишет: «О Фортуна, сколь прихотливо играешь ты людьми — ты превращаешь сенаторов в риторов и риторов в сенаторов». Сколько желчи и остроумия в его словах, и можно подумать, что он переменил профессию лишь для того, чтобы их изречь. Ты помнишь его?
— Слыхал его имя.
— Он начал преподавание с того, что надел греческий плащ. Изгнанники не имеют права носить тогу. У него были завиты и намащены волосы, он принял ораторскую позу, взглянул на свой плащ и обратился к слушателям, со следующими словами: «А все же я буду декламировать по-латыни».
— Очень остроумно… но, пожалуйста, отпусти меня.
— Еще минуту. Сперва взгляни на Афера — черномазый верзила без гроша за душой, а его тащат на носилках шестеро каппадокийцев. Все смеются над бахвалом. Пожалуй, не так бы смеялись, если б он признал свою бедность и обходил Форум с нищенской сумой. Он такая же мишень для насмешек, как карлик Атлант, разъезжающий на крошечном муле, или черный слон с черным ливийским погонщиком, которого мы видели прошлым летом. Право же, если бы Афер умер, его не тащили бы шестеро носильщиков. Хватило бы и тачки. Пойди и спроси, не умер ли он, и если нет, то почему.
Он отпустил Прокула, и тот мгновенно исчез в толпе. Слушатели плотно обступили Сцевина, надеясь, что он сболтнет что-нибудь еще более рискованное. При этом каждый опасался, как бы только самому не стать мишенью острослова и не навлечь на себя неприятностей, Сцевин медленно огляделся вокруг и увидел на всех лицах страх и злорадство. Некоторое время он молчал, и улыбки становились натянутыми. Но вот его прорвало:
— Эй, вы, псы, что же вы не поднимете ногу и не помочитесь друг на друга? Вы привыкли так делать, правда? — Он стал протискиваться через толпу и удалился неверными шагами.
Свернув за угол, он увидел куда-то спешащих Прокула и Сенециона, Сенецион, видимо, все это время прятался от него. Сцевин стал было их догонять. Но раздумал. Он шагал вперед, не замечая дороги.
— Где же Трубы? — вдруг произнес он вслух. — Тубилустрий, День Освящения Труб. Где это происходило? Совершают ли теперь этот обряд? Разве что какой-нибудь скучающий жрец принесет в жертву ягненка, предвкушая бесплатные отбивные котлеты, если только не подсунут падаль. Вполне законный поступок. В том или другом атрии. Почему он не навел справок? Его взволновала мысль о Трубах. Некогда они созывали Курии. Возвещали весну, сдували мертвые листья и мертвые души с лица земли. Так принесите мне Трубы. У меня одного хватит дыхания, и я стану дуть в них, созывая мертвых и живых.
Он инстинктивно выбирал темные узкие переулочки. Завернул в винный погребок. Посетители перестали пить и уставились на него.
— Угощаю всех, — заявил он и швырнул на прилавок золотой. — Это моя последняя монета, так что нет смысла меня убивать.
Хозяин погребка, мужчина с широким темным лицом, звякнул монетой о каменный прилавок, взвесил ее на мозолистой ладони, попробовал на зуб. Сцевин взял кружку и сел на боковую лавку. Когда всем налили вина, скуластый раб поднял свою кружку.
— Удачи тебе, господин.
— Нет мне удачи, но все равно благодарю.
Сцевин оглядел помещение. В погребке и в задней комнате человек двадцать. Рабы или поденщики. Почему они примирились со своей участью? Глупы они, мягкотелы, сломлены жизнью? Они не казались такими. Выглядели более развитыми, уверенными в себе и стойкими, чем большинство его знакомых. Почему же они покоряются? Нередко он задавал этот вопрос, но не получал ответа. Все были напуганы, все его в чем-то подозревали, не открывать же им, представителям его сословия, о чем они толкуют между собой. А ему страстно хотелось узнать, о чем. Он пробовал подслушивать, но не мог различить голосов, а если и различал, то не улавливал смысла слов и имен неизвестных ему людей. Разговоры о девушках и лошадях, непонятный жаргон, ничего сколько-нибудь интересного.
К нему подошел скуластый раб.
— Хочешь красивую девушку, господин? — спросил он. За недостатком красноречия он начертал в воздухе волнистую линию.
— Нет. Если б ты предложил уродливую, я, пожалуй, выслушал бы тебя.
— Ладно, самую уродливую в Риме.
— Не найдешь уродливой мне по вкусу.
— Пойдем, я покажу тебе.
— Заткнись, я размышляю. Скажи-ка мне, почему вы позволяете, чтобы вас считали дерьмом? Ведь вы ничего не получаете от жизни, вас обманывают, притесняют. — Заметив, что к нему прислушиваются, он широко развел руками. — Да, все вы, я говорю о вас.
Ошарашенный раб отшатнулся от него.
— Хватит! — вмешался хозяин. — Мы не желаем слушать таких разговоров. — Он вытер прилавок.
Мертвая тишина. Все глаза были устремлены на Сцевина, и он читал в них обвинение, страх и ненависть. Все принимали его за соглядатая, который задумал их поймать. Их недоверия никак не преодолеть, между ними — бездна. Он выпил вино и вышел. Понадобились сверхчеловеческие усилия, чтобы подняться и направиться к выходу. Он был совсем раздавлен, ему казалось, что он и впрямь доносчик. Хотел вызвать их на откровенность и погубить. Он гаже соглядатая, тот по крайней мере зарабатывает себе на хлеб. В его искренность не поверят — их разделяет бездна страха и ненависти. Бичи и цепи, которые применяли такие, как он. Перестань быть господином, тогда загляни им в глаза. Но это невозможно.
В конце переулка ему пришлось прижаться к стене — мимо проходил отряд стражников, направлявшихся в погребок. Разыскивали беглого раба. Теперь посетители уже не будут сомневаться, что он соглядатай. Прислонившись к стене, он стал прислушиваться. Мир начал медленно вращаться вокруг него, описывая все более тесные круги, постепенно сжимая его. Снова заболели глаза, и он услыхал скрежет ключа в замке — его запирали. Он выронил оставшуюся в кошельке мелочь, уставился на валявшиеся в грязи монеты, хотел было нагнуться, но ему не удалось. Боль пригвоздила его к стене.
Из погребка донесся шум, и он стал поспешно удаляться, испугавшись. Не насилия, а обвиняющих взглядов. Он все шагал и шагал, измученный, потеряв всякую надежду. Потом вдруг очутился дома. Но он не позволил рабам отвести себя спать, оттолкнул их и отправился в комнату Цедиции. При его появлении девушки вскочили и убежали. Она лежала на ложе, служанки расчесывали ей волосы. Цедиция посмотрела на него вопросительно, с чуть заметной улыбкой. Он дико озирался, словно ожидая кого-то здесь застать.
— Я устал. — Он уселся рядом с женой.
— Как же может быть иначе? — Она взяла зеркало и принялась рассматривать свои брови.
Что говорил Петроний? Предоставь это времени, оно разрушит, и создаст, и залечит все раны. Но это совет, внушенный отчаянием, человек должен спасать других или проклинать себя. Человек — той же природы, что и время, сказал Петроний. В этом все дело, разговор человека с самим собой, человека со временем, времени с человеком. Время — живое существо, а не абстрактное понятие. Мы не можем вызывать по своей воле события, мы можем лишь уловить приближение момента, благоприятного для освобождения, для удачного выбора. Нам дано его подготовить, воплотить его, но мы не можем вызывать по своей воле события, мы не в силах ускорить естественные процессы и заставить ребенка родиться через месяц после зачатия — и все же мы должны уловить первые схватки. Наш мир повинен в тягчайшем грехе, он упустил великий момент, и потому на нашу долю выпали обманчивое возбуждение и муки, мы знаем, что все идет плохо, но прячемся от этой правды, наше сознание не улавливает сущности событий, результата слепого столкновения атомов.
— Я устал, — повторил он.
— Зачем ты доводишь себя до такого состояния? — спросила она мягко. — От этого нет толку, ты лишь вредишь себе.
Он ударил себя в грудь, указывая на сердце.
— А если здесь пусто?
Он не улавливал сущности событий, сознание его было в разладе с ними.
— Научись заполнять пустоту.
Он нагнулся к ней, взял ее за подбородок, придвинул к себе ее голову, стал пристально вглядываться ей в лицо.
— Пусти меня, мне больно, — вяло сказала она.
— Если бы я только знал твои мысли, хотя бы самую малость.
— Ты никогда и не пытался их узнать.
— Я только это и делал.
— Странный же ты выбрал способ!
— Ты или кто-нибудь другой, — пробормотал он, отпуская ее подбородок.
— Вот именно. Ты не хочешь отдавать себя другим, ни в какой степени. Но требуешь, чтобы тебе отдавались душой и телом, раскрывались, как разломанное яблоко.
Он вздрогнул.
— Мне страшно, Дедиция.
— Тогда поедем со мной в Кумы.
— Я сам себя боюсь. Я способен на всякую низость.
— Все мы таковы.
— Слова, слова. Меня схватили за горло.
Она посмотрела ему в глаза.
— Постарайся осознать, что я существую, друг мой. — Он что-то пробурчал в ответ, — Почему ты презираешь женщин?
— Ничуть! — воскликнул он удивленно. — Я считаю, что они бесконечно выше мужчин. Вот почему Аристофан мой любимый поэт. Женщины могли бы спасти мир. Но они этого не сделают. Мужчины им не позволят. Женщины знают самое главное. Но посмотри, что сделали из них мужчины!
— Так, значит, женщины позволили мужчинам сделать из них нечто отвратительное. Не слишком-то лестно для женщин. — Она помолчала в нерешительности, потом спросила шепотом: — Во что ты меня превратил?
Но он уже закрыл глаза.
— Голова у меня не работает. Я не слышу, что ты говоришь… — Он зевнул. — Я так устал…
Он уже не улавливал сущности событий, был упущен великий момент возрождения. Он задремал, голова его склонялась все ниже и ниже. Она обхватила его руками и не дала ему упасть на пол. Он грузно навалился на нее. Она не видела его лица, но смотрела, нахмурив брови, на его затылок. Потом подала знак служанке, выглянувшей из-за двери. Та подошла и держала его, пока Дедиция осторожно выбралась из-под него. Он протяжно вздохнул.
Женщины уложили его поудобнее, некоторое время они стояли, наблюдая за спящим. Он растянулся на спине и тяжело дышал. На щеке у него лежал волосок Цедиции, приподнимаясь и падая от его дыхания. Она нагнулась и сняла волосок.
XV. Луций Кассий Фирм
По просьбе Лукана я пять дней не выходил из дома. Я читал иди тщетно пытался писать. Все это время я ждал вестей от Цедиции. Когда мы расставались у Ворот, она потребовала, чтобы я четверть часа не двигался с места. Я спросил, когда мы снова встретимся, она ответила, что сама не знает.
—. Разве можно об этом спрашивать в нашем мире, в наше время? — В ее тоне мне послышалось злорадство, словно она ставила мне в упрек заговор, который поглотил всех нас, даже меня, самого незначительного из его участников.
— Я напишу тебе.
Она пожала плечами.
— Я думала, ты предоставишь инициативу мне. — Слова ее прозвучали пренебрежительно, но выражения лица я не разглядел, ибо она отвернулась. Я не посмел последовать за ней.
На следующий день после пантомимы я написал ей коротенькую записку и отправил с Фениксом для передачи привратнику.
«Вечером я видел тебя, ты была единственной живой женщиной среди теней умерших. Потом мне почудились твои глаза, сиявшие, словно звезды в небесах, и я не спал всю ночь. Когда мы встретимся?»
Ответа не было.
Потом я писал одну записку за другой — одни гневные, другие полные отчаяния, рвал их и выбрасывал. Когда я перечитывал их, они выдавали, что я сознаю расстояние, нас разделяющее, и свою неспособность подчинить ее себе. Я попробовал сочинить эпиграмму и поставить Цедиции на вид ее бессердечие. Но гневные слова, звучавшие у меня в голове, на бумаге теряли силу. Под конец мне стало невыносимо сидеть взаперти, и я решил выйти, не предупреждая Лукана. Даже обойтись без Феникса, который ускользнул на кухню в надежде раздобыть ватрушек и перекинуться в кости с рабами в кладовой.
Направляясь к задней калитке, я встретил Герму. Она казалась особенно хрупкой, но куда девались легкая походка и лукавый взгляд, которые я считал признаками застенчивости?
— Почему ты не зайдешь ко мне? — спросил я ее. Она молчала, переминаясь с ноги на ногу. «Уж не отложить ли мне прогулку?» — подумал я и взял ее за локоть. При ярком свете дня видны были прыщики на ее лице, грязные руки и босые ноги казались слишком большими, она выглядела недовольной и грустной. Мочка левого уха была поцарапана и кровоточила, ногти обкусаны. Я отпустил ее руку и удалился.
Я застал Марциала дома, вернее, на пороге — он собирался навестить богатого коммерсанта, надеясь что-нибудь у него перехватить. Он сурово посмотрел на меня и сухо бросил, что рад моему хорошему виду. Действительно я хорошо выглядел или он ожидал, что я буду выглядеть хуже? Мы стали спускаться с холма. Рассказывая ему о танцах Клита, я как бы невзначай упомянул имя Цедиции. Он тут же сделал ее мишенью сарказмов.
— Она из породы женщин, которые, слушая философа-аскета, проповедующего о нравственности, пишут любовные записки. А затем соблазняют самого философа, дабы опровергнуть его принципы.
Два года назад, рассказывал он, у Цедиции был любовник, сенаторский сынок Помпей Элиан, который грубо с ней обращался. Переодевшись мужчиной, она следовала за ним в Субуру, и они встречались в притонах. Там с ней приключилась беда. Ходили разные слухи. Она будто бы хотела заколоть Элиана, и тот велел рабу-марокканцу ее изнасиловать; некий распутник пленился ею как юношей, и она позволяла соблазнять себя, пока тот не обнаружил ее пола; она набросилась на вольноотпущенницу, любовницу Элиана, повалила ее на землю и остригла ей волосы; ее задержали стражники и отпустили Лишь после того, как все до одного натешились, — и таких рассказов множество.
Я не мог удержаться и возразил:
— Когда ходит столько противоречивых слухов, нельзя верить ни одному.
— Либо все они правдивы, — усмехнулся Марциал. — Одно можно наверняка сказать: она чудом избегла суда. Сцевин был очень расстроен. Может быть, он упрекал себя, что совсем ее забросил. Он увез ее с собой в Грецию. В Афинах что-то произошло, а через некоторое время стало известно, что он с Наталисом уже в Сицилии, там он сломал себе несколько ребер, взбираясь на Этну, вероятно в пьяном виде.
— Что ж, они живут полной жизнью. — Я сказал это нарочито легкомысленным тоном.
Марциал продолжал поносить Цедицию.
— У нее дурной вкус. Она решила, что Кальвизий — многообещающий поэт, и всем сообщила по секрету, что в своих элегиях он воспевает ее под именем Перимии, прототипом которой в действительности была вольноотпущенница Панниция. Потом, когда книга провалилась, она публично оскорбила поэта и заплатила Аллезию, чтобы тот написал сатиру и вывел Перимию в виде неряшливой толстухи, жены отставного лесничего из Норика. После этого она была любовницей богатого ликийского землевладельца, пока не решила, что он слишком скуп, и взяла себе возницу, но того угораздило разбиться в ближайшие же состязания. Толпа ее освистала. Что и говорить, не везет ей с любовниками. Но она не прекратила поисков. Мне думается, Сцевин ее поощряет, хотя у него куда больше вкуса и чувства стиля. Если он и не ревнует, то требует соблюдения приличий. Рассказывают, что однажды в Байях он застал ее в объятиях красавца раба. Он извинился и вышел из комнаты. В ту же ночь она обнаружила раба мертвым в своей постели. На нем была табличка: «Насытившись, брось на съедение рыбам!»
В другой раз, когда она и юный Либон лежали мертвецки пьяные на пристани возле святилища Изиды, он велел осторожно перенести обоих в барку и оттолкнул ее от берега. По счастью, часа через два в открытом море их нашли рыбаки. — Я выслушал еще несколько таких историй, которые он охотно рассказывал.
— Почему ты нападаешь на нее одну? — остановил я его. — Разве другие лучше, хотя бы та же Полла? — Мне претили эти рассказы, столь оскорбительные для Цедиции, и заодно я надеялся что-нибудь узнать о семейных делах Лукана. Но Марциал пропустил мое замечание мимо ушей.
— Цедиция просто менее удачлива, и про нее есть что рассказать и похлеще.
До сих пор я верил каждому его слову, негодовал и испытывал унижение, хотя эти разоблачения доставляли мне какое-то злорадное удовольствие. Отныне я не буду уважать и бояться ни одной римской матроны! Тут я заметил, что он искоса бросил на меня взгляд, желая посмотреть, какое впечатление производят его рассказы и насколько они меня терзают. У меня возникло подозрение, что он прослышал о моей связи с Цедицией и выдумывал всякие истории, приписывая ей приключения других женщин, чтобы мучить меня. И я впал в другую крайность — окончательно перестал ему верить, хотя у такой женщины, как Цедиция, несомненно, были приключения. (Впоследствии я пришел к заключению, что до Марциала вряд ли могли дойти слухи, связывающие мое имя с Цедицией. Он угадал мое чувство к ней по тону, каким я произнес ее имя. Быть может, он завидовал мне или же ему хотелось предостеречь меня от любви к женщине, принадлежавшей к высшему обществу Рима.)
Мимо нас прошла жалкая похоронная процессия: покойник лежал на самодельной тележке, которую толкали двое мужчин, а позади брела женщина с растрепанными волосами, безутешно рыдая, она била себя кулаком по голове. Мы зашли в тихую таверну.
— Куда лучше завести себе Тайсарион, — сказал Марциал. — Или же удовольствоваться вот такой. — Он показал на толстуху, мывшую пол, платье у нее было подоткнуто и обнажились крутые бедра. Меня раздирали противоположные чувства, и я не мог произнести ни слова. Он продолжал говорить, и в его словах было все больше горечи. Я мог бы давно догадаться, что он страдает от свежей обиды или обмана.
— Простой народ куда лучше. Они тебя надуют и оскорбят в открытую, каким-то честным манером, без злобы. Но не верь обеспеченным людям. Они обманули бы собственную тень, если б она заговорила с ними. Стоит человеку обзавестись средним достатком — я уж не говорю о миллионерах-сенаторах, — как он влюбляется в деньги, весь поглощен ими, ест их, хлебает, ложится с ними в постель, их одних любит. Ты знаком с Вибием Фортунатом? Ну конечно, нет. Он привозит из Кирены страусовые перья, дорогих шлюх и слабительные средства. Однажды он разоделся, собираясь в суд, и вдруг чихнул. На моих глазах он вытер нос о волосы своей жены. Та была счастлива оказать ему такую услугу. Он держит при себе красивых мальчиков из Синопа и стегает их бичом из проволоки. Среди твоих новых приятелей встречаются субъекты и почище. — Он нагнулся ко мне и шепнул на ухо: — Они ненавидят Солнце, потому что оно смотрит на них, когда они выдирают золото из кишок своих собратьев.
Теперь я понял, что он знает о заговоре и предостерегает меня. Солнцем был Нерон, Непобедимый. Я кивнул, все еще не в силах заговорить.
— Великий Помпей из «Фарсалии», которой ты так восторгаешься, — продолжал он, — был ростовщик и получал ежемесячно семьдесят три таланта одних процентов от каппадокийских царей. Из писем Цицерона ты можешь узнать, что Брут был свирепый процентщик. Этим людям мало их жалованья и прибыли, какую они получают, торгуя справедливостью. Я слышал про легата, который за взятку в семьсот тысяч от одного купца сослал его конкурента в рудники, предварительно подвергнув телесному наказанию! Когда преступление легата было доказано, его чуть понизили в чине. Твои друзья наживаются, торгуя, как презренные плебеи, тканями, черепицей, лигурийским войлоком — чем угодно, что под руку попадет. А деньги они отдают в рост во все государства мира. Взгляни на Сенеку, который проповедует духовный мир. Не вызвал ли он несколько лет назад восстание в Британии, истребовав суммы, отданные под зверские проценты? Не ведет ли он крупные операции в Египте, используя корабли с хлебом для доставки биржевых ведомостей? Он и ему подобные предпочитают помещать деньги в провинциях, где можно получить более высокие проценты, чем в Италии. А в Италии все идет прахом! Тьфу! — Он плюнул и поднялся. — Мне надо торопиться, не то я упущу случай выпросить несколько сестерций у одного из кровопийц. Помолись за меня Меркурию. — Он швырнул монетки на прилавок и вышел.
Я сидел, попивая вино и размышляя. Он был в скверном настроении, крайне расстроен. Тем не менее факты оставались фактами. Я видел, что Марциал старался воздействовать на меня, дать мне толчок, который заставил бы меня пересмотреть свой образ действий. Сидя за вином и глядя, как толстуха, весело поглядывая по сторонам, вытирает прилавок, я вдруг почувствовал всем существом правоту Марциала. Но хотя внутренний голос твердил мне, что надо бежать из Рима, я знал, что не сделаю этого. Девица поймала мой блуждающий взгляд и неверно его истолковала. Она стояла с полотенцем в руке у прилавка и, склонив голову набок, проверяла, хорошо ли он блестит. Потом подошла ко мне.
— Там наверху есть комната, и, может быть, тебе хочется узнать, сколько во мне весу… — сказала она тонким сиплым голосом и подмигнула мне. Вероятно, она слышала эту фразу от какого-нибудь клиента и теперь повторяла, считая, что так лучше всего начинать разговор.
Я поблагодарил ее, сказав, что у меня другое на уме. Она снова подмигнула и прибавила, что немало мужчин, особенно матросов, — хочешь верь, хочешь нет — любят, чтобы девушка была как можно толще, страсть какая толстая.
Вошли двое мужчин, по-видимому любители таких девиц, я расплатился и вышел. Мне было все равно, куда идти, лишь бы не возвращаться домой, к Лукану. Сходить к Юлию Присциану? На прошлой неделе я остался без гроша, Лукан заставил взять меня у него взаймы пять тысяч сестерций, и теперь я был при деньгах. Я решил разыскать таверну, где в свое время пил с преторианцами, там они были завсегдатаями. Без особого труда я нашел погребок, но там их не было. Девушка с кастаньетами заканчивала танец. Я подозвал ее и заказал вина. Оказалось, она действительно родом из Гадеса. Мы поговорили о Бетике, и я затосковал по ее зеленым лугам и скалистым горам. Вспомнил своего друга Марка Юния Лацера, с которым совершал прогулки верхом и охотился, но за последние два года мало виделся, предавшись честолюбивым мечтаниям, вспомнил его сестру, девушку с веснушками и спокойным взглядом.
Танцовщица была рабой хозяина погребка, но она хорошо зарабатывала, и ей давали волю, ведь она привлекала посетителей и щедро делилась доходом. К счастью, владелец погребка был под башмаком у любовницы, уродливой ворчуньи со вздутыми жилами на руках, родом из Коркиры, отличной хозяйки, которую он обожал. Я спросил девушку, не хочет ли она вернуться в Гадес. Она энергично кивнула головой. Мне нравилось ее гибкое тело. Я подсунул руку под ее потную левую грудь, чтобы ощутить биение ее сердца, все еще не успокоившегося после танца. У нее прощупывались ребра. Она рассказала, что жила в маленькой дымной хижине, в семье из двенадцати человек — родителей, бабушки и девяти детей. Старшая сестра, у которой была заячья губа и слабые ноги, завидовала ей и всячески ее изводила. Детьми они собирали ракушки, таскали у соседей виноград во время сбора, обворовывали пьяных матросов, за которыми следили из-за кустов. Однажды лунной ночью она проводила время на берегу с тремя матросами, подстерегая момент, чтобы улизнуть с кошельком, позаимствованным у одного из них. Но вместо того чтобы с ней расплатиться, они бросили ее в шлюпку, отвезли на судно и направились в Остию на невольничий рынок.
— А кошелек? — рассеянно спросил я, следя за фиолетовыми отсветами, мелькавшими в ее темных глазах.
— Я выбросила его за борт. Мне не хотелось, чтобы они нашли его у меня. Матрос решил, что потерял его. Там было три берилла.
Из разговоров матросов она поняла, что это сестра подсказала им, как заманить ее в ловушку и увезти.
— Вот какое благодеяние мне оказала сестра.
У нее была грубая кожа, вся в пятнах, словно в брызгах сока, выдавленного в чане из спелого винограда, и темные волосы, жесткие, как конская грива. Но мне нравилось, как она откидывает волосы назад, и я называл ее своей Испанской Победой. У нее был большой рот, и кровь сочилась из губы, прикушенной во время танца. Она призналась мне, что я ей нравлюсь.
Во всех отношениях было глупо жить в доме Лукана, где я не пользовался свободой. Мне хотелось иметь помещение более удобное, чем пролетарское жилье Марциала. Я мечтал о квартире с садиком и балконами, где стояли бы ящики с цветами и куда я мог бы приглашать девушек и друзей-литераторов. Надо же мне было попасть в эту политическую ловушку! Мне были не по душе озлобленные и высокопарные стихи Лукана, какие он писал в последнее время. По-настоящему нравились только стихи, воспевавшие Поллу. Обладали известными достоинствами и ранние его произведения, написанные под влиянием Персия, как я обнаружил. Пытался он сочинять скадзоны[141], подражая Катуллу. Влияние этих двух поэтов любопытно сочеталось. Получалось нечто своеобразное. Более совершенное искусство. Я уже вошел во вкус римской жизни. Я понимал, почему Марциал, тоскующий по своей Билбиле, не желал надолго туда возвращаться, а может, и вовсе не хотел там бывать. Можно было найти очень приятное жилье, особенно в домах, выстроенных после пожара на новых просторных улицах; там были лоджии, портики и чудесные балконы.
Недавно мне пришлось беседовать с архитектором, строившим такой дом, — тот стоял с чертежами и руководил работами. Он пространно говорил о преимуществах, какие дает употребление цемента и облицовка кирпичом; способ был не новым, но теперь применялся все шире, отчасти потому, что улучшилось качество цемента и кирпича.
— Взгляни на эти своды, опирающиеся на мощные пилястры из травертина в удлиненных боковых стенах. Мы создаем новый, выразительный стиль. Видел ли ты Золотой Дом? Он еще не достроен, но это будет великолепный дворец, в него вложено немало новых идей.
Я попросил его объяснить простыми словами, в чем заключались эти новые идеи. Он начал говорить, но скоро увлекся техническими подробностями, и мне стало трудно следить за ходом его рассуждений. Применение цемента позволяло архитекторам упростить конструкцию зданий, все чаще прибегая к изогнутым поверхностям.
— Возникает новое понимание здания, — сказал он. — Наша задача не в том, чтобы выстроить четыре стены, крышу и связать их между собою. В этой области греки достигли высокого совершенства и пленительного разнообразия. Теперь мы стараемся создать монументальную форму, которой подчинен и внешний и внутренний облик здания. Мы имеем в виду и окружающую природу. Строение — элемент пейзажа.
Он затронул еще немало тем, критиковал «форму ящика» и ратовал за новый пластический подход, рассуждал о динамике форм — совершенно незнакомом мне понятии.
Постепенно я стал улавливать его мысль или мне казалось, что я улавливаю. На меня произвели впечатление не только слова архитектора-сирийца, но и его творческий пыл, покоряющие улыбки, бурные жесты, и мне казалось, что на моих глазах распускается цветок или разбегаются по воде круги от камня. Роль камня здесь играла новая идея единства или симметрии, это были его излюбленные термины. Роль воды — материалы, которыми пользовался архитектор, они обладали текучестью, пластичностью, могли принимать формы, более близкие к природе, чем прямоугольные построения. Купол объединял все. Нет ли связи, думалось мне, между этим новым подходом к архитектуре и беглыми прозрениями новой поэзии, которую я внезапно почувствовал, когда смотрел на танцы Клита и слушал реплики и музыку, где повторялся все один мотив, как бы описывая круги?
Я размышлял об этом, болтая с девушкой; она была наполовину мавританка, наполовину карфагенянка, хотя авали ее Спаталой. Мне было хорошо с ней, хотя у нее были худые ноги и в глазах появлялся алчный блеск, едва Она отводила их от меня. Я поцеловал ее ладонь, и она сжала мне губы и подбородок крепкими пальцами. Мне некуда было спешить. Хотелось как следует все обдумать, чтобы в дальнейшем избегнуть ошибок. Все осложнения возникли из-за того, что, приехав в Рим, я поспешил к Лукану. Теперь мне стало ясно, что следовало подыскать себе недорогую квартиру, навестить людей, к которым у меня имелись письма или которые были связаны деловыми отношениями с моей родней. Только взвесив все за и против, я должен был определить свой образ действий.
Девушку позвали. Целая компания юнцов, завсегдатаев таверны, потребовала, чтобы она танцевала; я продолжал сидеть, потихоньку потягивая вино. Я прищурил глаза, и мне чудилось, что она пляшет в центре вселенной, балансирует на высокой скале, а крутом бушуют ветры, волны и пламя. Меня с небывалой силой осенило вдохновение, передо мной витал образ, сочетавший в себе танец и пение, купол и свод, колонну и взлет к небу. Нечто, глубоко коренящееся в земле и стремящееся подняться над землей. Новый могущественный синтез и глубокий разрыв в недрах стихий и в человеческом восприятии. Я испытывал легкость и умиротворение, быть может, впервые со времени приезда в Рим. Все будет прекрасно, лишь бы мне вот так сидеть в таверне, смотреть на Спаталу и дремать.
Вошел Сильван. Мне больше всего хотелось его увидеть, и я отвернулся, чтобы не встретиться с ним взглядом. Но волнение быстро улеглось. Я встал и подошел к нему. В первый момент мне показалось, что он меня не узнает, но вот он улыбнулся и подвинулся, освобождая мне место.
— Нет, — сказал он, вставая, — лучше найти укромный уголок.
Он повел меня в сад, где виднелись увитые плющом беседки. Над небольшим бассейном стояла изуродованная бронзовая статуя Купидона с поднятым над головой факелом. В одной беседке развалились любовники, тут же собака пожирала сырную корку. Мы выбрали место в уголке сада, заказали вина и поглядели друг на друга.
— Вероятно, мне не следовало приходить, — проговорил я наконец. Он кивнул, в глазах его не было ни беспокойства, ни порицания. — Но мне было необходимо с тобой поговорить. Мне хорошо известно, какие цели преследуют патрон и его друзья. Но мне хотелось знать твое мнение.
— Я отвечаю только за себя.
— Этого достаточно.
— Почему?
— Это мне очень важно. Потом я постараюсь объяснить.
— Почему важно?
Он бросал краткие реплики, но в его тоне не было ни холодности, ни резкости. Он продолжал улыбаться отчужденно и дружески, словно обнадеживая меня. По его вопросам было видно, что он не хотел отделаться от меня, но решил помочь мне разобраться в своих мыслях и чувствах. Мы выпили вина и некоторое время молчали. Потом я спросил:
— Ты республиканец? — Это слово было нелегко выговорить. Оно постоянно встречается в книгах, но когда его произносишь, кажется опасным и нереальным. И все же в моих устах неожиданно для меня оно прозвучало гордо. Он улыбнулся и кивнул головой.
— Тогда что ты скажешь о человеке, которого выдвигают мой патрон и его единомышленники? — спросил я.
— Он плохо кончит.
Меня поразила его уверенность.
— Не понимаю, почему ты так уверенно говоришь.
— Разве я так уж уверен? — Он развел руками.
— Они ненавидят то, что существует. Пожалуй, они даже ослеплены ненавистью. Они готовы умереть, лишь бы уничтожить хоть немногое из того, что им ненавистно. И все же порой мне трудно отличить предмет их ненависти от предмета их желаний. Это одно и то же, но в разной форме. Вместо одного тирана им хочется многих. Мне было трудно это понять. Но теперь я понял. — Действительно, многое открылось мне только сейчас, хотя Марциал делал весьма прозрачные намеки.
Сильван кивнул.
— Если бы дело обстояло только так, я вернулся бы в Бетику или поселился бы в горах, лишь бы не видеть их обреченных лиц. Но я чувствую, что есть нечто другое, есть люди, которые поставили себе иную цель, имеющую ценность независимо от их личной выгоды.
Сильван кивнул.
Ободренный его взглядом и вином, а может быть, и доносящейся из таверны дробью кастаньет и хохотом окружавших Спаталу любовников, я продолжал:
— Мне яснее и понятнее цель, к которой стремишься ты и твои друзья, хотя я усматриваю у вас слабые места и известную ограниченность. Все имеет границы. Все выходит из границ. Во всяком случае, я почерпнул это убеждение из стоической философии, которую проповедует мой друг.
Он взглянул на меня и отхлебнул вина. Пес справился с сырной коркой, подошел к нам и начал клянчить, встал на задние лапы и щелкнул зубами. Сильван осмотрелся, нашел корку хлеба и швырнул собаке.
— Сперва мы думали, что надо заставить некоего философа жить в соответствии с его учением… Занятная идея, ради которой стоило жить и умереть. Мы не совсем от нее отказались, но об этом помалкивай. Многое зависит от обстоятельств. Сейчас не стоит обсуждать этот вопрос. Мне думается, тебя интересует другое. Что до Сената, — сказал Сильван негромким и ровным голосом, — я считаю его главным врагом. Нельзя делать выбор между императором и Сенатом. Борьба между ними — призрачная ссора грабителей над добычей. — Он помолчал, видимо захваченный потоком мыслей. — Древняя Республика не возродится. Когда Тиберий отменил свободные выборы, он убил только призрак. Республика воплощала в себе дух Рима. В Греции тоже некогда были свободные города. Афины в период расцвета ближе моему сердцу, чем Рим в эпоху Гракхов. Но Греция не обладала могуществом и не сумела объединить города-полисы так, чтобы они не утратили равноправия и братства. Вдобавок ни одному из городов не удалось воплотить эти высокие принципы. Все дело в пропасти между рабом и свободным. Отсюда и Немезида в лице Александра. Киники знают, в чем основное зло, но не представляют себе, как его устранить. Стоики тоже знают, но стараются прикрыть зло завесой условной морали и отождествляют то общество с личностью, то личность с обществом. Из этих философских систем можно многое почерпнуть, если не верить слепо каждому слову.
Я кивнул. Мне пришла в голову мысль. Купол — это небосвод, это материнское лоно, это вечное рождение. Все на свете стремится к возрождению. Так ли красива девушка там, в беседке, как я ее себе представляю? Круг — это танец, это все возвращающийся ритм песни.
— Рим пошел другим путем, он проявил похвальную стойкость, как бы внушенную ему божеством. Но хотя он не пришел в упадок, как Афины и Спарта, ему не удалось разрешить загадку. Вместо Александра — Цезарь. — Он закрыл глаза и говорил медленно. Собака побрела, принюхиваясь, в беседку, где лежали любовники, и юноша швырнул в нее деревянной чашкой, угодив ей в ухо. Собака взвизгнула, метнулась к двери и наскочила на мужчину, который входил с приятелем в сад, встряхивая стаканчик с костями. Сильван наклонился ко мне и говорил по-прежнему тихо, с закрытыми глазами:
— Я чувствую это, но не могу выразить словами. Что случится, если будет сохранен прочно укоренившийся центр? Я предвижу цепь бурных событий, которые неизбежно воспоследуют. Римский народ обретет величие, как в славные дни Республики, он вдохновит на борьбу другие народы. Но когда? Возможно, все это мечты. — Он открыл глаза и взглянул на человека, которого опрокинула собака: тот поднялся на ноги, бранился и искал, чем бы запустить в нее. Любовники смеялись над ним, и он излил на них свою досаду. Сильван говорил все так же ровно и спокойно:
— Когда я наблюдаю вокруг раболепство, въевшееся нам в душу, алчность и страх, которыми порождено раболепство, я начинаю сомневаться в самом себе и во всех громких словах. И все же эти слова вырвались из человеческих сердец и уст, и было бы чудовищно, если бы в будущем усилились раздоры и расплодились пороки. — Он мягко поглядел, на меня. — Однако временами я чувствую, что эта битва не увенчается победой. Столкнулись извечные силы. Продажность и справедливость, тирания и свобода. На чью сторону встанет человек — вот единственно, что важно.
— Ты сделал свой выбор?
— Его сделали за меня.
Он откинулся назад и, казалось, прислушивался к своему резкому шепоту, словно дивясь, что у него вырвались такие слова. Я понял, что он высказал все и больше я ничего от него не добьюсь. Но мне хотелось его удержать. Он вдохнул в меня бодрость, и я начинал верить, что самое важное — на чьей стороне человек. Но вот он улыбнулся, встал, потрепал меня по плечу и ушел, бросив на прощание, что мы еще встретимся.
Я неторопливо допил вино, вспоминая его слова, стараясь их усвоить и восстановить ход мыслей, который привел его к таким взглядам. И вместе с тем желая увидеть лицо девушки из соседней беседки. Я видел только ее ногу с испачканной подошвой и царапиной на щиколотке. Словно в ответ на мое желание, она выглянула — круглолицая, сдлинными загнутыми ресницами, разрумянившаяся, с родинкой в левом уголке рта и ямочкой на подбородке. Я улыбнулся ей, она отшатнулась, потом вдруг улыбнулась в ответ, и в глазах у нее сверкнули искорки бесстыдного веселья. И мне подумалось, что живой человек при всей своей простоте, скромности и ограниченности всегда превосходит образ, созданный воображением.
Я встал и направился в таверну. Там было людно. Сильван еще не ушел, с ним сидел другой преторианец, трибун Стацилий Проксим, которого мне как-то на улице показал Лукан. Человек с тяжелым квадратным лицом, выдающимися скулами, твердым прямым ртом и четко прорезанными морщинами на лбу. Прощаясь со мной, Спатала шепнула несколько слов на грубоватом теплом бетиканском наречии и на мгновение задержала свою тонкую крепкую руку в моей руке.
— Я хочу тебя, — шепнула она.
Я вышел на улицу. День клонился к вечеру, и небо стало фиолетовым. Я пришел к Тибру. Я смотрел, как выносили на берег пантер в деревянных клетках. Грузчик объяснил мне, что звери обламывают зубы о металлические прутья и теряют ценность для цирка. Я зашел во двор, где среди каменщиков работал скульптор Антенор, приземистый мужчина с темными бровями и могучими руками. Он лепил из глины фигуры львов и пантер для мраморной группы «Триумф Вакха». Ворчливым тоном Антенор сообщил мне, что он родом из Мелоса и не любит Рим, а уж если приходится тут жить, предпочитает всем площадям набережную, где собираются скульпторы между портиком Европы, Агональным цирком и Прямой дорогой. Кругом лежали глыбы мрамора всевозможных оттенков. Серо-зеленый в прожилках мрамор из Кариста. Антенор показал мне удивительно красивую ярко-белую глыбу с тонким волнистым светло-зеленым рисунком. Нумидийский желтовато-коричневый мрамор с мелким узором, который, если его отполировать, приобретает мягкие, нежные оттенки слоновой кости. Черный как уголь мрамор с Хиоса, переливающийся желтыми, пурпурными и белыми тонами. Добываемый в Карии дымчато-красный мрамор, испещренный блекло-голубыми, пурпурными и ярко-желтыми пятнами или извилистыми жилками. Эпирский мрамор с пурпурными прожилками по белому фону, напоминающий цветок персика. Антенор говорил ворчливым тоном, ему хотелось вернуться к работе, но его соблазняло рассказать мне о различных сортах мрамора, причем его не столько интересовал цвет, сколько пригодность для ваяния.
— У этого мрамора из Карии тусклый излом.
Я предложил ему пойти со мной выпить, но ему не терпелось еще поработать, пока не сгустились сумерки.
Меня поразила волшебная красота неба, с которого струился на землю мягкий свет. В изломах мрамора сгущались теплые тени, его поверхность отражала закатные лучи, белое переходило в розовое, прожилки и пятна обретали гармонические очертания. Фиолетовое небо казалось прозрачным и отливало багрецом, лежащие на земле глыбы мрамора блестели, словно поверженные золотые колонны. Фантастическое освещение как бы преображало все вокруг, и невольно верилось, что можно изменить человеческую жизнь, воздействовать на нее изнутри, сделать ее во всем мире ясной и гармоничной.
Я отправился один в матросскую таверну. В первые минуты ничего нельзя было разобрать. Люди кричали или бормотали на наречиях и языках всех средиземноморских портов. Но, выпив кружку-другую, я начал различать отдельные голоса, улавливать смысл слов. Я прислушивался к рассказам об Александрии, Массилии, Карфагене, Птолемаиде, Тире, Синопе, Анконе, Дрепане, Родосе. Рассказы о тамошних беспутных женщинах, о крепких, опьяняющих винах, о гнусных уловках стражников, об ударах хозяйских бичей. Резкие ноты презрения, ярости, вызова. Мужчина, теребя неряшливую бороду, рассказывал про девушку из Митилены.
— Она уверяла меня, что мужчина и женщина получают одинаковое удовольствие. Тогда я спросил: «Почему же мужчине приходится за вами бегать?» И что же, вы думаете, она мне ответила? «Женщина всегда готова это получить, да вы не всегда в состоянии дать…»
Такого рода рассказы сопровождались взрывами хохота. Они были насыщены мудростью людей, прошедших огонь и воду, свободных от иллюзий, но сохранивших мужество и чувство юмора.
В другой истории я увидел отражение грубой справедливости, условной морали «зуб за зуб», которой подчинялись эти люди, и презрение к правилам и порядкам, установленным для них другими. Рассказывал лохматый великан из Бурдигалы. Он оглушительно хохотал.
— В нашем городе одноглазый женился на девчонке, которую считал девственницей. Ясное дело, он просчитался. Стал он ее ругательски ругать. А она ему: «У тебя один глаз, почему бы и у меня не быть изъяну?» «Так ведь, — говорит он, — меня лишили глаза мои враги, будь они прокляты». А она ему в ответ: «А меня — мои друзья, будь они благословенны». После этого они зажили дружно.
Этого малого звали Абаллон. Мы выпили с ним вина, и он повел меня в таверну возле Цирка, где хотел повидать друга-гладиатора, тоже родом из Галлии.
Мальчишка. А ухлопал тридцать пять человек, и от женщин нет отбоя. Не знаю, как он еще жив.
Он отпихнул «жучков», которые хотели заинтересовать нас предсказаниями насчет конных ристаний, уверяя, что сведения получены ими от достойных доверия демонов. Но сам он побился об заклад с человеком, прикорнувшим в углу, тот записал ставку на табличку, трижды кивнул и снова задремал.
— Надеюсь, ты — Зеленый, — прогремел Абаллон, обращаясь ко мне. — А не то тебя разорвут в клочья, тут мы все Зеленые.
Возле спящего стояла крепко сложенная девица с лицом в оспинах, она не только посещала школы гладиаторов, но и упражнялась там наряду с мужчинами. Она угощала вином узкогрудого юнца с намасленными кудрями и лукавыми глазами. По словам Абаллона, эта особа хвасталась, что сохранила девственность, ибо соглашалась на все ласки, кроме последних. Другая девушка, длинная и худая, с плоской грудью подростка, была одета в одни короткие кожаные штаны атлета, потемневшие от масла и пота, с порванными завязками. Прислонившись к мужчине, который усмехался чему-то, она пела:
Вновь лысый муж с виллы вернулся,
Так выпьем же снова по чаше!
Будь море вином и корабликом — я,
Как быстро бы я потонул!
[142]
Мы опустились на лавку рядом с маленьким сгорбленным человечком, он сразу же замолк, потом взглянул на Абаллона и, успокоившись, продолжал свой рассказ. Он говорил о недавнем восстании гладиаторов в Пренесте. Они вырвались из лагеря, где их держали взаперти, и потребовали, чтобы им даровали свободу. Была вызвана гвардия. Гладиаторов одолели, загнали обратно в бараки и обезоружили. По словам сгорбленного человечка, они затаили ненависть и ждали удобного случая, чтобы снова восстать.
Один из слушателей покачал головой и сообщил, что он знает женщину, которая родила теленка.
Другой прибавил:
— На Ватиканском холме родилась девочка о двух головах и с хвостом. — Он упомянул о комете, которую видели как раз во время восстания в Пренесте. Никто не назвал Нерона. Но легко было догадаться, что они имели в виду именно его, — они понижали голос, в нем звучали жесткие нотки, тревога, и казалось, вот-вот рухнут стены таверны и эти люди окажутся в обширном зале суда — еще неизвестно, в роли обвиняемых или обвинителей.
— О двух головах, — задумчиво повторил кто-то, — о двух головах…
Все знали, на что он намекал. Двуглавое правительство, мятеж, кровопролитие. Первый заметил, что никогда еще не было столько гроз, как в конце минувшего года.
Мужеподобная, плотно сбитая девица, у которой недоставало двух передних зубов и виднелся шрам на левой руке, крикнула скрипучим голосом:
— Нет, нельзя запретить игры в Цирке! Не смеют! Если запретят, невесть что стрясется. Пойдет кровавый дождь.
Я не расслышал, чем был вызван ее выкрик, но какой-то старик возразил ей дрожащим голосом:
— Пожалуй, это было бы хорошо. Ведь это может навлечь на нас гнев. Кто знает!
— Ты говоришь на краю могилы, старик, — насмешливо бросила она. — Разве свет может стоять без конных ристаний и гладиаторов? Народ не выдержит. Все подохнут со скуки. Для чего еще жить?
Я много выпил, но пока владел собой. Но вот сознание стало затуманиваться. Быть может, я пропустил слова, вызвавшие выкрик девицы, или она просто имела в виду, что Нерон был не охотник до кровавых зрелищ и вводил музыкальные представления, которые она считала недостойными мужчин. Действие винных паров сказывалось все сильней, я погружался в какую-то подводную тишину, на минуту всплывал, слышал обрывки разговоров и пение, потом снова шел ко дну. Я силился приподнять тяжелые веки, почти уверенный, что если засну, то меня предадут и я пропаду. Почему-то мне казалось, что крайне важно разобраться во всех этих толках. Спросить старика, о каком гневе он говорил. Я дремал, вновь возвращался к действительности, словно стряхивал опутавшие меня водоросли, взрываясь из безмолвных водоворотов бессвязного гнева и надежд, из засасывающей пучины слепого страха. Голоса, среди них и мой. Я пел, сидя возле девушки в коротких штанах, которая спрашивала:
— Сколько раз ты готов умереть?
Кто-то медленно гневным голосом рассказывал, как римское простонародье недавно выступило против решения суда, приговорившего к казни всех рабов префекта Педания Секунда. Префекта убил раб. По закону должны были казнить всех рабов в доме. Солдаты разогнали возмущенную чернь и рабов казнили. Этого не забыть.
— Мы чуть было не добились своего. А что было бы тогда? — Вопрос повис в воздухе. — Что же тогда?
Тощая девица ушла, теперь коренастая села рядом и дышала мне в лицо. Когда я входил, она показалась мне отвратительной. Теперь она меня забавляла, даже притягивала, и я принимал ее ласки.
— Зови меня Гаем, — шепнула она. Я не способен был сопротивляться ни ей, ни этому миру, ни императору, ни рабам, ни гладиаторам. Я любил их всех. Она сидела у меня на коленях, повернувшись ко мне спиной. Огни плясали перед глазами, и глаза застилал дым, немой, горький и удушливый. Над головой в пустоте катились и гремели бочки, мне терли загривок жесткой противной тряпкой. Но я чувствовал, что улыбаюсь. Казалось, я стал совсем крохотным, и меня закутали и спрятали в сундук, где матушка держала свои платья, и я дышал прерывисто, задыхаясь. Открыв глаза, я увидел, что дерутся две девицы. Как ни странно, победила тощая. Потом оказалось, что мы под руку идем с ней по переулку.
Но вот мы очутились в низком подвале с закопченными сводами. Потрескивали факелы, сажа клочьями свисала с кирпичного свода, пламя металось в светильнике, как разъяренный зверь, рвущийся из клетки, а девушка поддерживала меня. Абаллон исчез. Человек в лохмотьях, которому бросали медяки, глотал горящие свечные огарки. У девушки на поясе был нож, она хвалила меня за какие-то мои слова или поступки.
— Я увела тебя вовремя, тот человек в нарывах — соглядатай.
Она выхватила нож и метнула его, он вонзился в деревянную полку. Я смотрел, как сверкает, крестообразно разбрасывая блики, дрожащее лезвие. Тут она поцеловала меня, и мне стало досадно, что из-за нее я не вижу, как блестит нож. Человек, скрючившийся на табуретке под полкой, вдруг взвыл по-волчьи и упал навзничь, его били судороги и с синих губ срывались клочья пены. Оборванец, у которого голова была наполовину выбрита вокруг свежей раны, небрежно поставил на деревянный стол свечу, она упала и подпалила платье тучной женщины, у которой на подбородке и над верхней губой торчали черные волосы. Кто-то потушил пламя, набросив на него шкуру, комната наполнилась клубами дыма, запахом паленой шерсти и криками. Человек, махавший руками в дыму, завопил, упал с табурета на пол и, дрыгая ногами, ударил женщину под ребра. Какой-то пьяница выплеснул из кружки остатки вина на женщину, а она каталась по полу и визжала вся в дыму. Тут моя спутница вскочила и выхватила свой нож. Кто-то колотил отломанной от стула ножкой по прилавку, отбивая мелодию.
Внезапно все смолкло, тишину нарушали лишь чьи-то всхлипывания и потрескивание факела. Мужчина медленно поднялся с пола.
— Произошло великое землетрясение, — пробормотал он, — и солнце стало мрачно, как власяница, а луна сделалась, как кровь; и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. — Никто не шелохнулся. Время остановилось, и всюду в мире люди стояли недвижно, внимая голосу, который гремел подобно трубе. — И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам и камням: «Падите на нас и сокройте от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?» — Человек стоял, сухой и скрюченный, словно куст терновника на фоне заката.
— Это правда, — захныкала женщина, все еще лежавшая на полу, у нее прогорело спереди платье и обнажились жирные складки на животе.
Пьяный рассмеялся.
— Пусть себе приходит. — Он икнул.
— Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов, пристанищем всякой нечистой птицы! — выкрикнул человек с дикими глазами.
— Тогда надо выпить еще вина, — проговорил, зевая, пьяница.
— Чтобы залить огонь у тебя в кишках, — отозвался оборванец.
Женщина снова всхлипнула, ощупала огромную дыру в прогоревшем платье, опустила руку, провела ею по голому животу и потрогала выступающий пуп. Охнула и села.
— Что случилось?
Она вновь растянулась на полу и захныкала. Вся сцена рисовалась мне в каком-то странном желтом свете, словно фигуры были высечены из грубого колючего камня. Словно бы все мы умерли и каждый рассказывал о своей кончине. Я все отчетливо сознавал, слышал каждое слово, но был не в состоянии двинуться или встать. Девушка посадила меня на лавку. Она потянулась к человеку с безумными глазами, схватила его за волосы и отсекла ножом клок. Тот не сопротивлялся. У нее едва обозначались груди и большие руки были испачканы в смоле.
— Кто же твой гневный бог? — спросил хозяин погребка таким тоном, точно знал множество богов, множество гневных богов и был о них не слишком высокого мнения.
Глаза у меня снова закрылись, но я слышал, как человек пророчествовал:
— Вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, а купцы земные разбогатели от великой роскоши ее.
— Побейте ее камнями! — крикнула женщина, корчась и раздирая на себе остатки платья.
— Вина, вина, еще вина! — вопил пьяница. Он швырнул кружку через голову моей спутницы, которая выскользнула из своих штанов. — Мир в огне.
Открыв глаза, я увидал, как вино текло по ее лицу. Она прислонилась спиной к стене и тяжело дышала.
— Мир в огне, — повторил пьяница. — Дайте мне еще вина.
— Воздайте ей так, как она воздала вам! — кричал пророк, который стал еще выше и худощавей. — В чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей, ибо она говорит в сердце своем: «Сижу царицей. Я не вдова и не увижу горести». Зато в один день придут на нее казни, смерть, и плач, и голод и будет сожжена огнем.
— Я дважды овдовела, — рыдала женщина, — и никогда не славилась, никогда не роскошествовала. Пощади!
Я смотрел, прищурившись, и перед глазами у меня все путалось и сталкивалось, моя девушка опрокинулась на пророка, хозяин погребка и пьяница подпрыгивали на столе, женщина на полу расплылась в тенях винного цвета.
— А мне, что будет мне? — крикнула девушка, взволнованная яростными, непонятными ей обличениями. — Какова будет моя участь? — Она подошла к стоявшему в углу погребка пророку, держа в одной руке клок его волос, в другой нож. — Обещай мне счастье, а не то я перережу тебе глотку.
Пьяный плюнул на толстуху, лежавшую на полу, но она даже не заметила. Пророк вздрогнул и резко откинулся назад, ударившись головой о стену.
— Восплачут и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие с ней, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучений ее и говоря: «Горе, горе тебе, великий город Рим, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой!» И купцы земные, что покупали тела и души человеческие, возрыдают о ней, потому что никто уже не покупает товаров их золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и виссона, и порфиры, и вин, и елея, и муки, и овец, и колесниц, и тел и душ человеческих. И возопят они: «Горе, горе, в один час погибло такое богатство, и мы смотрим на дым от пожара ее!» Веселись о сем, небо, и вы, пророки, вы, умерщвленные святые, ибо совершил бог суд ваш!
Он упал на землю, дрожа всем телом.
Женщина завопила:
— Я никогда не жила в роскоши, пощади меня! — Она поднялась и, расставив ноги, мочилась на пол. Оборванец уставился на пророка, словно наконец что-то понял и испугался, челюсть у него отвисла и руки были растопырены. Пьяный рыгал. Хозяин таверны кривил рот со скучающим видом. Девушка полоснула себя ножом по бедру, правда легко, но все же кровь извилистой струйкой побежала по ноге.
Я схватил пророка за плечи и встряхнул его.
— Кто твой гневный бог?
Он ответил придушенным голосом, глядя вверх невидящими глазами:
— Нет бога иного.
Я отпустил его, и он рухнул на пол.
Хозяин погребка заметил, ковыряя в зубах:
— Думается, он последователь этого Христа, пророка, которого почитают некоторые евреи.
Но вот меня снова покинули силы и в глазах помутилось. Я тоже испугался, схватил девушку за шею, тяжело повис на ней, сознавая, что она не выдержит, и провалился в темноту.
Очнулся я на соломе, на полу сводчатого погреба, рядом с ней. Она храпела, бедро у нее было в крови, в руке она все еще сжимала нож. Солнечный луч падал откуда-то сверху, и видны были ее ребра и грязные пальцы на больших ногах. Кто-то привязал ей к щиколотке штаны, чтобы она их не потеряла. У меня ломило кости, и я насилу справился с приступом тошноты. На противоположной стене я прочел нацарапанные надписи: «Все девушки любят ретиария[143] Рустиция», «Гликон и ломаного гроша не стоит», «Я ждал тебя здесь, Епапра, подлая шлюха», «Приди и выиграй, Гангент». Девушка вздохнула и почесала густые волосы внизу живота. По ноге у нее пробежал таракан. Кто-то спал, уронив голову на стол. Кто-то стучал кувшинами за прилавком. Не было сил повернуть голову и посмотреть. Рядом со мной стояла наполовину пустая кружка. Я выпил вино, с трудом поднялся на ноги и, спотыкаясь, пошел к двери. В грязном переулке меня вырвало на кучу навоза, и мне стало легче, хотя слабость и тошнота не проходили. Наконец я вышел на улицу и спросил, как пройти к Целию.
Недалеко от дома я столкнулся с Фениксом, который ни свет ни заря кружил по городу, разыскивая меня. Он провел меня через заднюю калитку, уложил в постель и укрыл. К вечеру я почувствовал, что возвращается воля к жизни. Как только я задремывал, в моих ушах звучал дикий голос последователя Христа.
XVI. Луций Анней Сенека
Он проснулся с каким-то благостным чувством. На рассвете ему приснилось, что женщина исполинского роста подошла к нему с венком из благоухающих золотых цветов и велела опуститься на колени, чтобы возложить венок ему на голову. Он преклонил колена и взглянул на нее снизу вверх. Венок, опускаясь, претворялся в свет, яркое сияние растекалось во все стороны волнами и наконец все вокруг затопило; в центре светового круга было отверстие, и там он увидел женщину, взиравшую на него с высоты. Он встал, и его голова проникла в отверстие, свет ослепил его, и он проснулся. Он размышлял над этим сном, когда из сада до него донеслись гневные крики. Приподнявшись на ложе, он велел ввести к нему провинившихся. Перед ним предстали со смущенным видом двое помощников садовника.
— Что вы скажете в свое оправдание?
— Мы не знали, что ты нас слышишь, — ответил мускулистый рыжеволосый германец.
— Это вас не оправдывает. Напротив. Я хочу, чтобы вы всегда вели себя так, словно я рядом. Не из страха передо мной вы должны следовать моим советам и предписаниям, но потому, что сами находите их правильными.
Раб уставился на него.
— Да, господин, — униженно ответил он, не уразумев ни слова. Второй раб, жилистый грек, молчал.
— Вы оба меня поняли? — спросил Сенека. Рабы промолчали. Тут он обратился к греку: — Объясни, что я сказал.
— Ты хочешь, чтобы мы делали то, что ты нам велишь, потому что ты наш господин, — выпалил он, потом запнулся. — Я не расслышал остальное. — Он напряг мысли. — Не из страха, — добавил он живо.
— Так, — одобрил Сенека.
— Потому что ты всегда слышишь нас.
— Нет, не я, а ваша совесть.
— Наша совесть! — с торжеством подхватил грек.
— Что такое совесть? — спросил Сенека германца, который растерянно хмурился и шевелил губами. — Ты знаешь, что хорошо и что плохо? — продолжал Сенека.
— Да, господин, — неуверенно ответил германец.
— Да, мы оба это знаем, — подобострастно поддакнул грек.
— Так вы знаете, что худо ссориться и кричать?
— Да, это беспокоит тебя, господин. Но мы не знали, что ты нас слышишь.
— Нет, нет, — терпеливо сказал Сенека. — Это нарушает мир вашей души, ведь вы испытываете потребность в нравственной гармонии и духовном покое.
— О да, господин, конечно, это нарушает мир нашей души. Верно, Аккон?
— Да, господин, — покорно подтвердил перепуганный германец.
— Теперь скажите мне, из-за чего вы поссорились.
— Пустое, господин, — ответил грек по имени Гектор. — Он съел ломоть хлеба, который я оставил под деревом в сумке вместе с точильным бруском.
Сенека перевел взгляд на Аккона.
— Я был голоден, — сказал тот.
— Но ты знал, что это его хлеб.
— Я был голоден, господин.
— Он вечно голоден, господин, — заметил Гектор.
Сенека внимательно посмотрел на рабов, потом отпустил их. Но вдруг, нахмурившись, он вернул Гектора.
— Откуда ты взял хлеб?
У Гектора забегали глаза.
— Он остался от завтрака. Я купил его у повара. Он был черствый.
Сенека бросил на него суровый взгляд.
— Я не потерплю лжи и прикажу домоправителю расследовать.
Гектор упал на колени.
— Господин, это был совсем маленький ломоть и вдобавок черствый, никто его не брал.
— В этом доме у всех хлеба вволю, — мягко сказал Сенека. — Но ты не должен лгать.
— Я больше никогда не буду лгать, — горячо сказал Гектор. — Больше никогда, я тоже ненавижу ложь. Потому что… — он стал подыскивать нужное слово, — совесть слышит меня. — Он радостно улыбнулся. — Всегда слышит.
— Можете идти, — устало произнес Сенека. Он откинулся на подушку. Чтобы успокоиться, он начал заканчивать в уме послание, начатое накануне вечером. «Поверь мне, не следует бояться смерти, ибо благодаря ей из жизни изгоняется все страшное. Итак, когда враг угрожает тебе, стой бестрепетно. Первым долгом совлеки с вещей их обманчивую оболочку, и ты узришь их подлинную суть. Ты обнаружишь, что в них не заключается ничего страшного, кроме самого страха. То, что случается с мальчиками, бывает и с нами, ибо мы в некотором роде взрослые дети. Когда хорошо знакомые, дорогие им существа, участники их игр, появляются перед ними в масках, они пугаются. Мы должны снимать маски не только с людей, но и с вещей и восстанавливать их подлинное лицо».
К нему возвращалась безмятежность, слова действовали на него успокоительно и завораживали, он переживал множество жизней, охватывал множество вещей, приливы и отливы океана, извечно возвращающие трепетные узоры звезд. Великую звездную клеть, где люди рождаются и умирают. Облик дерева утрачивал свою величавую простоту, распадаясь на несчетные струи бьющей фонтаном жизни, струи, ощутимые в ежеминутно меняющемся узоре ветвей, в бесконечно разнообразном рисунке жилок на листьях. Все листья одинаковы, и ни один не похож на другой. Дерево вздымается ввысь и падает срубленное и уносится в просторы нежно пламенеющих небес, уплывает по волнам, гонимое ветрами, извечно распадается на элементы духа и материи и вновь обретает свою целостность. «Зачем ты грозишь мне мечом, огнем, хочешь предать меня яростным палачам? Долой пышные зрелища, за которыми ты прячешься, пугая глупцов! Ты, Смерть, которой вчера с презрением бросила вызов моя рабыня, юная девочка. Зачем тычешь ты мне в глаза бичом и дыбой? Зачем готовишь ты все эти орудия пытки для каждого из членов тела и множество других инструментов, предназначенных раздирать человека на клочки? Убери прочь эти предметы, при виде которых мы цепенеем. Пусть умолкнут вопли, стоны и дикие крики, что вырываются у несчастных жертв. Нежный шепот ветра в расщепляющемся дереве, вода, заливающая землю, которая сама вечно распадается, лица людей, отражающие суетные желания, — все раскалывается на мелкие куски, словно маски из папируса, растворяющиеся в воде у нас на глазах, лицо возлюбленной покрывается морщинами, грубеет и рассыпается, словно глыба земли под мотыгой раба, неотвратимо и неудержимо становясь добычей тления, утекая в ничто сквозь поры сознания. Ты попросту боль, над которой глумится подагрик, которую испытывает больной желудком, поглощая дорогие яства, которую терпит хрупкая женщина во время родов. Ты переносима, только и всего. Будь ты непереносимой, ты не могла бы длиться».
Внезапно он почувствовал, что ему надоело лежать. Он сбросил с себя покрывало и опустил ноги на ковер. Тотчас подбежали двое рабов и стали помогать одеваться, вытерли ему губкой лицо и грудь, принесли одежду и ловко в нее облачили. Он прошел из дома в небольшую летнюю беседку и велел принести ключевой воды и диких яблок из сада. Когда он тщательно прожевывал яблоко, к нему подошла Паулина, одетая просто и со вкусом, ее круглое ясное лицо с первого взгляда казалось почти столь же скучным, как правильное, ничего не выражающее лицо Юноны, изваянное третьестепенным скульптором. Но постепенно открывалась его значительность, ибо оно дышало невозмутимой уверенностью и в глазах проглядывала сердечность — в этом была тайна ее хрупкого обаяния, которое исчезало, когда проявлялась ее тяжеловесная практичность.
— Сегодня на рассвете по дороге проскакал во весь опор верховой. Он свернул на проселок и помчался к дому Минуция Феликса.
— Вероятно, из Неаполиса, — подумав, ответил Сенека, — но скорей всего из Путеол. Феликс ведет дела в Нумидии. В Русикаде. Вчера, кажется, ждали прибытия судов из Гиппона.
Она кивнула.
— Нас это не касается.
— Нас касается все и ничто, — пробормотал он. Однако это была условная дань мудрости, которой надлежало бы руководствоваться в подобных делах, но которой никогда не следовали. Его и жену весьма интересовали гонцы, скачущие по дороге в необычное время.
— Титир еще не отправился в Форум Юлия, — продолжал Сенека. — Он едет завтра. Пригласи его вечером к обеду. — И хотя Паулина не выразила удивления, он добавил, как бы оправдываясь: — Почему бы рабу не возлежать с нами, если он хороший собеседник? Мы не сажаем за стол любого раба, но ведь мы не приглашаем и любого свободного. — Он снова задумался. — Кого пригласить из наших соседей?
Подумав, она ответила:
— Блеза.
— Да, — сказал он, радуясь ее молчаливому пониманию. Увидев возлежащего за столом раба, Блез удивится, но не чересчур. Глупец, хвастающий своим богатством или происхождением, мог бы сделать замечание или выразить недовольство и, уж конечно, не знал бы, как себя держать с Титиром. Но Блез оценит умственное превосходство этого человека, он узнает, что тот отправляется в Форум Юлия, и, рассказывая об этом, будет передавать все в должном освещении. — Ты прикажешь его пригласить?
Она кивнула и заговорила об огороде.
— Опыт с рассадой огурцов в корзинах с землей оказался удачным. Мы получили урожай ранних огурцов. Не пришлось покрывать корзины и прятать их в ямы, погода была благоприятной. Язон приделал к корзинам колеса, их вывозили и ставили на солнце, а в холодные дни покрывали крышками из прозрачного камня. Полагаю, мы сможем иметь круглый год свежие огурцы. По правде сказать, я не заметила разницы во вкусе — вымачиваешь семена в молоке или в меду.
— Не надо второго завтрака, за обедом я попробую салат из огурцов, чтобы Блез и Титир не испытывали неловкости. — И он добавил: — Передай управителю, что у меня есть основания считать нечистым на руку помощника садовника Гектора.
Супруги спокойно посмотрели друг на друга. Они не обменивались мыслями и чувствами и не задавали друг другу вопросов. Таким взглядом ребенок смотрит на другого, узнавая его, принимая как некую неизбежность факт его самостоятельного существования, но ничего от него не требуя и не вторгаясь в его жизнь. Она пригладила складки на платье и встала. Не глядя на нее, Сенека знал, что она удалилась. Он смотрел в сад, в этот маленький элизиум, где он переживал единение с природой. За миртовыми кустами, осенявшими бассейн, куда он порой погружался, Сенека заметил Аккона и Гектора, дружелюбно беседующих, и вздохнул. Отвернувшись, увидел спокойно подходившего к нему Наталиса. Не обнаруживая удивления, молча указал ему на стоявшую напротив скамью из желтого о прожилками мрамора, над которой свешивались кисти пурпурных цветов.
Наталис запыхался.
— Я оставил свою лошадь в Требийской роще под присмотром надежного раба и пришел к тебе кружным путем.
— Большой расход энергии по пустячному поводу.
— Это еще нужно доказать. — Наталис справился с одышкой и обрел свой обычный лукаво-самоуверенный вид. — Я пробуду несколько дней на вилле у Монтана. Он знает, что я отправился на прогулку верхом.
— Не хочешь ли освежиться?
— Нет. По возможности не хочу никому попадаться на глаза. — Он сделал паузу, потом спросил: — Тебя не интересует, что я хочу тебе сообщить?
— Интересует. И не интересует, — улыбнулся Сенека. — Ты не забыл, как два года назад тебя обвинили, что ты советовал мне примкнуть к Пизону.
— Я помню не только это, но и многое другое.
— Ты продолжаешь действовать в пользу Пизона.
— Пизон мой друг. Надеюсь, и ты тоже.
— Мне приятней было бы слышать, что ты друг Антония Наталиса. Чтобы быть чьим-то другом, мы должны верить ему и уважать его.
— Боюсь, твой опыт ограничен. Я не раз встречал людей, связанных самой странной дружбой.
— Нет, — ответил Сенека не без резкости. — То, о чем ты говоришь, не дружба. Соглашение, союз, товарищество. Можно найти другие слова. Но не дружба.
— Я не умею, подобно тебе, столь тонко анализировать значение слов, — ответил Наталис с насмешливой ноткой в голосе. — И, уж конечно, я приехал издалека не затем, чтобы обсуждать подобные предметы.
— Так зачем же?
— Хочу услыхать, что ты скажешь о погоде, о весне, о видах на урожай, о возможных усовершенствованиях в области сельского хозяйства.
— Я сочувствую и готов поддержать все начинания, направленные на благо Человека по воле Бога.
— Благодарю. Могу я спросить, собираешься ли ты оставаться здесь всю весну и лето?
— Вероятно, я перееду поближе к Риму. Через несколько дней. Моя вилла на Аппиевой дороге требует присмотра.
— В трех с половиной милях от Рима? Что ж, пусть это пойдет тебе на пользу. Даже если ты не сможешь присутствовать на играх в честь Цереры, это будет тебе на пользу. — Наталис встал. — Тебе нечего передать твоему старому другу Пизону, что-нибудь полюбезней, чем прошлый раз?
— Я питаю к нему самые теплые чувства. Я слышал о его строительных планах, о том, что он поощряет поэтов и ораторов. Поздравляю и желаю ему успеха во всех его начинаниях.
— Превосходно. — Наталис потер руки. — Пожалуй, лучше сейчас не скажешь. Пойду к своему коню. Жалею, что не могу передать от тебя привет Монтану. — Он поклонился.
Сенека смотрел, как он удалялся по тропинке. Через несколько минут вернулась Паулина и спокойно встала перед ним, скрестив руки на груди.
Он заговорил размеренным голосом:
— Оказывается, приготовления наших друзей идут полным ходом и должны завершиться во время Цереалий.
Она взглянула на кипарис. Черный дрозд схватил червя на газоне.
— Не было известий от Субрия?
Он прищурился, но овладел собой.
— Не следует называть имен. Нет, ни слова от этого сумасброда. Иначе я постарался бы его охладить.
Больше ничего не было сказано. Через минуту она опустила руки и вышла. Сенека позвал секретаря. Но не стал ему диктовать, только спросил:
— Была у тебя когда-нибудь злокачественная лихорадка?
— Да, господин, несколько раз.
— Я думал о том, что мы пытаемся себя обмануть, когда заболеваем. Мы говорим себе, что это легкое недомогание, перенапряжение или мимолетная усталость. Мы стараемся не замечать озноба. Но когда становится хуже и жар увеличивается, даже выносливый человек вынужден признать, что он болен.
— Ты прав, господин. В прошлом году, заболев лихорадкой, я убеждал себя, что это лишь легкая простуда.
Сенека улыбнулся.
— Боль в ноге, покалывание в суставах. Мы уверяем себя, что растянули связку или устали от долгой ходьбы. Но когда суставы на ногах опухают и нельзя отличить правой ноги от левой, мы подыскиваем имя недугу. Он называется подагрой.
— Да, господин. — Озадаченный, но приученный к терпению юноша вертел в руке стило, то вглядывался в исхудалое морщинистое лицо старика, то поднимал голову и следил за волнистыми облаками, плывущими над кипарисами.
— Почти так же обстоит дело и с душевными недугами, мой юный друг. Чем они серьезнее, тем меньше мы их замечаем. — Он задумался, и секретарь открыл свою чернильницу. — Вспоминаю, как в прошлом году я решил проплыть из Путеол в Неаполис. Море было тихое, гладкое, хотя на небосклоне сгрудились черные тучи. Мне следовало бы остерегаться этих туч, предвещающих ураган. Но я полагал, что мы быстро доберемся до Неаполиса, если пересечем залив, держа направление на остров Незис, лежащий против Вайи, и проплыв мимо бухты. На половине пути поднялся ветер. Еще не буря, но мертвая зыбь, волны набегали все быстрей и быстрей. Я велел рулевому идти к берегу. Он ответил, что берег слишком крутой и в бурю он больше всего боится причаливать под ветром. Но я чувствовал себя неважно, нечто вроде морской болезни, дурно действующей на печень. И я заставил его направиться под защиту скал. Не дожидаясь, когда он бросит с кормы якорь, я кинулся в воду в своем плаще. Несмотря на прилив, я выбрался на берег. Однако боль в печени не сразу утихла. Пришлось прибегнуть к массажу в термах. И я подумал, как легко мы забываем о своих физических недугах, не говоря уже о душевных, хотя волей-неволей нам приходится с ними считаться.
Секретарь ушел в свои мысли. Сенека посмотрел на него с нежностью. Юноша вздрогнул:
— Да, господин.
Сенека старался поймать нить повествования. Он кашлянул и начал:
— Я могу обеднеть. Тогда у меня будет много собратьев. Я могу стать изгнанником. Тогда я буду считать себя уроженцем того места, куда меня сошлют. Меня могут заковать в цепи. Что тогда? Разве я сейчас не скован? Природа приковала меня к тяжелому грузу тела. Ты скажешь, я умру. Это значит, что мне уже не будут грозить болезни, цепи, смерть. Смерть нас уничтожает или освобождает. Если это освобождение, то груз исчезает и остается лучшая часть. Если это уничтожение, то исчезает и хорошее и плохое и не остается ничего. — Он остановился и спросил уже другим тоном, показывая, что он не диктует: — Ты боишься смерти?
Скорописец покраснел и ответил:
— Да, господин.
— Ты правдив, а это уже много. Тому, кто правдив, все будет дано. Я имею в виду духовные блага. Материальные же скорее всего у него отнимутся. — Он вздохнул. — Как быстро летит время! Глядя на тебя, я вспоминаю свою юность, полную надежд. Всего минуту назад я сидел в школе пифагорейца Сотиона, чье учение о растительной пище оказало глубокое влияние на всю мою жизнь. Всего минуту назад я впервые выступил в суде. Всего минуту назад я утратил желание быть адвокатом. Всего минуту назад я утратил силы. Вся наша жизнь — лишь одна минута.
Скорописец снова покраснел и пролил чернила. Сенека смотрел в даль, открывающуюся за садом, и видел бесконечные горизонты утрат и исчезающие очертания элизиума. Где-то за кипарисами громко перебранивались Аккон и Гектор. На мгновение ему показалось, что его долг послать за ними, но тут же он понял, что ему не одолеть тупости и хитрости. Он снова принялся диктовать.
— По этому случаю, мой дорогой друг, вспомним один твой стих. Я уверен, что он имел отношение и к тебе самому и к другим. Некрасиво говорить одно, а подразумевать другое. Помню, однажды ты затронул столь близкую нам тему, сказав, что смерть не постигает нас внезапно, но мы постепенно к ней приближаемся. Мы ежедневно умираем. Ежедневно теряем частицу жизни. Даже когда мы растем, жизнь убывает. Мы утрачиваем детство, отрочество, потом юность. Вплоть до вчерашнего дня все прошедшее время — потерянное время. Даже в этот переживаемый нами день мы подвластны смерти. Развивая эту мысль, ты сказал в характерном для тебя возвышенном стиле, обнаруживая редкое умение давать точные определения вещам: Нет смерти иной, кроме последней, что нас похищает. Конечно, лучше бы тебе прочитать собственные стихи, чем мое письмо. Тогда ты ясно почувствуешь, что та последняя смерть, которой мы страшимся, Не единственная.
Незаметно для себя он умолк, не чувствуя разрыва между своими последними словами и волнением, которое он испытал, глядя на залитый солнцем сад и созерцая пространство, где двигались прекрасные формы, устойчивые в своей динамической совокупности и все же распадающиеся и уносимые в бездну последней смерти.
XVII. Луций Кассий Фирм
На следующий день мне стало лучше. К счастью, Лукан ничего не знал о моей вылазке. Феникс распустил слух, что я поправляюсь после легкого недомогания.
Пришел апрель, месяц, когда вспаханная земля дарит молодые колосья, когда золотые ожерелья и другие украшения снимаются со статуи Венеры, когда — ее омывают и освежают живительной влагой, а женщины из низших сословий раздеваются донага в мужских банях, отданных им на этот день, и поклоняются Фортуне Мужской. Явился Феникс с новостями, почерпнутыми на кухне. Одной рабыне удалось проникнуть в бани с подругой-вольноотпущенницей, и у нее нашлось, что рассказать об играх обнаженных женщин, совершавших возлияния из толченого мака, разведенного в молоке и меде, и забавлявшихся друг с другом.
Мы с Луканом отравились с визитами. Посетили старика, украшавшего своих любимых рыб ожерельями из драгоценных камней. Слушали чтение еще одной поэмы об аргонавтах под портиком храма Квирина. Были на обеде, где профессиональный рассказчик угощал нас анекдотами, актор декламировал Менандра, а скульптор из Александрии быстро и ловко лепил фигурки, добиваясь известного сходства с гостями. Теперь я знал, что в таких случаях надлежит выражать удивление, подавать скучающие или возмущенные реплики. На этом обеде я впервые уловил разницу в обхождении с клиентами и с гостями. Им подавали сваренных в воде моллюсков, а нам — лукринские устрицы, им — вялый арицииский лук-порей, а нам — свежие грибы, им — нурсийскую репу, а нам — спаржу из Равенны, им — вонючую рыбу, а нам — барабульку, им — сороку, подохшую в клетке, а нам — голубей и дроздов. Соответственно вели себя и рабы. Хлопнули по руке клиента, потянувшегося за белым вином, угощали их гарным маслом и прокисшим сабинским вином, громко пересчитывали ложки, натравливали их друг на друга. Одного клиента вывели из комнаты, другому только потому удалось остаться, что он начал фиглярничать и кувыркаться на полу. Я смеялся вместе с другими гостями. Но при всем том я был начеку и в каждой шутке улавливал тень страха или угрозы. Я прислушивался уже не в первый раз к завуалированным ироническим намекам и осторожным выпадам против тирании. Казалось, люди хотели этим сохранить уважение к себе и сознание, что еще не все потеряно. Но, отважившись на замысловатый намек, впрочем звучавший довольно невинно, человек некоторое время после этого сидел с испуганным видом. И все же люди поддавались соблазну поддержать свое достоинство, почувствовать на миг свою независимость, хотя, поступая так, еще прочнее заковывали себя в цепи, которые тщились сбросить.
Казалось, Полла смирилась. К моему удивлению, она подружилась с Ацилией и постоянно с ней встречалась. Та навещала нас вместе с Канинией и падшей весталкой. Я заметил, как Полла однажды кисло улыбнулась Лукану и тихонько сказала:
— Она не так уж плоха, только надо к ней привыкнуть.
Лукан сообщил мне, что он больше ничего не опасается со стороны матери. Цедиция не давала о себе знать. Порой меня одолевало страстное желание видеть ее, но я с ним справлялся. Хотя я не слишком верил Марциалу, его рассказы оказали свое действие. Меня мучила мысль о ее былых любовниках, и я затаил злобу.
Ацилия пыталась завладеть мной и порасспросить о бетикийской родне и о знакомых. Я старался от нее увернуться не только потому, что старуха была прямо-таки несносна — я уж как-нибудь вынес бы ее общество из уважения к Лукану, — мне не хотелось вспоминать свою жизнь в провинции. Порой всплывали неприятные воспоминания, но я избегал думать обо всем, пережитом мною до приезда в Город. Меня даже удивляло отвращение, какое я испытывал при попытках Ацилии воскресить прошлое. Но я обнаружил, что мне не хочется думать и о будущем. Я хотел жить только настоящим, стараясь сохранить зыбкое равновесие и развивать энергию в обстановке, для меня новой. В Испании я, кажется, не проявлял наблюдательности. Я принимал все как должное — лица прохожих или систему управления, какой придерживался в Кордубе городской совет. Теперь же я непрестанно наблюдал за людьми, отмечая всякую особенность речи, манер, характеров, стараясь уловить то основное, что объединяло их, руководило их повседневной деятельностью, накладывало отпечаток на их лица. Я уже почти ничего не принимал как должное. Я перечитал Вергилия, и он показался мне скучным.
Женщины только что вернулись от одной богатой вдовы, которая вот уже тридцать лет только и делала, что играла в шашки или смотрела представления, разыгрываемые для нее мимами. Ее поведение считали нравственно образцовым, ибо она почти не выходила из дому. У изголовья ее ложа стояла шашечная доска на случай, если б она проснулась ночью, а порой мимы играли для нее и после полуночи.
— Какой интересной и полной жизнью она живет! — воскликнулаКаниния. — Невольно позавидуешь; хотя мой муж никогда не храпел, я часто страдала бессонницей, особенно когда появились боли в левом плече и колене, а будь я так же богата, как Басса, я держала бы десять массажистов, которые растирали бы меня днем и ночью, но — увы! — наши деньги ушли на дорогие рыбные соусы, а ведь я говорила Титу: «К чему нам полный погреб соусов, таких дорогих, что их и есть-то жалко, неужели оставлять их наследникам, вдобавок от них страшная вонь?» К тому же я больше не могла носить ткани, окрашенные тирскими красителями, после того как узнала, что их носила Урса, потому что запах краски заглушал ее собственный, — не знаю, верить этому или нет.
Весталка сидела молча и таращила глаза. Ацилия по временам перебивала свою подругу:
— Ты слишком много говоришь, дорогая. Не тебе одной дан язык. Помни об этом.
— Сын Фабия Суры вчера показал мне язык, — продолжала не смущаясь Каниния. — Какой испорченный мальчишка! У него низкорослые лошадки для верховой езды и для катания, большие и маленькие собаки, не говоря уже о соловьях, попугаях и черных дроздах.
Ацилия обратилась ко мне, указывая глазами на весталку, которая откровенно зевала:
— Бедная девушка, раньше она была куда жизнерадостней.
Следующий день мы оставались дома. Он был посвящен Великой Матери, и Лукан заявил, что терпеть не может фригийских флейт, барабанов и кимвалов, особенно же кастрированных жрецов Кибелы, что носят по улицам свою богиню и оплакивают своего юного бога, повешенного на дереве. Но на другой день суды были открыты, и мы пошли в город. Лукану хотелось посоветоваться с юристами по поводу спорных пунктов одного завещания. Он был одним из наследников по завещанию, в котором нигде прямо не говорилось, что раб по имени Дафнис должен быть отпущен на волю, в специальном же пункте при этом значилось: «Дафнису, отпущенному мною на волю, столько-то сестерций». Все юристы высказались за то, что Дафнис не подлежит освобождению и по закону раб не имеет права наследовать. В суде не было ничего достойного внимания.
Но на обратном пути произошел случай, доказывающий, что иной раз человек именно непроизвольно высказывает опасные мысли, особенно если это позволяет ему блеснуть остроумием. На сей раз поступок совершил сам Лукан, столько раз предостерегавший всех нас от рискованных выступлений. Мы проходили мимо общественной уборной, и Лукан вздумал туда зайти. Мне еще не приходилось бывать в этих роскошных заведениях, и я с интересом осматривался. Пока один из наших рабов расплачивался у входа, мы вошли в амфитеатр с мраморными сиденьями, расположенными дугой вдоль стен. Здесь стояла в нише статуя Аполлона с лирой. Вероятно, она и напомнила Лукану Нерона. Вокруг нас горожане болтали, уславливались о встречах, даже обсуждали и заключали сделки.
— Некоторым нравится такое окружение, — заметил Лукан. — Деньги, как известно, не пахнут.
— Сколько лет мы не виделись! Нет лучше места для встречи со старым другом, — говорил один.
— Как чувствует себя Терция после того, как ей вскрыли нарыв? — спрашивал другой.
В желобах с прохладным журчанием бежала вода, а посреди амфитеатра возвышалась статуя Венеры Очистительницы в человеческий рост, окруженная кадками с миртами; Венера несколько напоминала Цедицию. Сердце у меня тревожно сжалось.
Лукан страдал от газов. Испытав облегчение, Лукан непроизвольно воскликнул:
— И оглушительный грохот, подобный подземному грому!
Наступила гробовая тишина. Люди вскочили с мест и, на ходу кое-как приводя в порядок одежду, спешили к выходу, узнав стих из поэмы Нерона о землетрясении в Неаполисе, которую тот столько раз декламировал. В дверях произошла давка, даже створки затрещали. Спешили выйти и те, кто не знал, чем вызвана паника, опасаясь, что треснула крыша или произошло убийство.
Лукан побледнел. Все же он неторопливо поднялся и взял меня под руку. Мы вышли из опустевшего помещения. На нас глазели уборщики с тряпками в руках. Лицо Лукана выражало какую-то безнадежную гордость, отчего резче выступила его слабо развитая нижняя челюсть. «Если он доживет до старости, — подумалось мне, — он будет смахивать на изваяние своего дядюшки, только черты у него будут потяжелее».
— Вряд ли это было уместно, — заметил я.
— Как было не почтить великого поэта? — возразил он, пытаясь отделаться шуткой. Но ему недоставало непринужденной, беспечной насмешливости, которая придала бы духу Сцевину, побеждавшему таким образом страх и тревогу. — Я вечно забываю, что у меня громкий голос. Я привык декламировать стихи.
Ничего не случилось. Опять ничего. Мы чувствовали с особенной остротой, что за нами следят, нами играют, над нами издеваются. Власти давали нам крепче запутаться в сетях наших же интриг, чтобы в последний момент окончательно их затянуть. И все же нам казалось, что мы неуязвимы, нас не замечают и этот поединок кончится вничью. Сенецион сообщил нам, что Сцевин по-прежнему пьет запоем, а Латеран спокоен, занимается гимнастикой и совершает загородные прогулки верхом.
По его мнению, Пизону удалось выбросить из головы все эти дела, он всецело занят созданием новой библиотеки, подготовкой наград поэтам и еще никогда не выказывал такой любви к жене, не был с ней так нежен на людях и не проводил ради нее столько времени у ювелиров в поисках драгоценностей. О его последнем подарке — диадеме и ожерелье из рубинов, сделанных выписанным из Александрии ювелиром по вкусу Аррии, — с завистью говорили все матроны. Ее поведение было безупречным, и матроны отводили душу, толкуя о ее ненасытности и гадая, сколько времени пройдет, пока она расстроит здоровье Пизона. Художник из Тралл изобразил ее в виде Елены на фресках, которыми украшалось новое крыло дома. После Пожара Пизон скупил соседние владения. И при всем том он добивался руки Антонии.
Мне не хотелось расспрашивать о Цедиции. Но я узнал, что Сцевин завел себе новую любовницу, костлявую женщину из Британии с желтыми волосами до пят, чей выговор его забавлял. Он учил ее всем нецензурным словам, какие знал не только по-латыни, но и на греческом, сирийском, египетском, пуническом и других языках. Сцевин знал множество таких слов, поскольку уже много лет составлял эротический словарь на нескольких языках. Бедняжка большей частью не понимала их значения и смешила его до слез. Наталис развлекался и, может быть подготавливая себе алиби, завел роман с вольноотпущенницей, наполовину нумидийкой, о которой говорили, что она гермафродит и обслуживает матрон в качестве гадалки и массажистки. Афраний уехал в Байи, но должен был скоро вернуться.
Я бесплодно мечтал о Цедиции и порой вспоминал с тревожным чувством пророчества последователя Христа, предсказывавшего гибель Рима. Я спросил Лукана, было ли окончательно установлено, что вызвало Великий Пожар. Он пожал плечами.
— Кто знает? Скорей всего несчастный случай. В этом перенаселенном городе пожары не редкость. Не нужно никаких особых причин. Разумеется, воры и грабители не упустят случая раздуть огонь, так было и на этот раз. Пожалуй, хотелось бы, подобно другим, обвинить в поджоге некое высокопоставленное лицо, но, честно говоря, мне кажется это неправдоподобным. Хотя бы он пел и играл на лире, созерцая это зрелище. Могу допустить, что секта тех, кого называют христианами, эта разновидность евреев, которых те, кстати, ненавидят, приложила руку к пожару. Они постоянно толкуют, что мир погибнет в огне, и порой совершают поджоги в надежде вызвать ожидаемое событие, — так показывают соглядатаи. Когда до Нерона дошли слухи о том, что обвиняют его, он сам указал на эту жалкую секту. — Лукан пожал плечами. — Кто знает?
Теперь я сам с нетерпением ждал Цереалий, впервые после моего приезда в Рим я должен был присутствовать на большом празднестве, происходившем ежегодно. В день Анны Перенны были народные увеселения, государству не было дела до этих забав на лугу. Временами я старался вообразить великолепные зрелища, которые мне предстояло увидеть, — гонки на колесницах и другие состязания, — забывая, что, если б наши планы удались, нам было бы не до этого. В противном случае тем более было бы не до игр и состязаний. И все же я представлял себе участников игр в белых одеждах. Захватывающее ощущение земного счастья.
Эти обряды возникли в среде плебеев, сопровождались театральными представлениями, песнями, играми, и все это в гораздо более широком масштабе, чем в день Анны Перенны с его плодовитыми объятиями. В деревне праздник оканчивался процессией вокруг полей, в Риме — шествием к цирку. Тут воображаемая мною картина затуманивалась и раскалывалась, меня ослепляло сверкание мечей и оглушали крики перепуганной толпы. Мне мерещился Пизон, бледный, но величавый, в ожидании прислонившийся к мощной колонне тосканского мрамора. Несколько недель назад я приносил жертву там, а также в святилище Цереры у подножия Капитолийского холма. Старый храмовый служитель рассказал мне, какие статуи стояли на крыше до Пожара, и показал уцелевший кусок старых фресок, вставленный в раму.
Я с головой ушел в фаталистические мечтания, оторвался от внешнего мира, утратил представление о времени, и канун великого дня пришел для меня неожиданно. Я провел этот вечер с Луканом и Поллой, мы спокойно разговаривали, по безмолвному соглашению, лишь о пустяках. Он уверял, что все мы слишком много едим, и помышлял о посте.
— У одного греческого автора я прочел, что после первых острых позывов к еде желудок сокращается, и муки голода затихают. Когда скифы предвидели длительную голодовку, они туго стягивали себе живот.
Мне было непонятно, почему греки называют повышенный аппетит, особенно в холодную погоду, «бычьим голодом». Полла говорила, что ей разонравились фрески, сделанные пятьдесят или сорок лет назад. Ей хотелось обновить большинство комнат в доме, отделать в более модном стиле по примеру ее друзей. Фантастические сюжеты и пышные архитектурные детали, обрамляющие композицию. Понтия назвала ей самых модных художников, умеющих искусно создавать впечатление бесконечной перспективы. Расписанная таким образом комната перестает быть замкнутой коробкой. Она становится центром расходящихся во все стороны линий и плоскостей, смелым сочетанием объемов, в пределах которого непрестанно разыгрываются сцены из древних мифов, причем фигуры, написанные больше чем в натуральный рост, уменьшаются в перспективе и композиция обретает целостность благодаря объемлющим ее кривым.
Лукан слушал рассеянно и предложил ей заняться обновлением убранства комнат. Затем мы стали с ним обсуждать странные выражения, встречающиеся у драматурга Лаберия, — архаизмы, словечки из местных диалектов и придуманные им самим. Я вспомнил, что одна из его пьес называлась «Анна Перенна», но я ее не читал, а Лукан признался, что списка этой пьесы нет в его библиотеке. Он отметил на табличке, что надо дать указание библиотекарю приобрести сочинения Лаберия или же их переписать. Я решил после праздника сходить в Публичную библиотеку и попытаться найти в пьесе объяснение наблюдений, сделанных мной в роще Анны Перенны. Тут возникло предположение, что «Анна Перенна» стала запрещенной книгой, из тех, что под шумок изымают из библиотек. Я нашел, что это маловероятно, хотя Лаберий был бесстрашным писателем и жил во времена, когда можно было свободно высказывать свое мнение. Пока мы говорили, я перебирал в уме аргументы за и против самовластия. Несмотря ни на какие аргументы, дело явно шло к этому. Я отогнал эти мысли. Жребий был брошен. Цедицию я вспоминал хотя и с обидой, но без злобы, даже с известной жалостью. Как еще могла поступать женщина ее уровня? Она была чересчур умна, чтобы идти избитым путем и, подобно другим матронам, растрачивать время по пустякам, и недостаточно умственно одарена, чтобы сделаться философом или поэтом. Ей пришлось бы жить затворницей, чтобы не вызывать пересудов вроде тех, какие я слышал от Марциала. В Кордубе тоже занимались вымыслами, иной раз сеяли злостную клевету, но в Риме распространяли грязные, опорочивающие человека сплетни с каким-то остервенением, непрестанно, словно их к этому принуждали. Чтобы сохранять моральное спокойствие, каждый считал долгом убедить себя, что он окружен развратниками и подхалимами. Если только он не был самодовольным стоиком. Но и стоики с презрением смотрели на развращенный мир. Ненавидеть порок, ненавидеть человечество. Тут я вспомнил Музония, его наивную плебейскую философию, скучную и абсурдную, неприложимую к современной римской действительности. Все же я почувствовал к нему симпатию. Здравое учение, и хотелось верить, что, если его упорно проводить в жизнь, можно преодолеть злобу и тщеславие и наконец установить нормальные человеческие взаимоотношения.
Лишь в конце трапезы Лукан коснулся волнующей нас темы. Удостоверившись, что поблизости нет рабов, он поднял чашу:
— В честь Юпитера Избавителя!
— За Свободу — ведь она женщина! — добавила Полла.
Я внимательно посмотрел на нее. Она была скромно одета и в последнее время проявляла сдержанность. Она даже села за прялку и засадила своих рабынь за два усовершенствованных ткацких станка. Лукан однажды повел меня на женскую половину посмотреть на их работу. Павшая весталка тоже была там, на сей раз она была бодрой и деятельной и показывала девушкам, как наматывать нити основы на верхний валик. Нити свисали вниз, натянутые глиняными гирьками, которые сталкивались со стуком. В одной из комнат шел спор о Лелии, дочери троюродной сестры, которую воспитывала Полла. Ее родители, люди старого закала, переехали в Британию, где отец занял какую-то должность, и не решились взять с собой слабогрудую девочку. Они должны были жить, насколько мне известно, в месте, называемом Эборак, где сырой и прохладный климат. Лелия была девочка лет одиннадцати, невзрачная, с большим крутым лбом и бесцветными глазами. Она была обручена с одним богачом из Ланувия, в знак чего гордо носила железное кольцо без камня. Полле не нравилось, как ее одевает старая няня. Та туго затягивала девочку и кормила ее впроголодь, чтобы у нее была тонкая талия. Полла уверяла, что от этого спина делается сутулой, плечи неровными и плохо развиваются груди, как это часто бывает у пай-девочек.
— Ты хочешь сделать из нее кулачного бойца, — возражала няня, качая седой головой и поджимая тонкие бескровные губы. — Хочешь, чтобы она стала неповоротливой клушей или жирной, раздутой как пузырь…
Дурно сложенная девочка поглядывала то на няню, то на Поллу кроткими бесцветными глазами, держа на коленях куклу из слоновой кости, на полу у ее ног валялся незаконченный рисунок.
— Спой нам песню, — уговаривала ее Полла, но девочка застенчиво потупила глаза и никак не соглашалась. — Спой ту песню, что ты так хорошо пела нам вчера.
Девочка оживилась, лишь когда зашел разговор о ее свадьбе, которую предполагали отпраздновать примерно через год.
— А это долго ждать — год? — переспрашивала она. Когда Полла спросила ее, нравится ли ей будущий муж, она ответила:
— Он хороший, только у него очень много зубов.
Мне хотелось побыть здесь еще и посмотреть, как живут за занавесками и дверьми женской половины аристократического дома. Здесь царил застой, но спокойствие беспрестанно нарушали горячие споры о пустяках. Однако я (чувствовал, что появление мужчины нарушало обычное течение жизни, обрывая связующие нити любви и ненависти, зависти и тщеславия, у женщин появлялся новый круг интересов, забыты были ссоры, дрязги, соглашения и объятия, все они порознь смотрели сквозь щели дверей и занавеси в мир за стенами.
— Как поживает Цедиция? — без всякого перехода спросила меня в столовой Полла.
Я пробормотал, что ничего не знаю о ней.
— Ты слышал, что доктор посоветовал ей поехать на море? Она была на вилле под Мизеном, но, кажется, вчера возвратилась. Я думала, она тебе написала.
— Я сто раз говорил, не должно быть никаких писем, — вмешался Лукан.
— Но ведь она собиралась писать по совершенно пустячному поводу, правда, Луций? Она мне говорила, что ты подыскиваешь для нее двух гадесских танцовщиц.
Казалось, объяснение удовлетворило Лукана. Он первый сказал, что надо пораньше разойтись, чтобы как следует выспаться. Но когда пришло время расходиться, он под всякими предлогами стал меня удерживать. Полла зевнула, но тоже продолжала сидеть.
— Мне хотелось бы быть мужчиной, — сказала она.
— Ты жаждешь героических подвигов? — спросил с добродушной усмешкой Лукан.
— Нет, — ответила она, снова зевая и принимая ленивую позу. — Совсем не то.
Наконец она ушла. Лукан, помявшись, сообщил, что он навестил Олимпию, отпущенную на волю флейтистку. Она открыла лавку возле Тусканской дороги, где продавала гирлянды. Видимо, она беременна.
— У ребенка будет четверо отцов. Знаешь ли ты, — добавил он, — что Сцевин и Наталис делили ложе Цедиции?
— Я уже наслушался об этой ужасной женщине! — воскликнул я с отвращением.
— Ты взволнован?
— Меня удивляет, что ты разрешаешь Полле дружить с ней.
— Многие хуже ее, она же великодушна и умна. Как-то после обеда она прочла наизусть всю мою поэму об Алкесте. — Он улыбнулся. — В другой раз Сцевин спросил ее, готова ли она спасти его ценой собственной жизни. «Да, — отвечала она, — если ты раздобудешь Геракла, чтоб он прогнал смерть и оживил меня». — Он снова улыбнулся. — Она вряд ли может испортить Поллу, а Полла может повлиять на нее в хорошую сторону.
Я понял, что он слепо верит Полле. Потом вдруг почувствовал, что она оправдывает его доверие, просто я дурно истолковал ее безобидную мимолетную игривость, хотя, возможно, как добродетельная супруга, она испытывала ревность к распущенной Цедиции.
Лукан добавил, нахмурившись:
— Разве можно ожидать, чтобы окрепли семейные устои при правителе, который своим поведением поощряет бесстыдный и оголтелый разврат?
Я сидел в раздумье. Я примкнул к заговору, плохо разбираясь в своих побуждениях и не слишком преданный идее, но крепко в него втянутый. Лишь какое-то фатальное возмущение, хаос отрывистых мыслей и образов. Рим — великая, освященная свыше сила, единая идея, подобно мечу рассекающая время и пространство, двигатель всемирной цивилизации и средоточие безмерной алчности. Единство утрачено с разорением мелких землевладельцев, и единство восстановлено путем насилия императорской властью. Великая идея потерпела крах, и великая идея стремится обрести новые формы. Как иначе объяснить все происходящее: вот мы сидим и беседуем, а наши руки уже готовы обагриться кровью императора; пророк с безумными глазами с такой потрясающей уверенностью в полумраке таверны предсказывает падение Рима, он так страстно жаждет иной жизни, и его слова имеют неотразимую силу; Сильван, отвергая императора и Сенат, мечтает о каком-то новом обществе, где царило бы братство. Всех нас объединяет вечное возмущение, которое, хоть порой и замирает, будет непрестанно кипеть, доколе не победит новая форма единения людей, столь же ясная и действенная, как идея Рима, созревшая в сердцах воинов-земледельцев, завоевавших Италию и создавших мировую империю.
Но я вновь вторгался в область общественных движений и сил, недоступных моему пониманию, здесь требовалась вера в невидимое, а это было мне чуждо. Все же я упорно старался вырваться из путаницы мыслей и достигнуть некой точки покоя, которую я временами смутно предвосхищал, но так и не мог обрести. Как будто успех нашего рискованного предприятия будет завтра зависеть от того, приведу ли я в порядок свои мысли и достигну ли желанной точки.
Лукан, напустив на себя серьезность, начал философствовать о времени и пределах возможного. Мне было доступно далеко не все, ибо он касался столь отвлеченных понятий, как альтернативные утверждения. В заключение он сказал:
— Возможное событие есть нечто, не имеющее препятствий к осуществлению, если даже оно не осуществляется. — Почему-то он остался очень доволен этим определением. Он добавил: — Не существует ничего беспричинного или самопроизвольного. Так называемые случайные импульсы, о которых иные разглагольствуют, на поверку оказываются опричиненными, хотя порождающие их причины и ускользают от нас.
Затем, насколько я мог уловить, он перешел от принципа причинности к проблеме судьбы, потам отклонился от этой темы и стал утверждать свободу воли, оспаривая учение эпикурейцев об образующих формы атомах, сталкивающихся в пустом пространстве, и определил реальность как движение, развертывающееся как бы в упругой среде. Напряженное движение.
— Что бывает, когда цепь причин приводит к известному положению вещей и завершается определенным действием со стороны человека, оказавшегося в этом положении? Следует различать два момента. Во-первых, внешние события и представление о них, возникающее в сознании. Все это детерминировано и происходит независимо от человека. Но наше отношение к происходящему, бессознательный импульс или обдуманное решение приводят к действию и являются его основанием. Мы властны производить выбор, и он не бывает нам навязан. Событие — это завершение детерминированного ряда, включающего в себя нечто, его превосходящее. Наибольшее значение имеет и единство свойств. Ты сталкиваешь с холма круглый камень, даешь первоначальный толчок, это и есть причина его движения, но он катится прежде всего в силу своих природных свойств, благодаря своей форме. Подобным же образом судьба и необходимость порождают причины всех вещей, но наши побуждения, намерения, мысли и поступки суть порождение свободной воли личности и отмечены печатью разума.
Его рассуждения волновали меня и сбивали с толку. Но не успел я в них разобраться, как он заметил:
— Завтра мы будем спасителями мира или нас распнут на крестах, как рабов, и наши тела раздерут на куски.
Я видел, что ему, как и мне, не хочется верить в возможность сказанного. Я глубоко, всем сердцем надеялся, что ничего рокового не произойдет. Ничего. И тогда, упав духом, но радуясь в глубине души, мы принялись бы обсуждать причины нашей неудачи и строить дальнейшие планы и они становились бы все более смутными и туманными. И так дожили бы до старости, рассказывая невнимательной молодежи, как мы едва не спасли мир и не повернули его на новый путь.
— Порой человек бывает погружен в свои мысли, — сказал я наудачу, — и даже не верит, что нечто существует за стенами его комнаты. И боится отворить дверь. За порогом его подстерегает пустота.
— Как странно, — заметил Лукан, следуя течению своих мыслей, — что великие дела бывают порождены ничтожными причинами. Когда-то я любил Нерона. Однако он не сумел скрыть зависти и неприязни, видя, что его стихи уступают моим. Но клянусь нетленной жизнью вселенной, священными звездами и студеными ключами горных вершин, что на это дело меня подвигли не только ненависть и злоба. Твой дядя пишет о философе Секте: он жив, он силен, он свободен, он поднялся над уровнем человека. Думаю, все мы уподобляемся ему, когда отдаемся великому делу. Мы остаемся людьми, но поднимаемся над уровнем человека, живем чистой жизнью идеи, жизнью вселенной. Даже такой человек, как я. — Он встал. — Я должен идти к Полле. — И снова задергался. — В настоящем супружестве, Луций, муж и жена, слившись воедино, воплощают в себе сокровенную силу, двигающую вселенной. В глубоком смысле слова они хранят эту силу в своих сердцах и чреслах. Они объемлют все сущее. Порой я отгонял эту мысль, предпочитая ей мировоззрение самодовольного философа, чей разум движется в пределах естественных законов, но который лишен искры, зажигающей светила и извлекающей млеко из сосцов Венеры в полунощных небесах.
Я был растроган. Я не считал его способным к таким прозрениям. Его слова исходили из глубин бытия, обычно ему чуждых. Видимо, между ним и Поллой что-то произошло за последние дни. Я ощутил прилив нежности к ним обоим, чистой дружеской любви. Более того, его слова убедили меня в минуту жестоких колебаний в глубокой искренности и непреложности его намерения покончить с Нероном. И я понял, что им движут не одни политические соображения. Я сожалел о нередко возникавшем во мне недоверии, о том, что порой его критиковал. Я был поглощен происходившими в моей душе быстрыми переменами, и мне казалось, что Лукан стоит на месте, застыл в своей не слишком приглядной ненависти к Нерону, будучи обижен им как поэт и ущемлен в своих интересах как богач сенаторского звания. Между тем и он весьма изменился духовно под влиянием грозной опасности и в стремлении постигнуть глубокую правду своего бытия.
Я встал и взял его руку. Мы оба прослезились. Затем он направился к Полле.
Через некоторое время я вышел в сад, чувствуя себя безнадежно одиноким. Никогда еще ночь не казалась мне столь тихой. В прозрачном сумраке человек достигает того состояния отрешенности, какое известно философам, посвятившим жизнь пространным исканиям. Предельное сожаление и предельное приятие. Пусть окажутся лживыми рассуждения, которые привели меня к этому опасному порогу, все же я предпочитал пережить все, выпавшее мне на долю за последние месяцы, чем безмятежно прозябать в Кордубе, имея перед собой еще лет пятьдесят нудного благополучия. Я простер руки, чтобы на них упал неуловимый звездный свет. И свет проник в мое тело и беззвучно пронизал его, освобождая меня от тяжести и страха. В спящем саду взлетало ввысь и падало трепетное серебряное пламя фонтана. В струях виднелся шарик, который, казалось, колебался в самом сердце вещей, символизируя точку чистого покоя.
На дорожке, проходившей под моим окном, я споткнулся о тело человека, лежавшего в тени. Я поднял хрупкое тело, то была девушка. В мерцающей мгле я разглядел лицо Гермы. Она упорно молчала, щеки у нее были горячие и мокрые от слез. Я усадил ее на мраморную скамью и приласкал. Наконец она произнесла несколько слов. Ее побили за то, что, причесывая вечером Поллу, она сделала ей больно, потянув за волос.
— Ведь я нечаянно.
Старшая прислужница надавала ей пощечин, быть может, ударила ее щеткой. Герма находилась в таком состоянии, когда самое легкое наказание кажется чудовищной несправедливостью. Она говорила чуть слышно, всхлипывая и вздрагивая. В эту ночь все мои чувства были обострены. Мне пришло в голову, что за последние дни девушка стала женщиной и мучительно переживала эту перемену. Вспыхнувшее во мне желание мгновенно погасло. Я погладил ее по голове. Она спрятала голову у меня на груди и стала ровно дышать.
Вскоре Герма уснула. Мне хотелось ее разбудить и уйти к себе. Но у меня не было сил. Приятно было сидеть, откинувшись на спинку скамьи, и ощущать тепло ее хрупкого тела, прижавшегося ко мне, слушать ее нежное дыхание. Оно согревало мне грудь. У меня затекли колени, и хотелось вытянуться, но я сидел неподвижно. Передо мной на фоне темной листвы сверкал струями фонтан, и мне чудилось, что серебряный шарик то падает вниз, то взлетает кверху, но ничего этого не было. Огонь и вода, земля и воздух. Равномерное колебание, на мгновение как бы теряющее свою равномерность, но тут же восстанавливающее еле уловимый ритм повторных движений. Симметрия, становящаяся асимметричной, асимметрия, обретающая симметрию. Мысли мои прояснились, и передо мной стали возникать лица. Даже абстракции имели лицо. То были живые существа, животные силы, как я однажды вычитал у Сенеки. Рим, Цедиция, Лукан, Сильван, Марциал, Сцевин, Музоний, Нерон, пророк, Полла, Судьба, Закон, Свобода. Теперь все представлялось весьма простым, весьма определенным и я знал, что делаю.
Перед рассветом раздался громкий стук в двери, и дом наполнился легионерами. Герма спряталась в миртовом кусте, а я назвал свое имя центуриону.
— Я не знаю и не хочу знать, кто ты, — ответил он. — Все в этом доме арестованы.
Я почувствовал страшную усталость. Отрешенный и умудренный, я парил высоко над оцепенелым и отяжелевшим телом, словно актер в трагедии, которая была хорошо известна и никого не трогала, даже красавца центуриона с его резким умбрийским выговором. Феникс с воплем бросился к моим ногам, но его отшвырнули пинком. Это разгневало меня, а с возмущением прошел страх.
Часть третья
Очные ставки

XVIII. Первые аресты
 Флавий Сцевин провел несколько часов с гладу на глаз с Наталисом. Он возвратился домой с воспаленными глазами, нетвердой походкой. После ванны он несколько протрезвел и заявил, что намерен писать завещание. Жена пыталась отговорить его и уложить в постель. Но он настоял на том, чтобы созвали старших слуг. В присутствии их и клиентов, своих приближенных, он продиктовал завещание секретарю, дал подписать свидетелям и приложил печать. В этом завещании он отпускал на волю пятую часть рабов (больше не разрешал закон, а у него их было около пятисот); сделав несколько двусмысленных замечаний по поводу доли, с благодарностью и преданностью выделяемой императору, он завещал все остальное имущество жене, о которой сказал: «Лучшая из римских матрон. Надеюсь, остальные последуют ее примеру». Были розданы мелкие подарки друзьям и приверженцам. Рабы выли, клиенты униженно благодарили. Он крикнул, чтобы они замолчали, и велел принести из спальни кинжал с длинным, превосходно закаленным лезвием и покрытой резьбой рукоятью из слоновой кости. Попробовав острие, он нашел его тупым и передал вольноотпущеннику Милиху, приказав наточить.
После этого он возлег с женой к обеду. Некоторое время он молчал, слушая чтение стихов Луцилия и Лукреция. Потом помрачнел. Игра на лире его несколько воодушевила. Несмотря на возражения жёны, он тут же на месте освободил несколько рабов. Затем спросил Милиха, наточен ли кинжал.
— Однажды я заколол им вепря. Зверь рыл землю и портил хлеба в моем сабинском поместье. Убив его, я совершил акт милосердия и справедливости — таким должно быть всякое убийство.
Он уколол острием большой палец и казался взволнованным. Выпив немного вина, он приказал Милиху приготовить корпии и бинтов.
— Надо быть готовым к любым случайностям. Ныне и ежедневно. — Жене наконец удалось, уложить его в постель. — Изнасилован собственной женой! — завопил он. — Вот до чего довели римлян вольности! Пора нам всем взяться за ум и изучать философию.
Милих просидел некоторое время с кинжалом на коленях, потом спрятал его в нишу. К нему подошла, прихрамывая, его жена, приземистая, коренастая женщина.
— Только один вопрос… — Сперва он не хотел поднять глаза и сидел, зажав руки меж колен. Она взяла его за подбородок, приподняла ему голову. Он вглядывался в ее широкое, плоское лицо, мутные, грязно-серые глаза. На подбородке у нее дрожала волосатая родинка. — Кто первый сообщит новость?
Он посмотрел на нее глубоко запавшими глазами, словно пытаясь уловить в ее взгляде тень сомнения или колебания. Потом провел рукой по своему худому длинному лицу.
— Ты права. Но мне это не по душе.
— У тебя нет выбора: либо обвинять, либо быть обвиненным.
Он тяжело вздохнул, вздрогнув всем своим тощим телом.
— Я не хочу ни того, ни другого.
— Или — или.
— В таких делах, если вмешаешься, будешь нелюб обеим сторонам. Чего доброго, они станут меня пытать.
— Не станут, если ты опередишь. Как я тебе говорила. Иди первым.
Он все смотрел на нее. В ней было что-то неумолимое. Камень вот-вот упадет. Ее тело — тяжелый столб, не пройдешь сквозь него. Он заморгал, протянул руку и положил на ее твердую грудь.
— Все так. Но мне страшно. А что, если они мне не поверят?
— Они поверят нам. — Она веяла его руку в свои, отступила назад и подняла его на ноги. Он покачнулся и ухватился за нее. Она прижалась к нему своим крепким, массивным телом.
— Принеси кинжал.
Утро еще не занималось, когда он постучался у ворот Садов Сервилия. Рядом с ним стояла закутанная в плащ жена, положив свою грубую руку ему на плечо. После коротких переговоров раб-привратник повел его к вольноотпущеннику императора Эпафродиту, тот сидел, покачиваясь, полузакрыв глаза, его завитые волосы сбились на сторону, щека была запачкана золотой краской, разбавленное вино пролилось ему на колени. С минуту он слушал, барабаня пальцами по пустой чаше, отбивая ритм блуждавшей у него в голове мелодии. Он казался сонным, но вдруг встрепенулся и хлопнул рукой по лбу, чтобы убедиться, что больше не спит. Заморгал и окончательно проснулся.
— Да, тебя выслушает Божественный. Если ты лжешь, готовься к мучительной смерти.
Губы его искривились, он усмехнулся, поскреб щеку в том месте, где краска стягивала кожу, и взглянул на свои золоченые ногти.
— Он не лжет, — сказала жена. — Вот кинжал.
— Я не высказываю своего мнения, просто уведомляю тебя. Пойдем. Захвати эту штуку. Живо.
Нерон спал. Эпафродит был допущен в опочивальню, из прихожей внесли светильни, ибо в комнате было полутемно, горел лишь ночник у кровати; рабы сновали взад и вперед, перешептываясь. Эпафродит глубоко вздохнул и сжал руки.
— Что такое? — гневно пробормотал Нерон, его пухлые щеки казались огромными и раздутыми в колеблющемся свете, выпученные глаза блестели, круглые, как у рыбы, но вот они спрятались в складках желтого лица среди пятен румянца. — Пошел вон.
Он грузно повернулся, натянул на себя простыню и что-то проворчал. Вольноотпущенник не уходил и почтительно настаивал на своем. Толстое лицо снова выглянуло.
— Великий, ты должен проснуться.
— Пошел вон. Наплевать мне на вас.
Служанки разбудили Поппею. Она вошла в голубом покрывале, наспех заколотом под грудью. Ее маленькие золоченые сандалии стучали по полу, и на них сверкали рубины. Тонкие руки были обнажены.
— Что случилось? — обратилась она с оттенком презрения к Эпафродиту, и голос ее звучал молодо и повелительно, но порой как-то срывался. Она откинула назад маленькую головку, подвижную, как у птицы, но глаза смотрели устало и озабоченно и вокруг них разбегались морщинки.
— Пришел человек с сообщением, с этим нельзя медлить. Оно звучит убедительно и несет опасность. Но я не могу ручаться за его правдивость.
Нерон перевалился на другой бок и сел на ложе.
— Что вы меня мучаете? Ненавижу вас всех! — Его сиплый голос пресекся, и он закашлялся. Он протянул руку. Раб тотчас же вложил ему в руку чашу с вином. Он отпил из нее, тяжело перевел дыхание. Поппея дала знак Эпафродиту ввести доносчика и села на табурет в ногах кровати. Милих, которого стража грубо обыскала, вошел, согнувшись, низко кланяясь, глаза у него перекосились от страха и ужаса.
— Ну, в чем дело? — рявкнул Нерон, он сплюнул на пол и старался смотреть в одну точку, — Выкладывай, а не то я все кишки из тебя выпущу.
Милих подошел поближе, жена стояла позади него, крепко сжимая рукой ему плечо.
Флавий Сцевин провел несколько часов с гладу на глаз с Наталисом. Он возвратился домой с воспаленными глазами, нетвердой походкой. После ванны он несколько протрезвел и заявил, что намерен писать завещание. Жена пыталась отговорить его и уложить в постель. Но он настоял на том, чтобы созвали старших слуг. В присутствии их и клиентов, своих приближенных, он продиктовал завещание секретарю, дал подписать свидетелям и приложил печать. В этом завещании он отпускал на волю пятую часть рабов (больше не разрешал закон, а у него их было около пятисот); сделав несколько двусмысленных замечаний по поводу доли, с благодарностью и преданностью выделяемой императору, он завещал все остальное имущество жене, о которой сказал: «Лучшая из римских матрон. Надеюсь, остальные последуют ее примеру». Были розданы мелкие подарки друзьям и приверженцам. Рабы выли, клиенты униженно благодарили. Он крикнул, чтобы они замолчали, и велел принести из спальни кинжал с длинным, превосходно закаленным лезвием и покрытой резьбой рукоятью из слоновой кости. Попробовав острие, он нашел его тупым и передал вольноотпущеннику Милиху, приказав наточить.
После этого он возлег с женой к обеду. Некоторое время он молчал, слушая чтение стихов Луцилия и Лукреция. Потом помрачнел. Игра на лире его несколько воодушевила. Несмотря на возражения жёны, он тут же на месте освободил несколько рабов. Затем спросил Милиха, наточен ли кинжал.
— Однажды я заколол им вепря. Зверь рыл землю и портил хлеба в моем сабинском поместье. Убив его, я совершил акт милосердия и справедливости — таким должно быть всякое убийство.
Он уколол острием большой палец и казался взволнованным. Выпив немного вина, он приказал Милиху приготовить корпии и бинтов.
— Надо быть готовым к любым случайностям. Ныне и ежедневно. — Жене наконец удалось, уложить его в постель. — Изнасилован собственной женой! — завопил он. — Вот до чего довели римлян вольности! Пора нам всем взяться за ум и изучать философию.
Милих просидел некоторое время с кинжалом на коленях, потом спрятал его в нишу. К нему подошла, прихрамывая, его жена, приземистая, коренастая женщина.
— Только один вопрос… — Сперва он не хотел поднять глаза и сидел, зажав руки меж колен. Она взяла его за подбородок, приподняла ему голову. Он вглядывался в ее широкое, плоское лицо, мутные, грязно-серые глаза. На подбородке у нее дрожала волосатая родинка. — Кто первый сообщит новость?
Он посмотрел на нее глубоко запавшими глазами, словно пытаясь уловить в ее взгляде тень сомнения или колебания. Потом провел рукой по своему худому длинному лицу.
— Ты права. Но мне это не по душе.
— У тебя нет выбора: либо обвинять, либо быть обвиненным.
Он тяжело вздохнул, вздрогнув всем своим тощим телом.
— Я не хочу ни того, ни другого.
— Или — или.
— В таких делах, если вмешаешься, будешь нелюб обеим сторонам. Чего доброго, они станут меня пытать.
— Не станут, если ты опередишь. Как я тебе говорила. Иди первым.
Он все смотрел на нее. В ней было что-то неумолимое. Камень вот-вот упадет. Ее тело — тяжелый столб, не пройдешь сквозь него. Он заморгал, протянул руку и положил на ее твердую грудь.
— Все так. Но мне страшно. А что, если они мне не поверят?
— Они поверят нам. — Она веяла его руку в свои, отступила назад и подняла его на ноги. Он покачнулся и ухватился за нее. Она прижалась к нему своим крепким, массивным телом.
— Принеси кинжал.
Утро еще не занималось, когда он постучался у ворот Садов Сервилия. Рядом с ним стояла закутанная в плащ жена, положив свою грубую руку ему на плечо. После коротких переговоров раб-привратник повел его к вольноотпущеннику императора Эпафродиту, тот сидел, покачиваясь, полузакрыв глаза, его завитые волосы сбились на сторону, щека была запачкана золотой краской, разбавленное вино пролилось ему на колени. С минуту он слушал, барабаня пальцами по пустой чаше, отбивая ритм блуждавшей у него в голове мелодии. Он казался сонным, но вдруг встрепенулся и хлопнул рукой по лбу, чтобы убедиться, что больше не спит. Заморгал и окончательно проснулся.
— Да, тебя выслушает Божественный. Если ты лжешь, готовься к мучительной смерти.
Губы его искривились, он усмехнулся, поскреб щеку в том месте, где краска стягивала кожу, и взглянул на свои золоченые ногти.
— Он не лжет, — сказала жена. — Вот кинжал.
— Я не высказываю своего мнения, просто уведомляю тебя. Пойдем. Захвати эту штуку. Живо.
Нерон спал. Эпафродит был допущен в опочивальню, из прихожей внесли светильни, ибо в комнате было полутемно, горел лишь ночник у кровати; рабы сновали взад и вперед, перешептываясь. Эпафродит глубоко вздохнул и сжал руки.
— Что такое? — гневно пробормотал Нерон, его пухлые щеки казались огромными и раздутыми в колеблющемся свете, выпученные глаза блестели, круглые, как у рыбы, но вот они спрятались в складках желтого лица среди пятен румянца. — Пошел вон.
Он грузно повернулся, натянул на себя простыню и что-то проворчал. Вольноотпущенник не уходил и почтительно настаивал на своем. Толстое лицо снова выглянуло.
— Великий, ты должен проснуться.
— Пошел вон. Наплевать мне на вас.
Служанки разбудили Поппею. Она вошла в голубом покрывале, наспех заколотом под грудью. Ее маленькие золоченые сандалии стучали по полу, и на них сверкали рубины. Тонкие руки были обнажены.
— Что случилось? — обратилась она с оттенком презрения к Эпафродиту, и голос ее звучал молодо и повелительно, но порой как-то срывался. Она откинула назад маленькую головку, подвижную, как у птицы, но глаза смотрели устало и озабоченно и вокруг них разбегались морщинки.
— Пришел человек с сообщением, с этим нельзя медлить. Оно звучит убедительно и несет опасность. Но я не могу ручаться за его правдивость.
Нерон перевалился на другой бок и сел на ложе.
— Что вы меня мучаете? Ненавижу вас всех! — Его сиплый голос пресекся, и он закашлялся. Он протянул руку. Раб тотчас же вложил ему в руку чашу с вином. Он отпил из нее, тяжело перевел дыхание. Поппея дала знак Эпафродиту ввести доносчика и села на табурет в ногах кровати. Милих, которого стража грубо обыскала, вошел, согнувшись, низко кланяясь, глаза у него перекосились от страха и ужаса.
— Ну, в чем дело? — рявкнул Нерон, он сплюнул на пол и старался смотреть в одну точку, — Выкладывай, а не то я все кишки из тебя выпущу.
Милих подошел поближе, жена стояла позади него, крепко сжимая рукой ему плечо.
Спустя полчаса Сцевин был арестован и доставлен в Аудиторий. Нерон, уже одетый, хмурый, но окончательно проснувшийся, ожидал его, тут же находились наскоро созванные члены Совета, два префекта, Нерва, выборный начальник гвардии, и другие доверенные должностные лица и сенаторы. Поппея сидела за занавеской позади кресла императора. Сцевин медленно вошел, поклонился Нерону и спокойно оглядел присутствующих. Он не высказывал жалоб и стоял в выжидательной позе, с достоинством и с удивленным видом, словно надеялся, что разъяснится это нелепое недоразумение. Ввели Милиха. Он не смел взглянуть на Сцевина и опустил голову. Сцевин тотчас же обратился к нему:
— Если ты не удосужился сам поехать в Остию и посмотреть, как будут выгружать Аполлона из Калимна, то, полагаю, послал кого-нибудь вместо себя.
Растерявшийся Милих судорожно вздохнул. Нерон приказал Сцевину молчать, пока его не спросят, и подозвал Милиха. Глядя в сторону, тот стал рассказывать обо всем, что случилось накануне вечером.
— С твоего позволения, Божественный, — прервал его Сцевин, — пусть этот человек, что плетет обо мне всякие небылицы, глядит мне в глаза.
— Молчать! — сказал Нерон. — Пусть глядит, куда ему хочется. А потом и мы заглянем, куда нам захочется. Хотя бы в твое нутро.
Сцевин поклонился и не прерывал Милиха, пока тот не кончил свои показания. Затем, когда Сцевина спросили, что он может на это сказать, он холодно заметил:
— Разве напиваться допьяна значит быть изменником? А если так, то почему обвиняют меня одного?
— Не советую тебе шутить, — сказал Нерон, бросив на него яростный взгляд.
— Не могу же я принимать всерьез, когда под сомнение ставится моя любовь к тебе.
— А что ты скажешь про кинжал? — Нерон сделал знак Тигеллину, и тот достал из-под дощечки кинжал и бросил его на пол к ногам Сцевина.
Тот и глазом не моргнул. Пристально поглядел на кинжал.
— Вот оно что. Этот Милих раньше был догадливый малый, но с тех пор, как женился, стал сущей дубиной. Он все повторяет за женой. Последнюю неделю он небрежно относился к своим обязанностям. Например, несмотря на мои указания, забыл купить старинную бронзовую статую, которую я видел в лавке на Тусканской дороге, — танцующую нимфу, по моему мнению, работы Праксителя. — Он грозно повернулся к Милиху. — Разве не так?
Милих вздрогнул.
— Эта статуя была уже продана, — пролепетал он.
— Не смей запугивать свидетеля, — вмешался Нерон. — Сколько раз я тебе говорил, что ты должен уважать суд!
— Прости, Божественный. Постараюсь сдержать гнев, который, естественно, испытываю, видя, что тебя бесстыдно заставляют даром терять драгоценное время. Не говоря об остальных находящихся здесь почтенных людях. — Он оглядел присутствующих, и в голосе его прозвучали насмешливые нотки. Он овладел положением и сознавал это. Это сознание помогало ему держаться учтиво и уверенно, что невольно действовало на Нерона. — Позволь мне объяснить тебе в кратких словах. Этот кинжал был своего рода символом, я надеялся, что этот глупец, глядя на него, догадается поострить свой ум, если хочет впредь пользоваться моим расположением. Как я уже упоминал, у него глупая и подозрительная жена. Она коверкает ему жизнь. А, так и она здесь. Вы все ее видите. Больше мне нечего сказать. Что касается ножа, то это священная реликвия, он достался мне от моего деда.
Милих чувствовал, что у него уходит почва из-под ног. Он признался, что бронзовую статую в лавке на Тусканской дороге продали по его вине. Он забыл об этом поручении — столько было волнений в последние дни. Что за волнения? Милиху пришлось признаться, что он узнал о заговоре уже некоторое время назад, хотя до этого утверждал, что впервые услыхал о нем лишь накануне вечером. Сцевин беспощадно на него наседал. Если он знал о замысле на жизнь Божественного, почему же сразу не донес об этом властям? И почему не может смотреть в глаза своему патрону и благодетелю?
— Не жена ли подбила тебя на эту ложь? — продолжал Сцевин грозным тоном. — Не она ли научила тебя, что говорить? Ты знаешь, что я недавно уличил ее в обмане? Сколько рассчитываете вы получить за донос?
— Зачем ты задаешь обвинителю вопросы таким тоном? — снова сказал Нерон, но уже не так резко.
— Не угодно ли тебе самому спросить его об этом, Божественный?
Нерон взглянул на Милиха, и у того подкосились ноги. Его положение ухудшила жена, проговорив хриплым голосом:
— Я ничего не говорила, Божественный. Я только сказала ему, чтобы он пошел к тебе и рассказал.
— Ты сам видишь ее и слышишь, — презрительно бросил Сцевин.
Женщина злобно на него посмотрела. Воцарилось молчание. Нерон переводил гневный взгляд со Сцевина на Милиха и его жену.
— А как же твое завещание? — спросил Тигеллин, это был стройный мужчина с правильными чертами лица, на первый взгляд казавшийся красивым. Но подбородок был чересчур тяжел, маленькие глаза слишком близко поставлены, слишком сдавленные ноздри. Щеки были подрумянены, губы толстоваты, волосы тщательно завиты. Лицо его дышало холодом, выражало неудовлетворенность и горечь и казалось жестким и мертвенным.
— Завещание? — небрежно произнес Сцевин. — О, я собирался в недалеком будущем посетить Элладу и совершить там жертвоприношения в твою честь, божественный Нерон. Мне напомнили об этом игры Цереры, которые должны были состояться на следующий день. Я счел нужным составить завещание перед тем, как предпринять морское путешествие.
— Странно, что ты выбрал для этого именно вчерашний вечер.
— Почему странно? Надо же было когда-нибудь это сделать. Что бы ни произошло в день, когда эта тварь вздумала меня оклеветать, показалось бы странным. Если бы это случилось в другое время, никто не обратил бы внимания. Повторю, о своей давно задуманной поездке я вспомнил ввиду приближения этих невинных состязаний, на которых мы увидим чудеса ловкости и искусства.
— А корпия и бинты?
— Вспомни, что я изрядно выпил и впал в глубокую меланхолию. Покончив с завещанием, я стал размышлять о превратностях и ударах судьбы. Жена обнаружила у меня несколько седых волос и вырвала их, причинив мне боль. В таком настроении я всегда вспоминаю о замыслах, которые мне не удалось привести в исполнение. За обедом мы слушали чтение сатир Луцилия. Хоть у него и дырявая память, Милих должен это помнить. Вижу, он помнит. Так вот, третья сатира напомнила мне о задуманных мною путешествиях, которые пришлось отложить. Вероятно, в Риме еще немало слабовольных людей вроде меня, которые частенько бывают неспособны осуществлять свои замыслы. Я вспомнил управляющего моим сабинским поместьем, когда услышал эти строки:
Как торжествует мясник — хохочет, пасть разевая!
Зубы клыками торчат — как есть носорог эфиопский!
[144]
Я предлагаю пригласить сюда на следствие этого человека. Ты сразу увидишь, что в этих строках дан его портрет. Тут же я подумал о его жалобах на вепрей, которые портят посевы. Возможно, он лжец. Быть может, он продает пшеницу на рынке в Реате и выдумывает вепрей. Но мне пришло в голову: если правда, что у него в округе столько вепрей, то неплохо бы устроить охоту. Эта затея меня увлекла — вероятно, потому, что я был навеселе. К счастью, рогатины и другое охотничье оружие хранятся в поместье, иначе трудно сказать, какие бы еще обвинения возвели на меня. На днях я приказал готовиться к поездке в Байи, а затем отменил ее. Верно говорю, Милих? Недавно я задумал поехать в Руселлы навестить моего старого друга Волузия, а потом отменил поездку. Верно говорю, Милих? Если бы япоехал в Байи, без сомнения, сейчас меня обвинили бы в адских замыслах на том основании, что я выбрал место близ озера Аверна и Горящих полей. — Он повернулся к Нерону. — Божественный, нужны ли еще примеры? Я могу привести их множество, когда я сделал что-нибудь или не сделал чего-нибудь за последний месяц, и все эти поступки можно при желании повернуть против меня, но они столь же невинны, как те мои преступления, из-за которых нас всех разбудили в столь неурочный час.
Нерон молчал. Он по-прежнему смотрел в упор на Сцевина, приоткрыв свой небольшой своевольный рот, и в глазах его светились яростные подозрения, которые, будучи поколеблены, не рассеялись. Тигеллин прикрикнул на Сцевина:
— Но ты ничего нам не объяснил!
— Да ведь нечего объяснять. Неделю назад я видел, как ты поймал рукой муху. Придумывал ли ты всякие ловушки и хитрости? Намеревался ли ты прихлопнуть меня? Или попросту ловил муху?
— Ты вздумал меня допрашивать, — рявкнул Тигеллин, и лицо его искривилось; зычный голос контрастировал с его слабым сложением и словно прибавлял ему росту. Сцевин отпарировал выкрик хладнокровно. Но лицо Нерона выражало все то же напряжение, страх, подозрения, бешеную злобу. Милих воспользовался наступившей паузой и тихонько отступил назад, украдкой взглянув на Нерона и Сцевина.
— Три года назад, — с холодным презрением уронил Сцевин, — я отпустил на волю эту тварь и помог ему открыть торговлю хлебом. Не похвалите ли вы меня за мою проницательность, ведь я прозрел в нем хитрого торговца, который сумеет пробить себе дорогу в жизни?
— Ты хочешь опорочить человека, выдавшего тебя.
— Он сам опозорился и выдал себя. Или у тебя нет глаз? Одни уши?
Снова пауза. Все ждали, что скажет Нерон. Он молчал. На его каменном лице еще заметнее стало выражение низменного страха и неприязни, но, казалось, он злобился не только на Сцевина. Казалось даже, арестованный перестал его интересовать. Он угрюмо взглянул на Тигеллина и на других членов своего Совета, после чего замкнулся в себе, веки у него набрякли и он словно спал, сидя с открытыми глазами. Тигеллин растерялся. Он взглянул на Сцевина, который с беспечной улыбкой повернулся к Нерону. Тот моргнул и невольно ответил ему взглядом. Но вот жена Милиха выступила вперед, встала перед своим супругом и кашлянула, дабы привлечь внимание Тигеллина. Тот кивнул. Она проговорила скрипучим голосом:
— Он вчера провел полдня наедине с Наталисом.
Тигеллин сжал губы и снова кивнул.
— С твоего разрешения, Божественный, сюда приведут этого Наталиса. А пока его доставят, пусть арестованный скажет нам, о чем они беседовали.
Сцевин впервые выказал смущение, но тут же овладел собой.
— Не представить ли тебе список людей, с которыми я встречался за последнюю неделю?
— В свое время, — ответил Тигеллин спокойно, но с угрозой в голосе. — А пока отвечай, о чем ты беседовал с Наталисом.
— О многом, о тысяче разных вещей. Мы попросту болтали. Злоба дня, последние сплетни. О напыщенных стихах Помпулла и о локонах, что носит его жена на затылке, о достоинствах различных сортов устриц на рынке и о том, скоро ли умрет от удара этот обжора Макрин. И так далее.
— О твоем путешествии в Элладу и об охоте в сабинском поместье?
— Между прочим и об этом. — Сцевин покраснел. — Ты хочешь меня поймать. Я не мог днем говорить об охоте, ведь мысль о ней пришла мне за обедом. Я рассказал тебе, при каких обстоятельствах.
— Ты не слишком-то хорошо помнишь свои показания. Но пока оставим это. Расскажи подробно, о чем ты говорил с Наталисом. Это было только вчера днем. Ты не мог забыть.
— Можешь ли ты повторить каждое слово, сказанное тобою вчера днем?
— Допрашивают тебя, а не меня, — буркнул Тигеллин. Он начал настаивать, чтобы Сцевин давал более точные и подробные показания. Нерон больше не слушал. Через некоторое время он встал и, пошатываясь, скрылся за занавесью, зевая и почесывая щетину на щеках. Сцевин стал говорить наобум. Самообладание покинуло его. На лбу у него выступила испарина.
— Мы обсуждали, как лучше мариновать черные маслины. Наталис советует употреблять побеги мастикового дерева с солью и заливать маслины уксусом с виноградным суслом. — Он повысил голос, подстегнутый язвительной усмешкой Тигеллина. — Какие маслины ты сам любишь? — Но ему больше не удавался беспечный тон, в его голосе уже не звучало дерзкое бесстрашие человека, сознающего свою невиновность. Он говорил рассеянно и неуверенно. — Не отвечай. Я знаю, ты добавляешь уксус. — Он махнул рукой. — Что еще? Ах да, мы говорили о модном греческом скульпторе, который лепит животных, главным образом хищных зверей. По его мнению, они грациознее. Советую тебе поговорить с ним об этом. Он наверняка будет рад с тобой встретиться.
Он продолжал перескакивать с предмета на предмет, словно надеялся сбить с толку своего мучителя, забить ему голову множеством подробностей.
Когда ввели Наталиса, снова появился Нерон. Он казался уже не таким заспанным, на его желтоватом пятнистом лице слегка проступал румянец, но в глазах застыло то же выражение неистовой ярости. Словно ему не хотелось глядеть на этот вероломный и неблагодарный мир. Наталис был растрепан, на губах блуждала натянутая, испуганная улыбка. Он кусал губы, и глаза у него бегали по сторонам. Как только он вошел, Сцевина увели. Они уставились друг на друга, но не смогли ни обменяться словами, ни передать чего-нибудь взглядом. Тигеллин, повысив голос, яростно обрушился на Наталиса, требуя, чтобы тот подробно передал содержание вчерашнего разговора со Сцевином.
Наталис в отчаянии огляделся по сторонам, долго смотрел на знакомого ему сенатора. Не уловив ни тени сочувствия на его каменном лице, он заморгал и повернулся к Тигеллину. По дороге во дворец его провели мимо участка Садов, где палач устанавливал орудия пытки: столб, к которому привязывали обвиняемого и рвали ему тело острыми шинами, похожими на челюсти клещей; перекладину, к которой подвешивали, связав руки за спиной, и выворачивали суставы; доски, между которыми человека медленно раздавливали; веревки, предназначенные расчленять суставы; плеть, представлявшую собой цепь со свинцовыми гирями на конце; металлические пластинки, которые раскаляли и прикладывали к самым чувствительным частям тела. Центуриону было приказано объяснить Наталису назначение каждого орудия.
Потрясенный всем виденным, Наталис неуверенным голосом сказал, что они со Сцевином говорили об играх и о возницах. Тигеллин с саркастической улыбкой процедил сквозь зубы, что сейчас все толкуют об играх, но далеко не все говорят о преступлениях, о каких шла речь у него со Сцевином. По его тону можно было предположить, что вина Наталиса уже установлена. Тут Наталис заявил, что, насколько он помнит, разговор шел главным образом о литературе и о семейных делах. Когда Тигеллин стал допытываться о подробностях, он пробормотал, что в последнее время Цедиция потратила много денег на свои причуды и Сцевин ломал голову, как бы ему раздобыть наличные. Потом они рассуждали об «Эклогах» Вергилия.
— Мы много пили, а у меня не такая крепкая голова, как у него. Половину вечера я дремал и только кивал в ответ.
— Даже когда он говорил об измене? — выпалил Тигеллин.
Наталис откинул голову назад и широко раскрыл глаза.
— Я этого не слышал. А не то я выгнал бы его и донес о его словах Божественному.
— Почему вы заговорили об Антеноре?
— Мы оба любим театр.
— Но ведь Антенор скульптор.
— Разве? Ах, да! Я спутал. Повторяю, мы просто болтали то о том, то о другом и пили. Я слушал его вполуха. Я все думал об отчете управляющего моим имением под Равенной. Там было наводнение, которое причинило значительные убытки.
Тигеллин не давал ему собраться с мыслями, задавая вопрос за вопросом.
— Кто из вас первым заговорил о стенной росписи, заказанной Кальпурнием Пизоном? Почему ты защищал стиль Аннея Сенеки, когда он сказал, что его переоценивают? В какой момент ты согласился участвовать в охоте на медведей в Калабрии? Почему он предложил тебе — слушай внимательно, это имеет решающее значение, — почему он предложил тебе идти на эту охоту, вооружившись лишь одним ножом?
Наталис твердил, что ничего не помнит — он дремал или был занят своими мыслями. Но он сообразил, что дело будет плохо, если его показания ни в одном пункте не совпадут с показаниями Сцевина. Он всматривался в лицо Тигеллина, всякий раз стараясь определить, выдумывает ли он или приводит подлинные слова Сцевина, хотя бы в искаженном виде. Он решил, что вопрос о ноже действительно имеет большое значение, предполагая, что нож будет фигурировать на суде. Поэтому необходимо дать определенный ответ.
— Он как будто сказал, что хотел идти на медведей с ножом. Кто-то рассказывал ему про калабрийских охотников. А Сцевин всегда рвался навстречу опасности. Я мог бы привести немало такого рода примеров.
— Он сказал, что вы подробно обсуждали эту охоту и ты хвастался, что хорошо знаешь Калабрию.
— Вряд ли. Я ее почти не знаю.
— Но как же медведи? Согласился ты ехать на охоту или нет?
— Возможно, что и согласился. Когда я пьян, я соглашаюсь на все. Но как протрезвлюсь, нередко обнаруживаю, что натворил глупостей.
— Сейчас ты трезвый. Изменил ли ты свое мнение? — Тигеллин добавил с угрозой: — Пока еще есть время. Но торопись.
Наталис пустил в ход свои чары. Он выдавил улыбку и заискивающе посмотрел на присутствующих. Взгляд его задержался на Нероне.
— Но я еще не успел окончательно протрезвиться.
Никто не отозвался. Тигеллин резко спросил:
— Ты все-таки подтверждаешь его показания о том, что вы обсуждали охоту на медведей в Калабрии?
— Вероятно, да. Кажется, так.
— Хорошо, — сказал Тигеллин уже более дружественным тоном. Наталис сосредоточенно всматривался в него, стараясь разгадать его мысли. Он сознавал, что наступила решающая минута, но был в замешательстве и не знал, какое впечатление он произвел. В прошлом он не раз оказывал услуги Тигеллину, помогая ему выгодно помещать деньги. Он делал это в надежде застраховать себя от ареста. Быть может, Тигеллин попросту хочет его выручить. Префект продолжал:
— Все же мне не верится, чтобы ты мог так легко согласиться поехать с ним в Дафну, близ Антиохии, чтобы… что же там было? — Он заглянул в свои записи, как если бы ему изменяла память. — Ах да, посетить подземное святилище Гекаты, куда ведут триста шестьдесят пять ступеней.
Наталис вспомнил, что у Сцевина была вилла в Дафне, и решил, что тот упомянул о ней. Но не знал, что папирус, в который заглянул Тигеллин, был справкой о Сцевине, спешно полученной из тайного архива, где упоминалась вилла в Дафне.
— Да, он просил меня поехать с ним в Дафну, но я энергично от этого отказывался.
— Хорошо, — сказал Тигеллин все тем же дружественным тоном. — Очень хорошо. — В наступившей тишине Наталис оглядел всех с тоскливой улыбкой, слишком поздно сообразив, что он перемудрил и Тигеллину удалось его провести. Он схватился за голову.
— Я больной человек. Нехорошо мучить больного и сбивать его с толку всякими наводящими вопросами.
Тигеллин не ответил. Он глядел на свею жертву с торжествующей усмешкой. Наталис задрожал и сделал рукой слабый жест, словно отрекаясь от своих слов, а Тигеллин заорал на него страшным голосом:
— Ты сам себя приговорил, лжец! — Он подал знак страже. — Ведите его на пытку!
— Нет, — в испуге закричал Наталис, — я ничего не сделал!
— Правду, правду! И ты еще можешь себя спасти. — Тигеллин подошел к нему, грозя кулаком. — А не то заговоришь под пыткой. Все уже известно. Сцевин сознался. Мне хотелось дать тебе возможность спасти себя.
Наталис упал на колени.
— Он втянул меня. Я хотел прийти к тебе и рассказать, но слишком много хлебнул со страху. Только вчера он открыл мне свои планы. Я так испугался, что напился. И крепко спал, пока не пришли легионеры.
— Расскажи все подробно. Тогда мы увидим, искренне ли ты раскаиваешься.
Запинаясь, Наталис рассказал все, что ему было известно о заговоре. Тигеллин стоял неподвижно, пронзая его неморгающим взглядом. Но не торопил и не перебивал Наталиса, который ползал в слезах но полу. Убедившись, что угнал имена главных заговорщиков, он принялся немедля отдавать приказания; были посланы гвардейцы арестовать Пизона, Латерана, Лукана, Афрания, Сенециона и нескольких богачей из среднего сословия. После этого ввели Сцевина, причем стража и его умышленно провела мимо орудий пытки.
Тигеллин сел. Он указал на отвратительную фигуру Наталиса, подползшего на коленях к ногам Нерона.
— Твой друг рассказал нам все. Наталис говорит, что ты главный зачинщик, но не посвящал его в заговор до вчерашнего вечера. Он назвал Пизона, Лукана, Афрания, всех остальных…
— Он гнусный лжец! — воскликнул Сцевин. — Как раз он первым подбил меня. Его подослал Афраний…
— Он уверяет, что тебя завербовал Лукан.
Сцевин молчал, глядя на густо накрашенное лицо Нерона, на котором казались живыми одни безумные глаза.
— Сенека тоже в заговоре! — завопил Наталис. — Я забыл его назвать. О Божественный, мы провинились перед тобой, прости нас!
Сцевин закрыл глаза и покачнулся, словно теряя сознание. Легионер подхватил его под руку. Он оттолкнул его и грохнулся со стоном наземь.
— Смилуйся над нами, Нерон! Мы совсем обезумели. Мы били кулаками скалу и думали, что она отверзнется. — Он ударял себя в грудь и стал озираться но сторонам. — Я пробуждаюсь после долгого сна. Но все вокруг призрачно. Где же реальный мир?
Нерон грузно поднялся, стараясь сохранить достоинство.
— Я могу стерпеть что угодно, кроме неблагодарности. Увести их.
Пока выволакивали Наталиса и Сцевина, он подозвал Тигеллина. Они стали перешептываться. Потом Тигеллин послал за Епихаридой. Она спокойно вошла между двумя стражниками, лицо ее потемнело, глаза ввалились, но горели мрачным огнем. Нерон сам приступил в допросу.
— Ну, шлюха, мы все знаем. Сцевин и Наталис сознались. Лукан, Пизон и другие взяты под стражу. Что ты теперь скажешь?
— Я ничего не знаю, — ответила она ровным голосом. — Я женщина и живу женскими интересами. Меня обвинил мужчина, чьи объятия я отвергла.
— Женщина больше всего интересуется своим телом, — ответил Нерок. — Пусть же твое тело ответит за тебя. — Он подал знак страже. — На дыбу ее, бичевать, в огонь!
Она промолчала, но посмотрела на него суровым, горящим взором. Стражники подхватили ее и увели.
XIX. Еще аресты и суд
Конные и пешие отряды рыскали по городу. Легионеры стояли во всех кварталах, на стенах, у Ворот, по беретам Тибра. Форум и все площади были забиты когортами, они двигались вдоль морского побережья, занимали деревни вокруг Рима и располагались гарнизонами в крупных усадьбах. Многие особняки в городе кишели легионерами. Все ключевые посты занимали отряды германцев, они должны были подкреплять другие войска. Нерон доверял им больше, чем остальным варварам, считая, что они не интересуются политикой и преданны ему.
Без официального объявления все знали, что игры отменены. Лавки закрыты. Пизон, вовремя предупрежденный об аресте Сцевина, не пошел в Храм Цереры. Запершись в своем доме, он сидел молча на ложе, а жена его Аррия Галла плакала, зарывшись лицом в распущенные густые золотисто-рыжие волосы. Его окружали друзья, клиенты, вольноотпущенники, рабы. Вулкаций Арарик, могучего сложения человек среднего сословия, уговаривал его показаться в лагере или подняться на ростры и обратиться с речью к солдатам и к народу.
— Тебе нечего терять. Если ты останешься дома, твоя гибель неминуема, ты не доживешь и до вечера. Трибуны и центурионы не могут призвать к восстанию солдат, если ты первый не поднимешь знамя. Они ждут тебя. Настал час. Не беда, что не удалось с первого же раза убрать фигляра! Нам еще есть на что опереться. Нерона еще можно захватить врасплох. Он сосредоточил все свое внимание на допросе Сцевина и Наталиса. Он не приготовился отбить серьезное нападение. — Арарик оглянулся на людей, толпившихся в прихожей. Рабы в ужасе жались к стенам и плакали. Но иные из друзей и вольноотпущенников Пизона подняли руки и громко одобряли Арарика. Кто-то размахивал коротким мечом. Он продолжал: — Созови своих друзей. Они поддержат тебя, и к ним примкнут многие другие. Слух о назревающем перевороте заставит всех объединиться вокруг тебя. При таких внезапных потрясениях даже самых смелых людей охватывает страх. Если храбрецам изменяет мужество, что говорить о комедианте-императоре, об этом жалком лицедее, низкопробном шуте, опирающемся лишь на Тигеллина и его шлюх? На его стороне одни германцы. Когда предстоит совершить великое, только малодушному страшен решительный шаг. Но отважный знает, что дерзнуть — значит победить.
— Я согласен с тобой, — заявил Юлий Тугурин, человек среднего сословия, размахивая мечом. — Еще не поздно нанести удар. Но дорог каждый миг.
— Разве можно было рассчитывать, — вновь раздался резкий голос Арарика, он говорил торопливым деловым тоном, — чтобы в заговоре, где столько участников, тайна была соблюдена до конца? Перед пыткой трепещет дух и содрогается тело. Даже самую сокровенную тайну можно выведать путем подкупа или исторгнуть на дыбе. Все это мы раньше знали, знаем и теперь. Если мы ничего не предпримем, сюда ворвутся стражники, схватят Пизона и поволокут его на позорную смерть. Лучше уж пасть, отстаивая свободу с мечом в руке, защищая дело свободных людей, подняв войска и народ на борьбу за их права.
Даже если легионеры останутся глухи к нашему призыву и народ изменит своему долгу, и тогда сколь благородно будет закончить все сценой, достойной наших предков, заслужив восторженное одобрение современников и хвалу потомков!
— Да, да, — воскликнул молодой философ с сирийским акцентом, которого Пизон встретил в Эдессе, — умрем, если нужно, под гром труб, чье эхо отзовется в веках!
Все повернулись к Пизону, который, казалось, даже не слушал. Но вот он наклонился к жене и погладил ей шею и грудь. Потом он поднялся, а жена по-прежнему обнимала голыми руками его колени.
— Мы ничего не можем сделать. — Он снова сел. Поднялся шум, одни соглашались, что время упущено, другие повторяли призывы Арарика. Но уже никто не пытался повлиять на Пизона. Он явно пал духом. Он позвал секретаря и стал диктовать ему завещание, где расточались неумеренные похвалы Нерону и выделялась ему львиная доля.
— Быть может, это спасет остаток состояния для тебя, моя дорогая, — обратился он к жене, которая, откинув с лица мокрые от слез волосы, скорбно на него глядела.
— Мне ничего не нужно без тебя. Позволь и мне умереть.
— Если ты хоть немного жалеешь меня — живи. Я всегда ненавидел слезы и всякие изъявления чувств. Умоляю тебя, будь спокойна. Сохраняй свое достоинство. Пусть будет, что будет, лишь бы дело обошлось без суеты и смятения.
Она сдержала слезы, грудь ее бурно вздымалась. Снаружи послышался топот ног, бряцание оружия. Арарик шепнул Пизону:
— Это необученные новобранцы из городских когорт, среди них немного германцев. Нерон не доверяет ветеранам. Гвардия восстанет, если ты подашь пример.
— Я ничего не могу сделать, — повторил Пизон. — Я не хочу беспорядков. Всех своих сторонников освобождаю от данной мне клятвы верности. — Он снова встал, когда у порога появился молодой центурион, вежливо поклонившийся хозяину. У Аррии вырвался громкий вопль. Пизон разомкнул руки жены.
— Ничего неподобающего. Помни о моем достоинстве, — проговорил он тихо, раздраженным тоном. — Это единственное, что у меня осталось. — Обратившись к центуриону, он сказал спокойно: — Нет надобности прибегать к насилию или запугиванию. Я готов умереть. — Он дал знак своему врачу и вышел из комнаты. Аррия снова отчаянно вскрикнула.
Центурион смущенно мялся на месте, потом сделал несколько шагов.
— Матрона, я не причиню насилия ни тебе и никому из присутствующих. Ты можешь поступать, как тебе заблагорассудится. — Она дико взглянула на него и с воплем бросилась к нему, замахнувшись. Он отвел ее руки, и она, пошатнувшись, упала на него.
Сирийский философ, выходивший вместе с Пизоном, возвратился и бросил насмешливым тоном:
— Ему вскрыли вену. Он умирает, как откормленный баран.
— Случается умереть и худшей смертью, — заметил центурион. — Например, как умирает изголодавшаяся овца. Это бывает чаще. — Он с любопытством посмотрел на полуобнаженную женщину с распущенными пышными волосами, плачущую у него на груди.
— Его завещание на том столе, — продолжал философ. — Тебе следует его отнести твоему повелителю.
— Значит, он не твой повелитель? — небрежно спросил центурион, внимательно приглядываясь к философу с еле заметной дружелюбной улыбкой.
— Я не признаю никаких повелителей, божественна только вселенная, и мы подвластны лишь ее законам.
Центурион разглядывал его, как невиданного зверя.
— Я не понимаю философии. Я ничего не слышал. Но, может быть, ты поможешь мне унять эту женщину? Она всего меня залила слезами. Я и не представлял себе, в каком щекотливом оказываешься положении, когда женщина обливает слезами тебе колени.
— Служанки разбежались со страху. Я крикну их, — сказал философ и вышел.
Все слуги убежали смотреть, как умирает в ванне их хозяин. Клиенты и сторонники Пизона разошлись беспрепятственно. Центурион наклонился и приподнял голову Аррии.
— За что ты так его любила? — мягко спросил он. — Мне хотелось бы, чтобы меня так любили. Но умереть я желал бы иной смертью. Впрочем, для этого у меня едва ли хватит средств. — Аррия тихо простонала. — Ты слишком нагрела мне колени, — заметил он, пытаясь ее отстранить. — Ты чересчур мягка. Понимаешь ли ты, что я принес смерть твоему мужу? Ты смущаешь меня. Отпусти меня, женщина. — Она вздыхала и стонала, крепко его обхватив. Но вот подбежали две служанки и увели ее. Центурион подался назад, потирая себе голые колени.
Вошел сириец.
— Пизон умер. Он был все-таки добрый человек.
— Безумец, — сказал центурион. — Такая доброта не в моем вкусе. Но он умел выбирать женщин.
С Пизоном обошлись милостиво благодаря его древнему имени. Латеран был арестован трибуном Стацием Проксимом, и ему было приказано тотчас покинуть дом. Он попросил разрешения проститься с женой и детьми.
— Нет, — ответил Проксим, — разве ты не мог это сделать неделю назад, вчера вечером, сегодня утром?
Тогда Латеран попросил предоставить ему выбрать себе смерть, на что он имел право по своему положению.
— Нет, — ответил Проксим, — и это ты мог сделать на прошлой неделе, вчера вечером, сегодня утром. Ты мог сто раз умереть, избрать самый лучший способ. И если сейчас у тебя нет выбора, пеняй на себя.
Латеран не понял иронии его слов и не подозревал, что имеет дело с собратом-заговорщиком. Но когда они подошли к месту казни, Проксим гневно толкнул его и сказал, понизив голос:
— Если бы ты стал сражаться, как подобает мужчине, я был бы на твоей стороне. А теперь издохни, как пес!
Это было место, где бичевали и распинали рабов, мрачная, обнесенная стеной площадка, где стояло три деревянных креста, потемневших от крови. Латерана заставили опуститься на колени на каменные плиты, пересеченные желобками.
— Не трогайте меня, — пробормотал он.
Проксим взмахнул мечом и нанес ему удар по шее. Латеран упал ничком, он был еще жив. Лезвие скользнуло ему по лопатке. Он с трудом поднялся на ноги, весь залитый кровью, и спокойно взглянул трибуну в лицо. Казалось, он наконец понял, где он и что с ним.
— Мужайся, воин, — сказал он.
Проксим, стиснув зубы, снова ударил Латерана, не дожидаясь, пока тот опустится на колени. Латеран грузно, с глухим шумом рухнул на землю. Проксим резко рассмеялся и неподвижно на него уставился с тревогой и отчаянием во взгляде. Меч выскользнул у него из руки, он отступил назад. Подошел легионер поднять меч, но он отстранил его движением руки. Потом медленно нагнулся, поднял меч и, передав его солдату, спокойно добавил:
— Вытри его хорошенько.
Трибун Гавий Сильван отправлен был к Аннею Сенеке узнать, что тот ответит на обвинение в сочувствии Пизону. Наталис показал, что незадолго перед тем Пизон, услыхав, что Сенека болен, отправил ему послание. Пизон спрашивал, почему ему не позволено навестить философа, на что Сенека ответил, что частые встречи не будут им обоим на пользу, но его выздоровление зависит от благополучия Пизона. Сенека прибыл на свою виллу под Римом за несколько часов до приезда Сильвана. Он сидел за завтраком с женой и двумя друзьями, когда вошел домоправитель и дрожащим голосом сообщил, что дом окружен легионерами.
— Это не должно вас тревожить, — сказал Сенека. — Пришли сюда центуриона.
Сильван подал ему письмо, где были изложены обвинения. Внимательно прочитав, Сенека ответил:
— Это правда, Наталис был у меня. Я извинился и отверг свидание с Пизоном лишь потому, что плохо себя чувствовал, что мне дорого уединение и я вынужден считаться со своим слабым здоровьем. Нелепо было бы предполагать, что интересы того или иного гражданина мне дороже своего благополучия. Никому я не стал бы делать такого одолжения. Низкопоклонство не в моем характере. Эта истина известна императору. Он должен признать, что при различных обстоятельствах Сенека свободно высказывал свое мнение и презирал искусство низкой лести.
— Это все, что ты хочешь сказать? — спросил Сильван.
— А что еще? — Сенека всмотрелся в лицо центуриона и дал знак ему подойти ближе. — Не встречал ли я тебя раньше?
— Возможно. В свите императора.
— Мне кажется, я что-то еще знаю о тебе. — Не дождавшись ответа, Сенека продолжал: — Не друг ли ты трибуна Субрия Флавия?
— Да, у нас с ним во многих отношениях одинаковые взгляды.
Сенека пытливо разглядывал его.
— Это написано у тебя на лице. Мне думается, твой образ мыслей мне сродни.
— Благодарю тебя за эти слова, — ответил Сильван. — Они мне дороже любых наград.
На этом разговор окончился. Через минуту Сенека жестом отпустил Сильвана.
По возвращении в Рим, как ему было приказано, трибун немедленно доложил императору об исполнении своей миссии. Нерон совещался с Поппеей и Тигеллином. Император с мрачным видом грузно сидел в кресле, уткнувшись подбородком в грудь. Поппея сидела, выпрямившись, на табурете и, казалось, не без труда удерживала тяжелый узел волос, как поселянка удерживает на голове кувшин с водой. Она высоко подняла маленький острый подбородок. Тигеллин сидел с табличкой и что-то на ней записывал. Когда доложили о приходе трибуна, он встал и занял место возле императора. Нерон не шевельнулся. Сумрачно выслушав донесение, он спросил:
— Готов ли он окончить свои дни, добровольно приняв смерть?
— Мне не было поручено спросить об этом, Божественный, — ответил Сильван. — Но он не обнаружил признаков страха, огорчения или отчаяния. Он говорил твердо, и в глазах отражался ясный и бодрый дух.
Слова Сильвана заинтересовали Нерона. Он слегка выпрямился.
— Тебе понравилось его поведение?
— Да, Божественный.
— Ты читал его философские труды?
— Некоторые из них, Божественный.
— Он тебе по душе?
— В некоторых отношениях, Божественный.
Нерон пристально вгляделся в лицо Сильвана.
— Мне думается, именно ты должен принести ему известие о его смерти. Возвращайся немедленно. Такому старику следовало бы и не дожидаться прямого распоряжения. Потом мы с тобой потолкуем о философии Сенеки, если так можно назвать эти бредни, хоть я и не отрицаю, что у него нередко можно встретить убедительный довод или приятный оборот. Но сейчас я хотел бы, чтобы он помышлял о сохранении величия. Если он умрет согласно своему учению, его писания обретут силу и значение, каких до сих пор лишены. Ты меня понял?
— Я понял тебя, Божественный.
— Замечательный воин, — заключил Нерон. — Мне надо поближе тебя узнать. — Он отпустил его движением руки.
Сильван не сразу отправился к Сенеке. Он пошел в казарму, к префекту Фению Руфу, и сообщил ему о полученном им приказании.
— Зачем ты пришел с этим ко мне? — спросил Руф. На его сером лице резко обозначились морщины, словно в кожу глубоко врезалась тонкая сеть, мучительно стянувшая все черты. Крылья его широкого носа судорожно сжимались.
— Я хотел узнать, должен ли я выполнить приказание. Или мне надлежит поступить иначе.
— Тебе остается только подчиниться! — Руф шагал взад и вперед по комнате.
— Мы пока еще можем осуществить свои планы. Никому из нас не был дорог Пизон. Главное — убить Нерона. Сенека еще жив. Мы можем провозгласить его императором, как предполагал это сделать Субрий. Пока он будет философствовать, можно разумно организовать государство.
— Это бесполезно. Судьба против нас.
— Ты знаешь, что Тигеллин тебя ненавидит. Если даже больше ничего не выплывет наружу, он все равно постарается тебя погубить. Он заявит, что любовник Агриппины, конечно, был замешан в эту заваруху, и, если у тебя будет такой вид, как сейчас, Нерон ему поверит.
— Я никогда не был любовником Агриппины, — сердито возразил Руф. — Как ты смеешь…
— Я сказал лишь то, что будет говорить Тигеллин.
— Запрещаю тебе. Судьба против нас.
— Ты хочешь сказать, что утратил мужество.
— Помни, что ты разговариваешь со своим начальником. Ты пользуешься обстоятельствами. Обожди… — Руф почувствовал, что в такой момент ему не следует угрожать Сильвану. Он сдержал свой гнев. — Я приказываю тебе выбросить из головы всякую мысль о восстании и отрицать все, если тебе будут задавать вопросы.
Сильван холодно на него посмотрел, потом круто повернулся и вышел. Руф злобно поглядел ему вслед и снова принялся шагать по комнате. Если только он уцелеет, уж он покажет этим наглым трибунам и разделается со всеми, кому известна его причастность к заговору.
Сильван догадывался, какие чувства волновали префекта. На улице он встретился с Субрием.
— Пойдем и выпьем, — предложил ему Субрий.
— Я должен ехать к Сенеке и отвезти ему приказ покончить с собой. Я только что заходил к префекту и спросил его, как мне поступить, хотя этого не следовало делать.
Субрий был занят своими мыслями. Но вот его прорвало:
— Я мог это сделать! Я стоял рядом с ним. Мне стоило только ступить шаг. Но я сделал ошибку: оглянулся на Руфа, ожидая его одобрения. Мне было достаточно кивка. Это означало бы, что он готов в свою очередь поразить Тигеллина в голову. Но он зажмурился и дал мне знак отступить. Это меня так поразило, что я послушался, и случай был упущен. Вероятно, Тигеллин это заметил.
— Жаль, что ты не нанес удара. Мы бы сделали свое дело, что бы ни произошло потом. Даже если б Руф сплоховал. Сейчас он совсем пал духом.
Субрий скрипнул зубами.
— Пусть меня назовут безнадежным, трусливым глупцом, который не сумел, воспользоваться благоприятным случаем. Я был во главе почетной охраны в день, когда Нерон в первый раз публично выступал в качестве певца. Тогда впервые у меня возникло страстное желание ударить его ножом в спину, такое яростное, что я не решился его осуществить. Потом я стал себя уверять, что испугался, как бы зрители не разорвали меня на куски. И в ночь Великого Пожара я снова мог бы это сделать. Без труда. Я стоял на террасе позади него. Некоторое время вокруг не было ни души.
— Может быть, подвернется еще случай, — сказал Сильван, не веривший его словам. — Тогда не задумываясь наноси удар.
Он медленно удалился. Пизон отказался от борьбы, Руф утратил мужество, Субрий в третий раз упустил случай. Успеет ли он еще договориться о выступлении с другими трибунами и центурионами, поклявшимися низвергнуть Нерона? Не виноват ли он сам — по непростительному легкомыслию он предоставил главные роли Руфу и Субрию? А ведь он никогда не верил, что эти люди достаточно тверды духом, чтобы привести в исполнение такой замысел. Субрий искренне ненавидел Нерона, но его ненависть носила чересчур личный характер, им владела слепая ярость. Она-то и поколебала его волю в критический момент, вместо того чтобы укрепить его руку. Руф примкнул к заговору лишь из страха перед Тигеллином. Он никогда не вдумывался в цели заговора, не отдал ему свою душу. Он был готов поддержать Латерана, Пизона и Лукана, если бы они первыми нанесли удар, и только. «Все это я знал, — говорил себе Сильван, — и ничего не предпринял. Ограничивался своей ничтожной ролью. Однако в таком предприятии нет ничтожных ролей, каждый должен быть готов взять на себя самую ответственную задачу. Я тоже оплошал, я проявил пассивность, пошел на поводу у случая и теперь должен понести за это наказание».
На улице ему встретился отряд германцев под командой трибуна-преторианца, преданного Тигеллину. «Все потеряно, — подумалось ему. — Но земля остается на месте, значит, в конечном итоге ничего не потеряно. Проиграли мы, вот и все».
Прибыв на виллу, он отправился к Сенеке.
— Хочешь бежать? — сразу спросил он.
— Куда бежать? На луну? Бог вездесущ; вероятно, вездесущ и император. Во всяком случае, не скоро доберешься до царя персов или до германских лесов, Каков ответ императора?
— Избавь меня. Я пришлю к тебе центуриона.
— Ты проявляешь слабость.
— Да, слабость. Сегодня я обнаружил, что воля у меня гораздо слабее, чем я думал. Но все же, если меня допустят снова к Нерону, я его убью. Скажи, теперь ты не захочешь отложить свою смерть?
— Нет. Я прошу тебя исполнить то, что тебе приказано. И я исполню свой долг.
Сильван вышел. Он попросил центуриона, командовавшего отрядом, оцепившим виллу, объявить Сенеке, что ему приказано умереть. Облокотившись на мраморную балюстраду, он стал смотреть на пологие холмы, поднимавшиеся слева за садом. Свет медленно погасал, растекаясь в прозрачной бездне.
Сенека позвал к себе друзей, вопреки уговорам не пожелавших покинуть виллу. Он захотел написать завещание, но центурион заявил, что проволочки недопустимы.
— Это законное право всякого римского гражданина, — возразил Сенека.
— И все же это не разрешено, — повторил центурион.
Сенека опустил голову, затем обратился к своим друзьям и вольноотпущенникам:
— Вы видите, я не властен вознаградить вас по заслугам, доказав вам свою признательность. Мне остается одно: я передаю вам пример своей жизни — это лучший и самый большой дар, какой я еще могу сделать. Храните его в душе, и вы стяжаете похвалу, какая воздается добродетели, и славу искренних, великодушных друзей.
Все слушавшие философа плакали. Некоторые становились на колени и пытались поцеловать ему ноги и край его одежды. Он попросил всех подняться и не горевать о его судьбе. Он говорил мягко и убедительно, и в его голосе звучала нравственная сила.
— Неужели бесплодны, — закончил он, — наставления философии и слова мудрости, которые уже много лет учили нас мужественно встречать жизненные невзгоды и быть к ним готовыми? Если вы дадите волю слезам, вы повредите делу жизни, вы докажете, что не восприняли заветы и наставления, которые непрестанно звучат в моих словах. Разве нам была неизвестна жестокость Нерона? Он убил свою мать, уничтожил собственного брата. После этого ему оставалось лишь дополнить меру злодеяний, умертвив своего воспитателя и опекуна.
Потом он повернулся к своей жене Помпее Паулине, заключил ее в объятия и некоторое время стоял молча. Справившись с минутной слабостью, он попросил ее умерить свою скорбь и помнить, что в жизни он всегда старался следовать требованиям чести и добродетели. Помышляя об этом, она обретет исцеление своему горю и печаль ее смягчится. Но Паулина ответила, что не хочет пережить своего супруга, и попросила центуриона ее умертвить. Он вежливо ответил, что не получил на это указаний.
Сенека выразил глубокое удовлетворение.
— Я всегда ставил себе целью, — сказал он жене, — обучить тебя наилучшей философии — искусству облегчать тяготы жизни. Но ты предпочитаешь почетную смерть. Я не стану завидовать громкой славе, какую ты заслужишь своей кончиной. Пусть будет исполнено твое желание — умрем вместе. Мы оставим потомкам пример стойкости, но вся слава будет принадлежать тебе.
Домашний врач вскрыл им вены, заметив при этом, что у Сенеки в его годы кровь, возможно, будет течь медленно и вяло.
— Преклонный возраст, строгая диета, которой ты себя подвергал, — сказал он, — значительно ослабили тебя.
Сенека приказал вскрыть ему сосуды на ногах и на руках и постарался двигать конечностями, испытывая страшную боль. Опасаясь, как бы, глядя на его страдания, Паулина не утратила решимости, а ее муки не вывели его из равновесия, он уговорил ее удалиться в другую комнату. Подозвав своих секретарей, он продиктовал им прощальное обращение, в котором попытался обобщить свои философские положения в свете последней драмы жизни. Но когда боли усилились, он попросил своего друга Стация Аннея, искусного во врачевании, дать ему болиголова, которым в Афинах поили осужденных на казнь. Но питье не сразу оказало действие. Конечности его немели, и кровь почти перестала течь. Тогда Сенека велел опустить себя в теплую ванну и оттуда стал обрызгивать своих рабов водой, приговаривая:
— Я совершаю возлияние Юпитеру Избавителю.
Наконец он умер.
Центурион отправил в Рим гонцов сообщить о решении Паулины, и оттуда последовало распоряжение не давать ей упереть. Врач перевязал ее раны. Как только трибун Гавий Сильван вернулся в Рим, он был арестован.
Сцевина ввели для нового допроса. Фений Руф, покинувший трибунал под предлогом, что ему необходимо дать распоряжения войскам, был вынужден присоединиться к Тигеллину. Он принялся уличать обвиняемого и хотел заставить его признать вину Сенеки.
— Выкладывай все, мы внаем, какая роль была ему предназначена. Он переехал ближе к Риму, чтобы в любой момент явиться на ваш зов.
Возле Руфа стоял Субрий Флавий, ведавший охраной. Держа руку на рукояти меча, он незаметно приближался к месту, где сидел Нерон. Но едва он сделал еще шаг к императорскому помосту, собираясь на него вспрыгнуть, как Руф вскочил и, подавшись назад, преградил ему дорогу. Субрий отступил к своим легионерам, а Руф снова стал яростно наседать на Сцевина.
— Говори без обиняков. Наталис рассказал все, что было ему известно, к тому же арестован Лукан. Но нам нужны еще имена.
Глядя на префекта, Сцевин на минуту вновь обрел мужество и насмешливость.
— Без сомнения. Однако о многих тебе известно куда больше моего. Почему бы тебе самому не назвать их следствию? Ведь к тебе будет больше доверия.
Руф запнулся, бранные слова замерли у него на устах.
— Эта уловка тебе не поможет, — наконец выдавил он, но в его тоне уже не было уверенности.
Тигеллин усмехнулся и кивнул Нерону, тот гневным жестом отдал приказание Кассию, гигантского роста легионеру. Тот схватил Руфа за плечи и связал его. Префект с воплями и слезами хотел броситься к ногам Нерона, но его оттащили к Сцевину. Тот пожал плечами и отшатнулся.
Перекрестный допрос повел сам Тигеллин, и были названы имена военачальников-преторианцев, участвовавших в заговоре. Кассий тут же схватил Субрия, отряды германцев были разосланы за другими трибунами и центурионами.
Сначала Субрий с презрением отверг мысль, что его могли втянуть в заговор, где участвовали столь ничтожные люди, как Сцевин и Наталис.
— Неужели ты думаешь, что воин станет связываться с жалкой кучкой трусливых граждан?
Но на Тигеллина не действовали такие доводы. Он кричал на Субрия, пока тот не ответил с холодным гневом:
— Да, я ненавижу всех вас! А Нерона больше всех! Разве тот, кто достоин называться мужчиной, может иначе к нему относиться? Хоть все вы пресмыкаетесь и потакаете его порокам, вы ненавидите его не меньше, чем я — Он повернулся к Нерону. — И все же, пока ты этого заслуживал, я был самым преданным тебе из воинов. Но когда ты показал себя и отбросил даже видимость приличий, внушенных тебе воспитанием, я возненавидел тебя, матереубийца, женоубийца, возница, лицедей, поджигатель!
Ни один мускул не дрогнул на лице Нерона, лишь глаза его вспыхнули бешеным огнем. Он дал Субрию договорить, потом произнес не шелохнувшись:
— Убрать.
Субрия отвели к тому месту в Садах, где копали могилы. Он смотрел, как солдаты заканчивали яму.
— Все это делается вопреки воинскому уставу, — заявил он. — Что это за воины?
Трибун велел ему вытянуть шею.
— Ударяй смело, и все будет хорошо, — ответил Субрий. Он упал ничком в яму.
На суд привели Сульпиция Аспера. Он не соблаговолил отвечать и только кивнул Тигеллину, признавая обвинения. Лишь раз он уронил:
— Разве ты что-нибудь понимаешь?
Когда Тигеллин замолчал, устав от крика, заговорил Нерон:
— Почему ты задумал меня убить? Почему? — Он пристально следил за пленником, словно опасаясь его, испытывая смущение и надеясь вновь обрести уверенность.
— Я хотел помочь тебе искупить твои преступления, — сурово ответил Аспер.
Нерон откинулся в кресле, словно получив удар. Скрывая свою растерянность, Тигеллин крикнул центуриону, чтобы тот увел Аспера и обезглавил его.
Епихариду на следующий день выволокли из темницы, чтобы возобновить пытки. Ноги и руки у нее были вывихнуты и она не стояла на ногах. Однако ей удалось размотать шарф у себя на шее, привязать его к изогнутой спинке кресла и удавиться. Когда к ней подошли палачи, чтобы снова бросить ее на колесо, она была мертва. От нее не добились ни одного слова.
Когда Лукана привели к Нерону, он старался сохранить достоинство. Сперва он все отрицал. Потом его свели с Наталисом и Афранием, который утратил мужество, обвинял всех напропалую, даже своего лучшего друга Глития Галла. Ухватившись за неопределенное обещание сохранить жизнь раскаявшимся, Лукан признал все обвинения и стал молить о пощаде. Тигеллин предложил ему доказать свое раскаяние, назвав имена соучастников. Он назвал Пизона, Латерана и других. Его прервал Тигеллин:
— Эти имена нам известны, и ты это знаешь. Назови тех, кто до сих пор избег божественного правосудия.
Лукан стал дико озираться по сторонам.
— Не знаю… Я хочу рассказать вам все. — И внезапно вскрикнул: — Моя мать! Она все знала! Все знала. — Он заморгал и уставился на Нерона.
Тот смотрел на него со злорадным любопытством и умышленно молчал. У Лукана отвисла челюсть.
— Ну, певец Катона, —наконец проговорил Нерон, — скажи, вдохновляла ли поэзия твое порочное сердце?
Лукан судорожно проглотил слюну и стоял с открытым ртом.
— Сжалься во имя нашего общего блага, владыка и спаситель!
— А ты пожалел меня во имя общего блага? — спросил Нерон снисходительным тоном, словно дружески его упрекая. — Ты лишен чувства прекрасного, в этом твоя беда, Марк Анней Лукан. Я не раз говорил тебе об этом, но ты не обращал внимания. Ты раздулся от тщеславия. В твоих стихах сплошной грохот, но ни малейшей гармонии. Естественно, в таких бесконечно длинных поэмах тебе случалось добиться выразительности. Но ни на волос красоты, ни тени прелести. Ни капли благозвучия. Ни на йоту сладостной ритмичности. Только напыщенность и самомнение. Насилие над нежной музой. Насилие же и грубое обращение с податливой музой говорит о том, что поэту недостает обаяния и воспитанности. Безнадежный грубиян. Если б ты любил красоту и что-нибудь в ней смыслил, ты стал бы моим другом и союзником и мы вместе совершили бы великие деяния. Во всяком случае, ты не пришел бы к такому бесславному концу. Но ты любил лишь самого себя, прикрываясь громкими стихами. Я дурной критик, ибо не распознал вовремя безмерную злобу, дышавшую в твоих стихах, закованных в строгие метры. И в каком-то смысле — я говорю от чистого Сердца и беспристрастно, как поэт — я радуюсь, что твой посредственный талант посрамлен, ибо он привел тебя к порогу смерти.
— Пощади мою жизнь, и я до конца дней буду составлять комментарии к твоим божественным сочинениям, — умолял Лукан, сознавая, как бесполезны и унизительны его слова, но не в силах удержаться от них. Им словно завладело существо, которое он глубоко презирал. Он лихорадочно допытывался, что побудило его встать на путь мятежа, и не мог доискаться причин. Какова истинная природа потока, подхватившего его и увлекшего к гибели? Он не находил ответа. Он был во власти неразрешимых противоречий; едва он хватался за какой-нибудь довод, как тот ускользал от него, сменяясь другим. Сидевшее в нем низкое существо пользовалось его голосом, стараясь оттянуть время, и выбалтывало все, что приходило ему на ум. Но то были не его мысли.
— К сожалению, ты сам даешь мне все основания, чтобы казнить тебя, — мягко сказал Нерон. — Твои свинцовые толкования утопили бы мою поэзию. Конечно, ты обвинишь также своего дядю. Ты забыл его назвать.
— Нет, — ответил Лукан, опустив голову и тяжело дыша. Все в нем остановилось и замерло. Он сам и трусливое бормочущее существо были уничтожены. У него звенело в ушах. Ему казалось, что он уже умер, счастливо избегнув умирания. Он не нашел ответа ни на один из мучивших его вопросов, но теперь все вопросы были сняты. Нарушилась всякая связь между словами и разумом, который ими пользовался. Наша свобода — эта краткая ночь, не более. Свобода. Ночь. Наша. Краткая. Не более. Все слова, раньше так его волновавшие и возбуждавшие, утратили смысл. В этой ночи трепетали звезды, свечи горели в недрах безмолвия, в факелах неустанно метались языки пламени. Ночь. Чтобы понять смысл этого слова, не хватит целой жизни. «Не давайте мне умереть, пока я не пойму хоть одно слово, его происхождение, его природу, его отношение к действительности». Он выпрямился.
— Нет. — Наконец он нашел слово, на котором мог остановиться.
Нерон дал знак, чтобы вывели Лукана.
Он умер с достоинством. Когда ему вскрывали вены, он читал стихи из «Фарсалии» об умирающем солдате. Неделю назад ой думал, что на пороге небытия героически продекламирует эти строки. Теперь он подражал самому себе, ибо от него ничего не осталось, его не существовало в эту минуту. Была смерть. Конечная смерть.
Сцевин вновь обрел мужество, он умер со словами холодной злобной насмешки. Афраний тоже удивил палачей, проявив достоинство, которого ему всегда недоставало. Наталис, признавшийся первым, был помилован. А также Церватий Прокул, человек среднего сословия, приспешник Сцевина, один из доносчиков, погубивших префекта Руфа. Консулу Гаю Вассию Вестину было приказано покончить с собой, что он и сделал. Он не был назван никем, но был женат на любовнице Нерона. Ходили слухи, что он надеялся после смерти тирана захватить место Пизона, хотя никто не знал, насколько это достоверно. Он был арестован в своем доме, который высился над Форумом, как цитадель. Легионеры ворвались к нему в разгар пира. Он сразу прошел в боковую комнату и велел врачу вскрыть себе вены. Всех пирующих, задержали и отпустили по распоряжению Нерона поздно ночью; император заявил, что они достаточно пострадали во время пира у консула. Вольноотпущенник Милих получил крупное денежное вознаграждение, и к его имени было прибавлено название Спаситель.
Трибунов Стация Проксима и Гавия Сильвана выпустили на свободу. Оба они тут же покончили с собой.
XX. Нерон
В тот вечер Нерон отослал всех своих советников и фаворитов, с которыми провел столько тревожных дней и ночей, и остался наедине с Поппеей.
— Боюсь пить, — шепнул он ей. — Боюсь даже на мгновение утратить ясность мысли. Боюсь спать. Я должен все время следить. Следить. За всем на свете! — Он уныло покачал головой. — А что толку? Меня не понимают, ненавидят, презирают. Что я делал все эти годы? Правил милостиво, слушал этого старого, тщеславного и нудного Сенеку, проявлял всяческое уважение к Сенату. А они еще пуще меня возненавидели. Что толку во всем этом?
Сидя на ложе, она обхватила руками его крупную голову и положила на свои тонкие колени.
— Ты должен жить, чтобы довести до конца свое великое дело. — Она ласково гладила ему лоб. — Ты не позволишь им восторжествовать. Что будет с миром, если ты умрешь? Народ любит тебя как раз за то, за что ненавидят тебя сенаторы.
— Да, потому что благодаря мне плебеям живется легко, — сказал он с раздражением. — Но они не хотят усердно трудиться. Посмотри, как трудно найти рабочие руки, чтобы провести канал от Авернского озера до Тибра. До сих пор еще не могут прорыться сквозь прибрежные холмы; Мой проект Нового Рима на каждом шагу встречает препятствия. Возрождаются прежние узкие переулки, на скорую руку застраиваются кварталы. Я же хочу уничтожить их. Повсюду колоннады. — Он повернул голову и заглянул ей в лицо. — Нет, не народ в этом виноват. Виноваты денежные мешки. Они всем вертят. Будь у меня вволю денег, я бы их раздавил. Корень всех бед — деньги.
— На свете достаточно денег. Ты найдешь их, сколько тебе угодно. — Она продолжала гладить его по волосам в мягком, ровном сиянии свечей. Он стал ровнее дышать.
— Все же римляне недостаточно ценят мой музыкальный талант, — проворчал он. — Они чересчур привержены к материальным благам. Всех их одолела жадность, даже простонародье. Иначе обстоит дело в Неаполисе. Я думаю в скором времени совершить путешествие по Греции, где души людей не так заражены страстью к войне и к наживе.
У него вырвался беспокойный вздох. Поппея поднесла к его губам кубок.
— Пей. Со мной ты в безопасности.
Он стал жадно пить.
— Не оставляй меня, любимая. Никогда не покидай меня. Кому, кроме тебя, могу я довериться? Как ты думаешь, не издевался ли надо мной Лукан, когда обвинил свою мать? Вздумал меня уязвить? Но у кого из людей была такая мать, как у меня? — Он закрыл лицо покрывалом и застонал. — Она свела меня с ума. Гнусная женщина. Мне пришлось первым нанести удар. — Он снова застонал. — Я слышу запах граната. Ты знаешь, как я их ненавижу. Может быть, ты ела гранат?
— Нет, нет, — ответила она, поглаживая его.
— Жаль, что мне не удалось ее утопить, — проговорил он про себя. — Я ненавижу кровь. Ее посиневший раздутый труп в тине среди корней водяных лилий. Такой она мне видится. Как ты думаешь, был Фений Руф ее любовником или это был Субрий Флавий? — Нерон вздрогнул. — Ужасный человек. Почему я не могу заслужить преданность таких людей? Я отдал бы все на свете, чтобы расположить их к себе. Лукан был глупец, но я жалею его.
— Он заслужил смерть.
— Вдвойне. Но как ты думаешь, он и впрямь хотел меня уязвить? Напрасно я присудил его к такой легкой смерти. Он был хуже всех. Как я раньше любил его! — Он покачал головой. — Неблагодарность, черная неблагодарность. — Он приподнялся на локте и прижался лицом к ее груди. — Почему в них нет молока? Мне всегда хочется, чтобы из женских грудей, когда я к ним прикасаюсь, текло молоко. Какая польза от всемогущества, если я не могу сделать даже такой простой вещи? Мне хочется, чтобы земля текла молоком, маслом и медом. — Он облизнул губы. — Чтобы они повсюду били фонтанами. Хочу быть новым Дионисом. Ударить в землю тирсом, чтобы из нее хлынули животворные соки. Тогда меня благословит народ. — Он рванул ее платье и уставился на ее груди. — Надо найти способ это осуществить. — Он откинулся навзничь. — Да, нам нужны деньги. Значит, Сенат не хочет со мной примириться, да? Тогда я сокрушу его! — Поппея снова подала ему вино. — Я не сдамся. Мир нуждается в музыке, а не в войнах и убийствах. Я пробовал прекратить бойню в цирках и заинтересовать народ атлетикой и искусством. Но никто не захотел искусства. Как цивилизовать римлян? Город черни и ростовщиков. Все это я обдумал. Искусство — это новый путь, на котором император может обрести гармонию с народом, новая форма правления. Мой Золотой Дворец будет воплощением моей мечты. Человек, пребывающий в единении с природой и в то же время царственно самодовлеющий. Земля, текущая молоком и маслом, и вечно расширяющиеся горизонты чистой красоты. Когда я буду жить в Золотом Дворце, я наконец стану вполне человечным, первым человеком новой расы, и все люди будут стараться мне подражать. — Он ударил себя по лбу. — Но удастся ли мне сломить сопротивление? Сколько людей меня ненавидят!
— Ты уже столько совершил, — шепнула она. — Ты осуществишь все, о чем мечтаешь. Видел ли когда-нибудь мир такого правителя? — Она закашлялась.
— Не кашляй так! — воскликнул он в ужасе, цепляясь за нее. — Береги свое здоровье. Что толку от этих дрянных врачей? Нельзя доверять ни одному из них. Я велю Тигеллину выяснить, сколько их было замешано в заговоре. Они погубят всех нас. Прошу тебя, только не кашляй. Не смей! — сердито приказал он ей. — Сейчас же перестань. Это меня пугает. Слышишь, перестань! Мой голос тоже немало пострадал. Я перестал упражняться. Я уже сомневаюсь, что смогу выступать публично. А тут еще ты!
Ей с трудом удалось подавить кашель, грудь ее тяжело вздымалась.
— Пустяки, — выдохнула она.
— Никто не говорит правду, — пробормотал Нерон. — Даже ты. — Он задумался. — Я не знаю, о чем думают люди. Это сведет меня с ума. Даже ты. Даже Тигеллин. — Он поднялся и позвал слугу.
Раб раздвинул занавеси, и пламя свечей заколебалось. Нерон велел немедленно привести Тигеллина.
— Чего ты хочешь от него? — не без тревоги спросила Поппея.
— Погоди, и ты увидишь.
Через несколько минут вошел Тигеллин с табличками в руке.
— Ты обнаружил, Божественный, еще новых заговорщиков?
— И не думал, — приветливо отозвался Нерон. — Садись. Мне нужно с тобой поговорить. — Некоторое время он вглядывался в лицо префекта. — Скажи мне, какие у тебя политические взгляды? Каким бы ты хотел видеть мир?
— Я попросту предан твоей особе, — ответил озадаченный и обеспокоенный Тигеллин.
— Но это невозможно. — Нерон обхватил голову руками. — Я вынашиваю бесчисленные идеи и в области поэзии и в сфере политики. Кто предан мне, предан и моим идеям.
— Да, Божественный. Я предан твоим идеям.
— Но скажи: ты любишь эти идеи, потому что они принадлежат мне, или любишь меня за эти идеи? — спросил Нерон с лукавым огоньком в глазах. — Подумай, как следует, ответ имеет большое значение.
— Я предан лично тебе, — смущенно ответил Тигеллин, поглядывая на Поппею и надеясь, что она ему объяснит, в чем дело.
— Я хочу, чтобы все были откровенными, высказывали, что они думают и чувствуют, — продолжал Нерон. — Много ли я о тебе знаю, мой друг? Каких женщин ты больше всего любишь? И как ты с ними обходишься? Как ты их обнимаешь? Все это очень важно. — Он пристально посмотрел на Тигеллина, потом продолжал: — Если ты придерживаешься моих идей, потому что они принадлежат мне, и только поэтому, ты должен с радостью исполнить все, о чем бы я тебя ни просил.
— Разумеется, — ответил Тигеллин, облизывая губы.
Нерон хлопнул в ладоши. Вошедшему рабу он приказал привести Баббу, придворную карлицу. В ожидании ее Нерон рассуждал о том, что в конечном итоге политическая свобода не отличается от свободы в отношениях между полами.
— В мире, где и мужчины и женщины смогут делать все, что захотят, не будет существовать политических проблем.
Тут вошла Бабба в скверном настроении, недовольная, что ее разбудили. Она протирала глаза, одета была кое-как, наспех.
— Зачем ты позвал меня, Нерон? — спросила она каркающим голосом. Это было существо ростом в два локтя, с небольшим горбом и сморщенным мудрым обезьяньим лицом. — Я как раз собиралась увидеть распрекрасный сон. Надеюсь, ты чем-нибудь меня одаришь, а не то я рассержусь.
— Я одарю тебя любовником, — сказал Нерон, указывая на Тигеллина.
Бабба покосилась на него.
— Я видела и похуже. Неужто он не мог подождать до утра? — Она подошла к испуганному префекту и взяла его за руку, он изо всех сил старался скрыть свое отвращение. — Ты, право, славный. — Она погладила ему руку, потом лицо.
— Ты сказал, что готов исполнить, все мои пожелания, потому что они исходят от меня, — сказал Нерон. — Ты говорил это искренне или нет?
— Вполне искренне, Божественный, — ответил Тигеллин. — Но ведь это только шутка и прихоть с твоей стороны…
— Где граница между прихотью и серьезным намерением? Мои враги называют постыдной прихотью мои начинания, которые я тщательно обдумывал для освобождения рода человеческого.
Бабба взобралась к Тигеллину на колени.
— Благодарю тебя, Нерон. Я зря сердилась. Ты хорошо сделал, что разбудил меня, я всегда говорила, что ты добрый малый.
— Давайте веселиться, друзья, — сказал Нерон, переводя взгляд с Баббы и Тигеллина на Поппею. — Мы избавились от великой опасности. Выразим свою признательность богам, Фортуне, Венере. Всякое живое существо имеет право на счастье и на любовь. Не так ли, Бабба?
— Верно, Нерон, — прокаркала она. — Ты умный малый, я всегда это говорила.
— Поцелуй ее, Тигеллин, — приказал Нерон. — Она верная и любящая подданная. Она должна получить то, чего ей хочется.
Бабба обхватила руками Тигеллина за шею. С трудом сдерживаясь, он дал ей поцеловать себя в губы. Жесткие черные волосы у нее над губой, кололи ему лицо. Нерон от души смеялся, хотя Поппея сжимала ему руку. Тигеллин выпрямился, Бабба тяжело повисла у него на шее.
— Божественный, Божественный… — начал он. Тут у Баббы разжались руки, и она грузно шлепнулась на пол.
— Довольно, мой друг, — сказал Нерон. — Ты доказал свою преданность. Можешь идти, хотя я еще не вполне разобрался в твоих политических идеях. Мне нужны люди, которые разделяли бы мои мысли и постигали мои планы и намерения, как только они у меня возникают или сразу после этого. Все же я доволен тобой. Можешь идти.
Тигеллин поклонился и поспешно вышел.
— Не отпускай его, — хрипло простонала Бабба. — Ты обещал отдать мне его. Это некрасиво, Нерон. Это была скверная шутка. — Она подошла к нему и принялась его тузить. Нерон отстранил ее, смеясь.
— Я как-нибудь иначе тебя вознагражу, красавица моя. — Он хлопнул в ладоши, и двое рабов вынесли карлицу, которая вопила и брыкалась.
— Не следовало этого делать, — ласково сказала Полнея. — Тигеллин один из немногих людей, достойных полного доверия.
— Он заставил всех так себя возненавидеть, что не может не быть преданным, — сказал Нерон. Все же веселость его рассеялась, и он задумался. — Ты видишь, от этого нет толку. Никто не говорит правды. Каждый прячется от себя. От своих истинных желаний. Боится пустяков, стыдится, трусит, нелепо важничает. Сенаторы не могут мне простить, что я повернулся к народу, пою для него. Но даже мне порой трудно быть самим собой, не испытывать страха или стыда. Говорить все, что на душе. Даже тебе. — Он потянул ее за платье, которое уже прежде порвал. Она помогла ему снять с нее платье… Он тяжело дышал. — Все до конца. Я хотел бы снять с тебя кожу, чтобы увидеть, что ты от меня прячешь.
Поппея опустилась нагая на ложе.
— Все что хочешь, — прошептала она. — Все что хочешь.
Он стал ее ощупывать, поворачивать, рассматривать.
— В конце концов, не много, — заметил он, словно обвиняя ее. — Будь природа разумнее, она даровала бы женщине больше. Этого недостаточно. Немудрено, что мужчина от девушки бросается к мальчику, от него к девушке, и так сотни раз. Ну, говори теперь, что у тебя на уме, о чем ты сейчас думаешь.
— Прижмись ухом к моим губам.
Он напряженно слушал ее горячий шепот.
— Повтори, — он тяжело дышал. — Еще раз. Скажи громко.
Она повторила громко, радостно улыбаясь.
— Все мы постоянно думаем о таких вещах, — сказал он, — но нам стыдно признаться. Мы стыдимся делать то, о чем думаем. Если бы я мог издавать законы по своему усмотрению, я бы всем разрешил это делать открыто, в публичных местах, в храмах, даже на алтарях. Люди убили в себе способность наслаждаться, вот почему им хочется убивать и богатеть. Наслаждение дороже всего на свете. Всякому должно быть дано право наслаждаться с кем угодно, любым способом, а не только на скучный супружеский лад. Я хочу, чтобы мир был счастлив, счастлив! Только освободившись от стыда, мы станем культурными.
Он откинулся назад и посмотрел на Поппею.
— Я твоя, — шепнула она.
— Да, — сказал он тихо и радостно.
Вот так. Я не поддамся, не поддамся, — думал Нерон, обнимая ее. — Они хотят извести меня, но это им не удастся, я хочу их убить, убить их всех, убить, убить, я — Нерон, мощь мира, ты моя любовь, я не мог бы расстаться с этой мощью, даже если б захотел, она во мне, в каждой частице моего тела, она здесь, владеет мной, я овладел ею, дана мне, овладел ею, она твоя, если я отпущу, все разлетится вдребезги, во всем мире алчность и убийство, ты моя любовь, деньги, деньги, я вырву у них, конфискации, ударю по ним крепко, крепко, крепко, получу груды, груды и груды, вырву у них из нутра деньги, мощь моя, ты моя любовь, это все твое, твое, ты моя, отдам все тебе, бери, вырви, бери, мать, я не знаю, где я, я овладел, владеет мной мир и его грязное золото, ты моя любовь. Я твой, весь твой, бери все…
Все время, пока Поппея лежала скорчившись, она о трудом удерживалась от кашля. Но вот разразился приступ. Она поникла под тяжестью его тела, вся содрогаясь от кашля. «Божественный, Божественный», — слабым голосом повторяла Поппея. Он грузно навалился на нее, уже не слыша ни ее кашля, ни слов. Наконец ей удалось высвободить руку и дотянуться до столика, где в серебряной чаше было лекарство. Она глотнула, и припадок кашля прошел.
Когда он проснулся от беспокойного сна, у него вырвалось:
— Я поеду в Грецию, как только это мне удастся. В культурный мир.
Часть четвертая
В глубинах

XXI. Луций Кассий Фирм
 Я опасался подвоха. Центурион подтолкнул меня дружелюбно и пренебрежительно, сказав, чтобы я поскорей убирался. Солдат провел меня к задней калитке, и не успел я проскочить, как он ее захлопнул. Весь сжавшись, я поспешно удалился. На улице уже не видно было легионеров. Но в Риме еще не восстановилась нормальная жизнь с ее деловым шумом. Мне чудилось, что прохожие показывают на меня пальцем, говорят о моем аресте, сторонятся меня. Однако никто обо мне не говорил, никто не обращал на меня внимания. Эти люди тоже чувствовали всю непрочность своей свободы, им мерещились тени, следующие за ними но пятам, тени людей, которые вот-вот схватят их и станут задавать вопросы, на которые нет ответа. Они чувствовали, что им вынесен смертный приговор и они лишь на время отпущены на поруки. Подобно им, я радовался, что меня толкают со всех сторон. Затерянный среди тысяч беззаботных людей, для которых я был лишь досадной преградой на пути, я радовался даже яркому свету, слепившему глаза. Грязный, впервые в жизни заросший щетиной, я слился с уличным потоком и был мучительно отторгнут от прошлого. Через некоторое время, осмелев, я стал вглядываться в лица людей. К моему огорчению, оказалось, что все они далеко не беззаботны, но замкнуты, суровы и чужды друг другу, как камешки, что швыряет на берег прибой. Мне как никогда захотелось уйти в себя. И вместе с тем меня подмывало совершить какой-нибудь замечательный поступок и дать выход обуревавшей меня безымянной радости. Как-нибудь выразить свою благодарность за чудесный дар жизни. И все же самые обыкновенные вещи казались сейчас странными и невозможными. Зайти в погребок и перекинуться словом-другим с соседом, помочиться в чан сукновала, спросить, сколько стоит банка горчицы или пучок лупина, поглазеть на заклинателя змей из племени марсов, размахивающего свитком с толкованиями снов. В этих повседневных поступках раскрывался весь смысл существования. Этих поступков я еще не смел совершить, опасаясь привлечь к себе внимание. По временам меня так одолевал страх, смешанный с восторгом, что я шел, пошатываясь как пьяный. Я знал, что стоит мне заговорить, как я стану запинаться или понесу всякий вздор.
Денег нет, идти некуда. Нечего и думать возвращаться в дом Лукана. Но все же я направлялся к нему, хотя и извилистым путем. Куда же еще? От легионеров я слышал о смерти Лукана. Конечно, теперь они перестали интересоваться его домом. Но если мне и не грозит опасность, какой прием окажет мне Полла? Погруженный в свои мысли, я ходил взад и вперед у парадного входа. Все как обычно, только странная тишина, не видно ни рабов, ни клиентов, двери закрыты. Они, несомненно, на запоре. Я удалился. Прямо на Форум. Зайти в храм Близнецов и принести обет? Но я повернул назад и на сей раз прошел к задней калитке. Постояв с минуту, я постучал. Я разглядывал царапины на стене, пытаясь уловить в них некий знакомый образ. Послышались шаги, и я испугался, что меня примут за какую-нибудь подозрительную личность, увидев мою разорванную одежду и неумытое лицо. Мне не отпирали. Я постучал громче. Снова и снова. Наконец скрипнул засов. Калитка слегка приотворилась.
— Впусти меня, — попросил я.
Раб узнал меня. Я проскользнул в сад. Он сообщил, что уже несколько дней, как ушли легионеры, что госпожа больна.
Я сказал, что хочу ее видеть. Он ушел. Я остался ждать в глубине сада. Носком сандалии я прочертил дорожку муравью, обремененному ношей. Наверняка она Захочет меня увидеть. Я вообразил картину встречи. Слезы и сетования. Потом успокоение, ласки. Как же иначе? Это в порядке вещей. У меня потеплело на душе, возродились надежды. В мирном солнечном свете цветы, безмолвная птица. Я помог еще одному муравью. Пролетевший мимо миртового куста воробей повернул ко мне голову, но не издал ни звука. Тут ко мне подошел домоправитель. Как всегда спокойный. Он сухо сообщил мне, что Полла по состоянию здоровья может уделить мне лишь несколько минут, и правел меня к ней. Она лежала на парчовом ложе, откинувшись на подушки, поблекшая, очень бледная, глаза ее стали огромными и были обведены синими кругами.
— Почему тебя отпустили? — спросила она слабым, мертвенным голосом. — Кого ты предал?
— Никого. Я слишком незначительная личность, чтобы меня убивать.
Она пристально посмотрела мне в лицо.
— В таком деле нет незначительных людей. — Лицо ее исказилось от боли. — Почему ты остался жив, когда он умер? Разве одно это не предательство?
Меня поразило, какую боль выражали ее маленькие сжатые руки. Но приступ скорби миновал. Она глядела на меня без слез, широко раскрытыми глазами, приоткрыв рот. И все же это была знакомая мне Полла, она интересовалась мной, и я еще мог привлечь ее к себе.
— Они допрашивали меня, и я рассказал им то немногое, что мне было известно. Какой смысл было отрицать то, что до меня признали куда более достойные люди? — Я почувствовал горечь в своем тоне и умолк, потом прибавил с печалью: — Он умер задолго до того, как велели говорить мне. Уверяю тебя, я для них не представлял интереса. Я слышал, как легионеры говорили о нем.
Теперь мне было стыдно, что ко мне отнеслись так снисходительно, так небрежно. На самом деле я отрицал, что мне было известно о заговоре, и сказал лишь одно: Лукан как-то упомянул, что ему может понадобиться отправить со мной в Бетику срочное послание. Казалось, Тигеллин лучше Лукана представлял себе всю незначительность моей роли. Он выслушал меня равнодушно. Мне не предъявили никаких обвинений, лишь подвергли допросу. Лукан уже умер, и, вероятно, они решили, что нет смысла заставлять меня повторять известные вещи. Внезапно мне пришло в голову: быть может, Тигеллин хотел проследить, не напишу ли я Гальбе и именитым людям Кордубы или не отправлюсь ли сразу туда сообщить им о катастрофе. Или Тигеллин был в хороших отношениях с Гальбой и не хотел направить суд по следу, который мог привести к тому. Меня путала и сбивала с толку мысль, что я всего лишь игрушка в его руках. Было нестерпимо думать, что за мной наблюдают и вот-вот снова меня схватят.
Мой голос дрогнул, словно я чувствовал свою вину, и лицо Поллы стало отчужденным. Все же я правильно поступил, скрыв от нее, что на допросе ничего не сказал о заговоре. Наш разговор могли подслушать, кому-нибудь поручили наблюдать за всем, что делалось в доме. Я даже опасался, что Полла может меня предать, если подвернется случай. Из желания отомстить за Лукана или спасая себя.
— Что бы там ни было, — медленно сказала она, глядя на меня с презрением и в гневе, что я намекнул на моральное падение Лукана во время допроса, — ты спасен. Хотя бы ценой лжи и предательства. Ты ответишь за это перед своей совестью, если только у тебя есть совесть.
— Я любил его, — проговорил я и впервые почувствовал, что он умер. Умер подлинной смертью, а не так, как побежденные во время игры дети, что вскакивают и вновь бросаются в бой. Мои глаза наполнились слезами. Я искренне горевал. Я испытывал к нему какую-то особенную любовь. Но скорбь моя была глубже этой непрочной любви. Я скорбел обо всем, что утратил с его смертью. О не-дописанных им поэмах и о тех, которые никогда не будут написаны. О своих собственных поэмах. С болью в сердце я думал о том, что он верил в поэзию и готов был умереть за нее, даже если в последнюю минуту и поддался малодушию. О благородстве, каким были проникнуты его сочинения. О всецело овладевшем им стремлении к высокой цели, о страстной, пламенной жажде братского общения, которую он порой обнаруживал. Все было растоптано железной пятой власти. Я скорбел и о том, что умерло во мне. Чего я еще не мог назвать. Скорбел о мире, осиротевшем с уходом моего друга. Я посмотрел на Поллу. Она, конечно, отзовется на мое горе и разделит его.
Глаза ее были сухи. Словно она ничего не переживала. Мне было досадно, что она не горюет об умершем поэте.
— Слова дешево стоят, — произнесла она. — Да и слезы. Мы плачем о себе. Я не плачу.
Она была одета небрежно, волосы были гладко зачесаны назад и скреплены узлом на затылке.
— Могу ли я чем-нибудь тебе помочь?
— Ничем.
Я почувствовал, что дело мое проиграно. Она сидела неподвижно, положив руки на колени. Мне захотелось броситься к ее ногам, но вместо этого я посмотрел на нее долгим взглядом, не вызвавшим никакого отклика. Я так надеялся убедить ее, что не купил освобождение ценой предательства. Но мне это не удалось. Оставаться дольше значило бы только вредить себе. Выйдя из комнаты, я подумал, что по крайней мере не разыграл дурака, понадеявшись, что она питает ко мне какие-то чувства, И еще понял, что ее скорбь неизмеримо глубже моей. По правде сказать, сейчас я ничего не чувствовал. Только смутное облегчение и сознание своей изворотливости.
Я пошел в свои прежние комнаты посмотреть, можно ли что-нибудь спасти. Там царил беспорядок, все было растоптано и поломано легионерами, да и после них слуги, несомненно, рылись в моем добре и растащили что могли. Мне особенно хотелось найти письмо, адресованное Юлию Присциану. Но оно исчезло. Очевидно, его передали Тигеллину. Уж не спасло ли оно мне жизнь? Мне удалось подобрать лишь несколько свитков, кое-что из нижнего белья, пару Носков из козьей шерсти и пучок тростниковых перьев. Я уложил все это в небольшой продавленный ящик.
Оглядывая свою разоренную комнату, я не спешил уходить, хотя меня здесь ничто не удерживало. Вошел раб с табличкой от Поллы. Она писала: «Поскольку с тобой случились неприятности в моем доме и ты, конечно, многое потерял, я дала указание своему казначею выплатить тебе двадцать тысяч сестерций. Полагаю, этой суммы тебе хватит на обратную дорогу в Испанию. Знаю, что он хотел бы, чтобы я так поступила. Прощай».
Мне пришло в голову, что она опасалась меня и решила мне заплатить, чтобы я убрался прочь. Потом я подумал, не смягчилась ли она и не следует ли мне попросить о вторичном свидании. Но сразу за посланцем пришел казначей. Хмуря мохнатые брови, он выплатил мне деньги — часть монетами, часть чеками. Я выдал ему расписку и на той же табличке приписал: «Благодарю тебя. Больше мне нечего сказать». Я с трудом удержался от соблазна написать ей еще о многом. Передав расписку казначею, я спрятал деньги вместе со свитками. Поразмыслив, каким путем мне выйти из дома, я направился к задней калитке. Проходя по саду, я увидел самодовольного красавца египтянина, который служил домоправителем у Поллы и был искусным юристом. В розовых кустах мелькнуло лицо Гермы. Она радостно улыбнулась и убежала.
В конце сада я остановился и оглянулся в последний раз. Я не испытывал никаких сожалений. Милей всего мне было оживленное лицо Гермы. Казалось, лишь воспоминание о ней как единственную ценность я уносил из этого дома, где пережил столько волнений и смертельных тревог. На душе было гораздо легче, чем я мог ожидать еще час назад.
Когда я вышел на улицу, меня окликнули. Я остановился, похолодев от страха. Сейчас меня арестуют или потребуют, чтобы я вернул деньги. Но вот я увидел ушастую лохматую голову Феникса. Радость нахлынула потоками света, звоном серебряных колокольцев. Феникс направлялся к дому Лукана справиться обо мне, как он это делал, оказывается, несколько раз в день. Я настоял, чтобы он зашел со мной в ближайшую таверну. Несмотря на его возражения, я усадил его на одну скамью с собой, и мы выпили за наше счастье. Я сообщил ему, что у меня есть деньги на обратный путь, но я еще не решил, что предпринять. Он советовал мне поскорее возвращаться домой. Но мое желание бежать из Рима уже несколько остыло. Как я ни жаждал уйти подальше от римских легионеров и стражников, я содрогался при мысли о том, что мне придется предстать перед отцом и семейным советом и поведать о своих ошибках и злоключениях. Ведь я не выполнил ни одного делового поручения. Вдобавок мне казалось, что за мной будут следить и мое возвращение вызовет аресты в Кордубе.
Феникс негодовал на двух других моих рабов, которые сбежали во время суматохи. Он предлагал мне подать городскому претору заявление о побеге. Однако я испытывал неприязнь к представителям власти и у меня не было желания разыскивать этих молодцов. Но к кому мне обратиться, если я еще задержусь в Риме? Все люди, с которыми я познакомился через Лукана, были замешаны в заговоре или же находились на подозрении у правительства. Я отгонял мысли о Цедиции. А что же Марциал? Мне захотелось с ним повидаться. Но тут же я подумал, что окажу ему плохую услугу, если устремлюсь к нему сразу после своего освобождения. С этой минуты, куда бы я ни пошел, мне все чудилось, что за мной следят. Раз или два мне показалось, что за мной идет человек, прилаживаясь к моему шагу, чтобы не потерять меня из виду. Затем мои подозрения рассеялись. Сидя в погребке, я внимательно осмотрел всех посетителей, чтобы в случае чего опознать лицо, которое следовало бы за мной.
Выйдя из таверны, мы направились в Субуру. Когда мы миновали храм Венеры и Рима, я послал вперед Феникса, поручив ему подыскать пристанище подешевле. Он должен был через полчаса встретиться со мной у башни Мамилия в долине между Эсквилином и Квириналом.
Теперь я мог наблюдать кипучую жизнь города, свободный от тревог. Меня радовала и забавляла всякая мелочь. Мальчишка, с серьезным видом удивший рыбу в сточной канаве; разносчики с кульками гороховой муки и копченой колбасой; уличные девки в темных тогах; старьевщики в сопровождении шустрых мальчишек, которые мигом подбирали все, что валялось на улице, и прятали в мешок; мясники, тащившие на лотках еще дымящуюся четверть бычьей туши, требуху, ярко-красные легкие; одноглазый сапожник, что стучал молотком, наклонив голову набок; харчевня, расположившаяся посреди забрызганной жиром улицы; гнусавый продавец засиженной мухами соленой рыбы и морских ежей; дородный торговец, стоящий среди колонн, на которых висели на цепочках фляги; лавочники, что подсчитывали выручку, щелкая счетами, и лукавые сводни с любовными напитками цвета меда. Все они были мне милы. По переулку, стуча палками и звеня колокольцами, неслись в дикой пляске растрепанные почитатели Беллоны[145]. Гигант-нумидиец с жезлом в руке расчищал дорогу для носилок своего хозяина.
Я остановился возле лавки цирюльника, у входа висела клетка, ворон в ней каркал: «Заходи». Я решил побриться и вошел. На лавках сидели трое бездельников. Один из них лениво настраивал лютню. Разговор шел о богатом вольноотпущеннике, который вложил деньги в строительство и благодаря этому получил римское гражданство.
— О да, он поистине наш спаситель, — сказал человек, сидевший рядом с музыкантом, он имел в виду Нерона, хотя и не называл его. — Он все время думает о нас.
— И впрямь, — подтвердил третий. — Вот мы погорели. И, как вы думаете, куда нас поместили? Во дворец Агриппы. Там поселили пятьдесят семей, еще сотни в садах и в термах. Потом нам дали полный набор домашней утвари. Привезли из Остии… В повозках, на ослах, на баржах, полным-полно!
— И цена на зерно понизилась на три сестерция, — заметил цирюльник.
Я сидел, ожидая, пока он кончит опрыскивать духами человека, занимавшего кресло. Бездельники толковали о жене торговца чесноком, жившего через улицу. Внезапно я почувствовал сильную усталость и стал бороться с овладевавшей мною сонливостью. Но вот я сообразил, что цирюльник обращается ко мне, порывисто вскочил, наткнулся на выходящего из комнаты человека и опустился в кресло.
— …так мы и не нашли мяча, — говорил кто-то. Цирюльник повязал мне широкую салфетку вокруг шеи и поднял подбородок. Я ощутил паническое отвращение к его рукам. Руки. Салфетка — жертвенная повязка. Однажды в Кордубе в последний момент вырвался бык, опрокинул и растоптал одного представителя власти, и, когда двое мужчин, повисших у него на рогах, валили быка на землю, другие двое тянули его за задние ноги, а он храпел и мычал, предвещая недоброе, кто-то рядом со мной сказал: «Я тоже не стану умирать без боя». Но у меня руки висели как плети, я ощутил только ужас.
— Могу дать полотняную или муслиновую салфетку — за добавочную плату, — сказал цирюльник. Маленький человек с редкими длинными намасленными волосами, зачесанными через лысину. Я поглядел на себя в зеркало, и меня поразило смотревшее на меня оттуда темное, осунувшееся лицо с бегающими глазами. А ведь когда-то я немало гордился своим лицом, правильными чертами, четким очерком подбородка, широким прямым лбом и серо-голубыми глазами. Когда-то. А теперь передо мной было олицетворение поражения, безликий образ с неопределенными, кое-как выведенными чертами, словно на детском рисунке, только беспокойные, бегающие глаза были живыми, но они были не мои. Не мои. Я старался вспомнить, чьи они.
Я попросил цирюльника сделать мне горячий, компресс. В углу помощник стриг юношу, по временам он отступал на шаг, щелкая железными ножницами, и убеждал клиента сделать сплошную завивку. Цирюльник кончил править бритву на оселке, который, как я сразу узнал, был сделан в Испании. Он ловко на него поплевал, смочил мне лицо, нацелил бритву, сделал несколько пробных движений и начал скрести мой щетинистый подбородок. Бритье для меня было, как всегда, болезненным, и трижды показалась кровь. Когда он кончил, у меня болели порезы, но я чувствовал облегчение. Помощник убедил клиента сделать сплошную завивку и грел щипцы на очаге с горящими углями. Попробовав железо пальцем, чтобы убедиться, что оно не перегрето, он стал наворачивать на них волосы юноши. Цирюльник проворно натирал мне щеки, кремом и прикладывал тонкие полоски полотна к порезам. Я терпеть не могу мушки, но у меня не хватало энергии от них отказаться. Все же мне удалось избавиться от кассии и киннамона, которыми он хотел умастить мне волосы. Тогда он предложил мне средство для удаления волос. Я решительно его отклонил.
— Мои лучшие клиенты ценят его, — обиженно сказал цирюльник. — Я нахожу, что это самое лучшее средство, оно приготовлено из сока плюща, ослиного жира и козьей желчи. Неплохое средство делают и на белом вине. Пожалуй, нельзя рекомендовать мазь из камеди и древесной смолы. Она воняет, господин. Оставляет следы и причиняет боль. Может быть, тебе слегка смазать подмышки мазью из плюща? Многие женщины и не посмотрят на мужчину с волосами под мышками. Мои лучшие клиенты бредят этой мазью! Моя собственная жена не пустит меня к себе в постель, если я не выведу волосы под мышками.
— Я не выношу бритья, — сказал музыкант, извлекая несколько нот из лютни. — У меня сразу воспаляется кожа. Поэтому я пользуюсь щипчиками. Правда, это долгое дело, приходится выдергивать волосок за волоском, зато хватает надолго.
В разговор вмешались остальные. Вошел еще посетитель и спросил, нельзя ли побрить его без очереди, ибо он торопится на обед, который дает их цех.
По дороге к Башне я наткнулся на Феникса, который уже бежал туда. Ему удалось подыскать по соседству две недорогие комнаты. Повсюду стояли разрушенные дома и возводились новые. Кирпич, битый камень, штукатурка, сломанные балки и кучи реек. Я обратил внимание на тонкость стропил. В Кордубе принято пользоваться более толстым лесом, хотя там и не строят, как в Риме, высоких доходных домов. Немудрено, что здесь они постоянно рушатся. В переулке стоял деревенский фургон, застигнутый рассветом, он должен был оставаться здесь до наступления темноты. Неподалеку виднелась лавка, где продавалась оленина, на вывеске я прочел строки из «Энеиды»:
Я опасался подвоха. Центурион подтолкнул меня дружелюбно и пренебрежительно, сказав, чтобы я поскорей убирался. Солдат провел меня к задней калитке, и не успел я проскочить, как он ее захлопнул. Весь сжавшись, я поспешно удалился. На улице уже не видно было легионеров. Но в Риме еще не восстановилась нормальная жизнь с ее деловым шумом. Мне чудилось, что прохожие показывают на меня пальцем, говорят о моем аресте, сторонятся меня. Однако никто обо мне не говорил, никто не обращал на меня внимания. Эти люди тоже чувствовали всю непрочность своей свободы, им мерещились тени, следующие за ними но пятам, тени людей, которые вот-вот схватят их и станут задавать вопросы, на которые нет ответа. Они чувствовали, что им вынесен смертный приговор и они лишь на время отпущены на поруки. Подобно им, я радовался, что меня толкают со всех сторон. Затерянный среди тысяч беззаботных людей, для которых я был лишь досадной преградой на пути, я радовался даже яркому свету, слепившему глаза. Грязный, впервые в жизни заросший щетиной, я слился с уличным потоком и был мучительно отторгнут от прошлого. Через некоторое время, осмелев, я стал вглядываться в лица людей. К моему огорчению, оказалось, что все они далеко не беззаботны, но замкнуты, суровы и чужды друг другу, как камешки, что швыряет на берег прибой. Мне как никогда захотелось уйти в себя. И вместе с тем меня подмывало совершить какой-нибудь замечательный поступок и дать выход обуревавшей меня безымянной радости. Как-нибудь выразить свою благодарность за чудесный дар жизни. И все же самые обыкновенные вещи казались сейчас странными и невозможными. Зайти в погребок и перекинуться словом-другим с соседом, помочиться в чан сукновала, спросить, сколько стоит банка горчицы или пучок лупина, поглазеть на заклинателя змей из племени марсов, размахивающего свитком с толкованиями снов. В этих повседневных поступках раскрывался весь смысл существования. Этих поступков я еще не смел совершить, опасаясь привлечь к себе внимание. По временам меня так одолевал страх, смешанный с восторгом, что я шел, пошатываясь как пьяный. Я знал, что стоит мне заговорить, как я стану запинаться или понесу всякий вздор.
Денег нет, идти некуда. Нечего и думать возвращаться в дом Лукана. Но все же я направлялся к нему, хотя и извилистым путем. Куда же еще? От легионеров я слышал о смерти Лукана. Конечно, теперь они перестали интересоваться его домом. Но если мне и не грозит опасность, какой прием окажет мне Полла? Погруженный в свои мысли, я ходил взад и вперед у парадного входа. Все как обычно, только странная тишина, не видно ни рабов, ни клиентов, двери закрыты. Они, несомненно, на запоре. Я удалился. Прямо на Форум. Зайти в храм Близнецов и принести обет? Но я повернул назад и на сей раз прошел к задней калитке. Постояв с минуту, я постучал. Я разглядывал царапины на стене, пытаясь уловить в них некий знакомый образ. Послышались шаги, и я испугался, что меня примут за какую-нибудь подозрительную личность, увидев мою разорванную одежду и неумытое лицо. Мне не отпирали. Я постучал громче. Снова и снова. Наконец скрипнул засов. Калитка слегка приотворилась.
— Впусти меня, — попросил я.
Раб узнал меня. Я проскользнул в сад. Он сообщил, что уже несколько дней, как ушли легионеры, что госпожа больна.
Я сказал, что хочу ее видеть. Он ушел. Я остался ждать в глубине сада. Носком сандалии я прочертил дорожку муравью, обремененному ношей. Наверняка она Захочет меня увидеть. Я вообразил картину встречи. Слезы и сетования. Потом успокоение, ласки. Как же иначе? Это в порядке вещей. У меня потеплело на душе, возродились надежды. В мирном солнечном свете цветы, безмолвная птица. Я помог еще одному муравью. Пролетевший мимо миртового куста воробей повернул ко мне голову, но не издал ни звука. Тут ко мне подошел домоправитель. Как всегда спокойный. Он сухо сообщил мне, что Полла по состоянию здоровья может уделить мне лишь несколько минут, и правел меня к ней. Она лежала на парчовом ложе, откинувшись на подушки, поблекшая, очень бледная, глаза ее стали огромными и были обведены синими кругами.
— Почему тебя отпустили? — спросила она слабым, мертвенным голосом. — Кого ты предал?
— Никого. Я слишком незначительная личность, чтобы меня убивать.
Она пристально посмотрела мне в лицо.
— В таком деле нет незначительных людей. — Лицо ее исказилось от боли. — Почему ты остался жив, когда он умер? Разве одно это не предательство?
Меня поразило, какую боль выражали ее маленькие сжатые руки. Но приступ скорби миновал. Она глядела на меня без слез, широко раскрытыми глазами, приоткрыв рот. И все же это была знакомая мне Полла, она интересовалась мной, и я еще мог привлечь ее к себе.
— Они допрашивали меня, и я рассказал им то немногое, что мне было известно. Какой смысл было отрицать то, что до меня признали куда более достойные люди? — Я почувствовал горечь в своем тоне и умолк, потом прибавил с печалью: — Он умер задолго до того, как велели говорить мне. Уверяю тебя, я для них не представлял интереса. Я слышал, как легионеры говорили о нем.
Теперь мне было стыдно, что ко мне отнеслись так снисходительно, так небрежно. На самом деле я отрицал, что мне было известно о заговоре, и сказал лишь одно: Лукан как-то упомянул, что ему может понадобиться отправить со мной в Бетику срочное послание. Казалось, Тигеллин лучше Лукана представлял себе всю незначительность моей роли. Он выслушал меня равнодушно. Мне не предъявили никаких обвинений, лишь подвергли допросу. Лукан уже умер, и, вероятно, они решили, что нет смысла заставлять меня повторять известные вещи. Внезапно мне пришло в голову: быть может, Тигеллин хотел проследить, не напишу ли я Гальбе и именитым людям Кордубы или не отправлюсь ли сразу туда сообщить им о катастрофе. Или Тигеллин был в хороших отношениях с Гальбой и не хотел направить суд по следу, который мог привести к тому. Меня путала и сбивала с толку мысль, что я всего лишь игрушка в его руках. Было нестерпимо думать, что за мной наблюдают и вот-вот снова меня схватят.
Мой голос дрогнул, словно я чувствовал свою вину, и лицо Поллы стало отчужденным. Все же я правильно поступил, скрыв от нее, что на допросе ничего не сказал о заговоре. Наш разговор могли подслушать, кому-нибудь поручили наблюдать за всем, что делалось в доме. Я даже опасался, что Полла может меня предать, если подвернется случай. Из желания отомстить за Лукана или спасая себя.
— Что бы там ни было, — медленно сказала она, глядя на меня с презрением и в гневе, что я намекнул на моральное падение Лукана во время допроса, — ты спасен. Хотя бы ценой лжи и предательства. Ты ответишь за это перед своей совестью, если только у тебя есть совесть.
— Я любил его, — проговорил я и впервые почувствовал, что он умер. Умер подлинной смертью, а не так, как побежденные во время игры дети, что вскакивают и вновь бросаются в бой. Мои глаза наполнились слезами. Я искренне горевал. Я испытывал к нему какую-то особенную любовь. Но скорбь моя была глубже этой непрочной любви. Я скорбел обо всем, что утратил с его смертью. О не-дописанных им поэмах и о тех, которые никогда не будут написаны. О своих собственных поэмах. С болью в сердце я думал о том, что он верил в поэзию и готов был умереть за нее, даже если в последнюю минуту и поддался малодушию. О благородстве, каким были проникнуты его сочинения. О всецело овладевшем им стремлении к высокой цели, о страстной, пламенной жажде братского общения, которую он порой обнаруживал. Все было растоптано железной пятой власти. Я скорбел и о том, что умерло во мне. Чего я еще не мог назвать. Скорбел о мире, осиротевшем с уходом моего друга. Я посмотрел на Поллу. Она, конечно, отзовется на мое горе и разделит его.
Глаза ее были сухи. Словно она ничего не переживала. Мне было досадно, что она не горюет об умершем поэте.
— Слова дешево стоят, — произнесла она. — Да и слезы. Мы плачем о себе. Я не плачу.
Она была одета небрежно, волосы были гладко зачесаны назад и скреплены узлом на затылке.
— Могу ли я чем-нибудь тебе помочь?
— Ничем.
Я почувствовал, что дело мое проиграно. Она сидела неподвижно, положив руки на колени. Мне захотелось броситься к ее ногам, но вместо этого я посмотрел на нее долгим взглядом, не вызвавшим никакого отклика. Я так надеялся убедить ее, что не купил освобождение ценой предательства. Но мне это не удалось. Оставаться дольше значило бы только вредить себе. Выйдя из комнаты, я подумал, что по крайней мере не разыграл дурака, понадеявшись, что она питает ко мне какие-то чувства, И еще понял, что ее скорбь неизмеримо глубже моей. По правде сказать, сейчас я ничего не чувствовал. Только смутное облегчение и сознание своей изворотливости.
Я пошел в свои прежние комнаты посмотреть, можно ли что-нибудь спасти. Там царил беспорядок, все было растоптано и поломано легионерами, да и после них слуги, несомненно, рылись в моем добре и растащили что могли. Мне особенно хотелось найти письмо, адресованное Юлию Присциану. Но оно исчезло. Очевидно, его передали Тигеллину. Уж не спасло ли оно мне жизнь? Мне удалось подобрать лишь несколько свитков, кое-что из нижнего белья, пару Носков из козьей шерсти и пучок тростниковых перьев. Я уложил все это в небольшой продавленный ящик.
Оглядывая свою разоренную комнату, я не спешил уходить, хотя меня здесь ничто не удерживало. Вошел раб с табличкой от Поллы. Она писала: «Поскольку с тобой случились неприятности в моем доме и ты, конечно, многое потерял, я дала указание своему казначею выплатить тебе двадцать тысяч сестерций. Полагаю, этой суммы тебе хватит на обратную дорогу в Испанию. Знаю, что он хотел бы, чтобы я так поступила. Прощай».
Мне пришло в голову, что она опасалась меня и решила мне заплатить, чтобы я убрался прочь. Потом я подумал, не смягчилась ли она и не следует ли мне попросить о вторичном свидании. Но сразу за посланцем пришел казначей. Хмуря мохнатые брови, он выплатил мне деньги — часть монетами, часть чеками. Я выдал ему расписку и на той же табличке приписал: «Благодарю тебя. Больше мне нечего сказать». Я с трудом удержался от соблазна написать ей еще о многом. Передав расписку казначею, я спрятал деньги вместе со свитками. Поразмыслив, каким путем мне выйти из дома, я направился к задней калитке. Проходя по саду, я увидел самодовольного красавца египтянина, который служил домоправителем у Поллы и был искусным юристом. В розовых кустах мелькнуло лицо Гермы. Она радостно улыбнулась и убежала.
В конце сада я остановился и оглянулся в последний раз. Я не испытывал никаких сожалений. Милей всего мне было оживленное лицо Гермы. Казалось, лишь воспоминание о ней как единственную ценность я уносил из этого дома, где пережил столько волнений и смертельных тревог. На душе было гораздо легче, чем я мог ожидать еще час назад.
Когда я вышел на улицу, меня окликнули. Я остановился, похолодев от страха. Сейчас меня арестуют или потребуют, чтобы я вернул деньги. Но вот я увидел ушастую лохматую голову Феникса. Радость нахлынула потоками света, звоном серебряных колокольцев. Феникс направлялся к дому Лукана справиться обо мне, как он это делал, оказывается, несколько раз в день. Я настоял, чтобы он зашел со мной в ближайшую таверну. Несмотря на его возражения, я усадил его на одну скамью с собой, и мы выпили за наше счастье. Я сообщил ему, что у меня есть деньги на обратный путь, но я еще не решил, что предпринять. Он советовал мне поскорее возвращаться домой. Но мое желание бежать из Рима уже несколько остыло. Как я ни жаждал уйти подальше от римских легионеров и стражников, я содрогался при мысли о том, что мне придется предстать перед отцом и семейным советом и поведать о своих ошибках и злоключениях. Ведь я не выполнил ни одного делового поручения. Вдобавок мне казалось, что за мной будут следить и мое возвращение вызовет аресты в Кордубе.
Феникс негодовал на двух других моих рабов, которые сбежали во время суматохи. Он предлагал мне подать городскому претору заявление о побеге. Однако я испытывал неприязнь к представителям власти и у меня не было желания разыскивать этих молодцов. Но к кому мне обратиться, если я еще задержусь в Риме? Все люди, с которыми я познакомился через Лукана, были замешаны в заговоре или же находились на подозрении у правительства. Я отгонял мысли о Цедиции. А что же Марциал? Мне захотелось с ним повидаться. Но тут же я подумал, что окажу ему плохую услугу, если устремлюсь к нему сразу после своего освобождения. С этой минуты, куда бы я ни пошел, мне все чудилось, что за мной следят. Раз или два мне показалось, что за мной идет человек, прилаживаясь к моему шагу, чтобы не потерять меня из виду. Затем мои подозрения рассеялись. Сидя в погребке, я внимательно осмотрел всех посетителей, чтобы в случае чего опознать лицо, которое следовало бы за мной.
Выйдя из таверны, мы направились в Субуру. Когда мы миновали храм Венеры и Рима, я послал вперед Феникса, поручив ему подыскать пристанище подешевле. Он должен был через полчаса встретиться со мной у башни Мамилия в долине между Эсквилином и Квириналом.
Теперь я мог наблюдать кипучую жизнь города, свободный от тревог. Меня радовала и забавляла всякая мелочь. Мальчишка, с серьезным видом удивший рыбу в сточной канаве; разносчики с кульками гороховой муки и копченой колбасой; уличные девки в темных тогах; старьевщики в сопровождении шустрых мальчишек, которые мигом подбирали все, что валялось на улице, и прятали в мешок; мясники, тащившие на лотках еще дымящуюся четверть бычьей туши, требуху, ярко-красные легкие; одноглазый сапожник, что стучал молотком, наклонив голову набок; харчевня, расположившаяся посреди забрызганной жиром улицы; гнусавый продавец засиженной мухами соленой рыбы и морских ежей; дородный торговец, стоящий среди колонн, на которых висели на цепочках фляги; лавочники, что подсчитывали выручку, щелкая счетами, и лукавые сводни с любовными напитками цвета меда. Все они были мне милы. По переулку, стуча палками и звеня колокольцами, неслись в дикой пляске растрепанные почитатели Беллоны[145]. Гигант-нумидиец с жезлом в руке расчищал дорогу для носилок своего хозяина.
Я остановился возле лавки цирюльника, у входа висела клетка, ворон в ней каркал: «Заходи». Я решил побриться и вошел. На лавках сидели трое бездельников. Один из них лениво настраивал лютню. Разговор шел о богатом вольноотпущеннике, который вложил деньги в строительство и благодаря этому получил римское гражданство.
— О да, он поистине наш спаситель, — сказал человек, сидевший рядом с музыкантом, он имел в виду Нерона, хотя и не называл его. — Он все время думает о нас.
— И впрямь, — подтвердил третий. — Вот мы погорели. И, как вы думаете, куда нас поместили? Во дворец Агриппы. Там поселили пятьдесят семей, еще сотни в садах и в термах. Потом нам дали полный набор домашней утвари. Привезли из Остии… В повозках, на ослах, на баржах, полным-полно!
— И цена на зерно понизилась на три сестерция, — заметил цирюльник.
Я сидел, ожидая, пока он кончит опрыскивать духами человека, занимавшего кресло. Бездельники толковали о жене торговца чесноком, жившего через улицу. Внезапно я почувствовал сильную усталость и стал бороться с овладевавшей мною сонливостью. Но вот я сообразил, что цирюльник обращается ко мне, порывисто вскочил, наткнулся на выходящего из комнаты человека и опустился в кресло.
— …так мы и не нашли мяча, — говорил кто-то. Цирюльник повязал мне широкую салфетку вокруг шеи и поднял подбородок. Я ощутил паническое отвращение к его рукам. Руки. Салфетка — жертвенная повязка. Однажды в Кордубе в последний момент вырвался бык, опрокинул и растоптал одного представителя власти, и, когда двое мужчин, повисших у него на рогах, валили быка на землю, другие двое тянули его за задние ноги, а он храпел и мычал, предвещая недоброе, кто-то рядом со мной сказал: «Я тоже не стану умирать без боя». Но у меня руки висели как плети, я ощутил только ужас.
— Могу дать полотняную или муслиновую салфетку — за добавочную плату, — сказал цирюльник. Маленький человек с редкими длинными намасленными волосами, зачесанными через лысину. Я поглядел на себя в зеркало, и меня поразило смотревшее на меня оттуда темное, осунувшееся лицо с бегающими глазами. А ведь когда-то я немало гордился своим лицом, правильными чертами, четким очерком подбородка, широким прямым лбом и серо-голубыми глазами. Когда-то. А теперь передо мной было олицетворение поражения, безликий образ с неопределенными, кое-как выведенными чертами, словно на детском рисунке, только беспокойные, бегающие глаза были живыми, но они были не мои. Не мои. Я старался вспомнить, чьи они.
Я попросил цирюльника сделать мне горячий, компресс. В углу помощник стриг юношу, по временам он отступал на шаг, щелкая железными ножницами, и убеждал клиента сделать сплошную завивку. Цирюльник кончил править бритву на оселке, который, как я сразу узнал, был сделан в Испании. Он ловко на него поплевал, смочил мне лицо, нацелил бритву, сделал несколько пробных движений и начал скрести мой щетинистый подбородок. Бритье для меня было, как всегда, болезненным, и трижды показалась кровь. Когда он кончил, у меня болели порезы, но я чувствовал облегчение. Помощник убедил клиента сделать сплошную завивку и грел щипцы на очаге с горящими углями. Попробовав железо пальцем, чтобы убедиться, что оно не перегрето, он стал наворачивать на них волосы юноши. Цирюльник проворно натирал мне щеки, кремом и прикладывал тонкие полоски полотна к порезам. Я терпеть не могу мушки, но у меня не хватало энергии от них отказаться. Все же мне удалось избавиться от кассии и киннамона, которыми он хотел умастить мне волосы. Тогда он предложил мне средство для удаления волос. Я решительно его отклонил.
— Мои лучшие клиенты ценят его, — обиженно сказал цирюльник. — Я нахожу, что это самое лучшее средство, оно приготовлено из сока плюща, ослиного жира и козьей желчи. Неплохое средство делают и на белом вине. Пожалуй, нельзя рекомендовать мазь из камеди и древесной смолы. Она воняет, господин. Оставляет следы и причиняет боль. Может быть, тебе слегка смазать подмышки мазью из плюща? Многие женщины и не посмотрят на мужчину с волосами под мышками. Мои лучшие клиенты бредят этой мазью! Моя собственная жена не пустит меня к себе в постель, если я не выведу волосы под мышками.
— Я не выношу бритья, — сказал музыкант, извлекая несколько нот из лютни. — У меня сразу воспаляется кожа. Поэтому я пользуюсь щипчиками. Правда, это долгое дело, приходится выдергивать волосок за волоском, зато хватает надолго.
В разговор вмешались остальные. Вошел еще посетитель и спросил, нельзя ли побрить его без очереди, ибо он торопится на обед, который дает их цех.
По дороге к Башне я наткнулся на Феникса, который уже бежал туда. Ему удалось подыскать по соседству две недорогие комнаты. Повсюду стояли разрушенные дома и возводились новые. Кирпич, битый камень, штукатурка, сломанные балки и кучи реек. Я обратил внимание на тонкость стропил. В Кордубе принято пользоваться более толстым лесом, хотя там и не строят, как в Риме, высоких доходных домов. Немудрено, что здесь они постоянно рушатся. В переулке стоял деревенский фургон, застигнутый рассветом, он должен был оставаться здесь до наступления темноты. Неподалеку виднелась лавка, где продавалась оленина, на вывеске я прочел строки из «Энеиды»:
Знай, пока охраняют оленей туманные горы
И вкруг Полярной звезды вращаются сонмы созвездий, —
Имя твое не умрет и слава твоя не померкнет
[146].
Я вспомнил, как мы громко декламировали эти строки на охоте в родных горах, и счел это хорошим предзнаменованием.
Дом был темный и ветхий, предназначенный в скором времени к сносу, на лестничной клетке обычная вонь. Я поднялся на высоту девяноста ступеней. Наверху я оступился, и нога провалилась в дыру. В помещении мне пришлось согнуться. Циновка, ворох соломы, шаткая кровать, кувшин и старая жаровня — вот и вся обстановка. На окне недоставало ставни, оно было завешено шкурой.
— Неплохо, а? — спросил Феникс, заглядывая мне в глаза.
— Мы останемся здесь, — ответил я, и он повеселел.
Я приказал ему сесть на мой ящик и не шевелиться, а сам пошел в дом напротив, к канатному мастеру, который был надзирателем у субарендатора. Волосатый человек с крохотными свиными глазками. Я быстро с ним все уладил. Пока мы разговаривали, из-за его спины выглядывала дочь, играя своими косами, прячась за сплетенной из каната занавеской и делая мне знаки. Ее забавляли мушки у меня на лице. Когда я выходил, у ворот постучались двое стражников, хотя они и оттуда видели канатного мастера за прилавком. Сердце у меня упало, я прислонился к стене, глядя на закопченные стропила, на висевшие на крюках канаты и паутину, в которой запутался сухой листик. Но стражники только отругали надзирателя за обшарпанный фасад доходного дома. В мостовой недоставало плиток, зияла дыра пяди в три шириной, на куче отбросов валялась дохлая собака.
— Если все не будет приведено в порядок к завтрашнему утру, эдилы позовут подрядчика, и он все сделает за твой счет. Тебя уже предупреждали.
— Я всего лишь надзиратель по квартирной плате! — взревел канатный мастер. — Я не имею права тратить деньги на починку. Ищите Марка Фигула. Да и он только субарендатор. Над ним еще трое.
Спор об ответственности затянулся. Канатный мастер заметил, что эдилам придется назначить торги на аренду. Вдобавок ему должны были сделать предупреждение за десять дней. Да и плитки стащили только вчерашней ночью.
— Их уже полгода нет на месте!
Канатный мастер клялся, что еще накануне вечером плитки были целы. Их: стащили какие-то строители. Он провел стражников в заднюю комнату. Оттуда выбежала его дочь, прикрывая руками лицо и хихикая. Очутившись на улице, она остановилась, пригладила платье, оглянулась на меня и засеменила, вихляя бедрами. Вскоре вышли и стражники. Канатный мастер потрепал меня по плечу.
— Им нужно было получить закуску и выпить за мой счет. Вот уже год, как они не появлялись, жаловаться не приходится.
Школьники, крича и толкаясь, выбежали на обеденный перерыв из-под красного заплатанного навеса, в тени которого они учились. Одни ныряли в ворота домов и боковые улочки, другие забавлялись игрой с орехами и бросали мяч на улице. Меня снова охватила огромная радость. Словно рухнула преграда между мною и потоком жизни. Я чувствовал себя в относительной безопасности, я уже не был на свету. Стоя на пороге, я оглядел улицу и прочел надписи на стене. «Серина второе жилье комната первая полюбит хорошего человека цены низкие подымайся скорей». Тут же обычные высказывания: «Елена ненавидит Исидора», «Косая Лалага любит Марцелла», «Гамилл спятил с ума», и стихи:
Ты опоясана сотами дивного меда, Серина.
Нравом изменчива ты и щедро сыплешь деньгами
[147].
Вероятно, ей пришлось бесплатно принять поэта ради такого комплимента. Рядом были неразборчиво нацарапаны другие стихи:
Мне удалось в грозу овладеть юной Филлидой.
Милый шалаш, за приют воздаю тебе
благодарность!
[148]
Я поднялся наверх. Феникс мрачно сидел все там же на ящике.
— Можно подумать, что ты стережешь сокровища, — сказал я и стал искать глазами, куда бы спрятать деньги. Было легко приподнять половицы, но настил подними казался ненадежным. Штукатурка на передней стене обвалилась, и было легко вынуть кирпич. Но Феникс заявил, что именно в такой тайник вор полезет в первую очередь. С горя мы положили монеты в два старых башмака, найденных под кроватью, и затолкали их в самую глубину стенного шкафа. Чеки я смял и запихнул в свой кошелек, решив сдать их в банковскую контору, поддерживающую связь с Кордубой. Я с удивлением обнаружил, что обсуждаю все эти меры с Фениксом.
— Денек-другой мы отдохнем, а потом я начну хлопоты об отъезде на родину.
Я залез в постель с чувством, что все прекрасно устраивается. Но едва я очутился в темноте, как мир вокруг меня раскололся на куски и я канул в бездну терзаний. События дня представлялись в искаженном виде. Мне казалось, что все, в том числе и я, играли жалкую и фальшивую роль. В самом деле, мне некуда приткнуться, я выброшен из жизни, навсегда заклеймен и стая отщепенцем. Могу ли я жить в таком мире? Эта мысль сверлила мне мозг, и я погружался в пучину страхов. Найду я себе место или всегда буду чувствовать себя затравленным беглецом и все будет валиться у меня из рук? Со всех сторон грозили обманы, коварство, предательство. Оставался только страх, затаенная ненависть. Я отвергал мир, отвергавший меня. Погружаясь все глубже в пучину страхов, я с ужасом задавал себе все тот же вопрос: как можно жить в таком мире? Найду ли я какой-нибудь глухой и темный уголок, где я мог бы отдохнуть от всех этих мерзостей и каверз? Что станет со мной, ведь я слишком много знаю!
Несколько дней я ничего не предпринимал. Стоило мне усесться в нашей комнате или в погребке в доме напротив с намерением обдумать создавшееся положение, как я чувствовал, что в голове нет ни единой мысли. Тупая усталость, вихрь смутных страхов, порыв к бегству. Мне хотелось покинуть Рим. Но я не мог принять решения. Быть может, меня удерживало сознание, что я могу накликать новую опасность. Неужели теперь в любом месте я буду испытывать такие же муки и подавленность? Однажды я оставил дома кошелек без охраны. Я был так напуган, что решил пойти к банкирам. Больше ничего не оставалось делать. Я послал Феникса купить мне у старьевщика приличную тунику и легкий поношенный плащ. Но никак не мог решиться приобрести тогу. Я боялся тратить деньги и расходовал их понемногу на самое необходимое. Феникс не сумел бы выбрать подходящую тогу, а сам я не мог пойти в лавку. У меня было такое чувство, что, если я облачусь в тогу, все станут обращать на меня внимание. Ужасное внимание. Оно отравит мне мою и без того жалкую, скудную жизнь. Я разбранил Феникса за то, что он зря истратил несколько медяков. Оставаясь один, я пересчитывал монеты, сознавая, что только они обеспечивают мне безопасность.
Отправляясь к банкирам, я приоделся, но тоги у меня не было. Человек, с которым я встретился, младший компаньон, держался настороженно, обнаружил любопытство, страх и подозрительность. Он знал, что я сидел под арестом, но ни о чем не спрашивал. Я упомянул вскользь, что, будучи увлечен литературой, сделал ошибку и остановился в неподходящем доме. Нельзя же было совсем замолчать это обстоятельство. Передавая чеки, я сообразил, что контора тотчас же даст знать о них властям. Было ясно, откуда чеки, — на них стояла подпись домоправителя Поллы. Поэтому мне пришлось назвать ее имя и сказать, что она вернула мне долг. Что подумает Тигеллин? Но дело было сделано. Напустив на себя беззаботный вид, я заговорил об оливковом масле. О нем я был осведомлен несколько лучше, чем о меди, а контора была заинтересована во ввозе оливкового масла. Мне показалось, что собеседник почувствовал ко мне больше доверия. Я обещал снова его навестить и продолжить нашу беседу.
Едва я вышел, как почувствовал, каких усилий стоило мне это посещение. Я был весь в испарине. Руки у меня дрожали. Меня мучила мысль, что я обещал снова сюда заглянуть. В банкирской конторе таилась смутная, но серьезная угроза. Страх вконец подтачивал мою уверенность в себе, и я невольно спрашивал себя: что я здесь делаю? Каково мое место в мире? Как могу я жить, не имея ни одной точки соприкосновения с миром, где так прочно обосновались банкиры? Правда, я явился в контору не в тоге, но, в общем, неплохо справился с делом. Во время переговоров я решил купить тогу на обратном пути. Я даже убедил себя, что со временем справлюсь со страхом и прогоню гнетущее чувство. Но вот я вошел в погребок. Я чувствовал полное изнеможение. Пересчитав наличность, я пришел к выводу, что у меня не хватит денег на покупку тоги. Но, в сущности, я этого боялся. Какой-то человек открыл дверь и стал всех оглядывать, вероятно разыскивая дружка. Я оробел и снова подумал, что должен ходить в тоге, чтобы ко мне относились с уважением. Но, подойдя к лавке, где продавали тоги, я остановился. Куплю завтра.
Я ускорил шаги, и мне стало легче. Придя домой, я кликнул Феникса, и мы пошли с ним выпить. Теперь в его обществе я чувствовал себя лучше. И он привыкал сидеть рядом и беседовать со мной. Я обнаружил у него изрядный здравый смысл и проблески юмора, которых прежде не замечал, ибо у него не было случая обнаружить эти свойства. Я уже больше не обращался с ним, как с глупцом, и увидел, что он далеко не глупец. Когда мы выпили, ко мне вернулась уверенность, и я вспомнил о Цедиции. Я ничего не знал о ее судьбе. Я не решался никого расспрашивать о судебных процессах, но прислушивался к разговорам. Как-то раз один мужчина сказал при мне, что не может получить отданные взаймы деньги.
— На другой день я встал спозаранку, чтобы идти на игры… — Тут он запнулся, замолк и переменил тему разговора. Все лица стали замкнутыми, все глухо молчали. Я многое бы дал, чтобы знать, о чем все думали в эту тягостную минуту. Теперь мне казалось, что я вполне могу навестить Цедицию, как навестил Поллу. В голове я составил несколько писем, но не написал ни одного. Наконец очертя голову я послал Феникса купить поношенную тогу. Я тщательно оделся, причем с удивлением заметил, что разучился правильно укладывать складки.
— Я пойду один, — сказал я Фениксу. Он следил за мной с тревогой в глазах.
Вблизи Форума я остановился. Мне хотелось, как прежде, разглядывать прохожих с беззаботным равнодушием, как пристало знатному бездельнику. Но мои мысли возвращались к Цедиции, и я стал колебаться. Без сомнения, у меня был растерянный вид. Соглядатай Ватиний вынырнул из толпы и столкнулся со мной лицом к лицу, у него были пылающие щеки и толстый нос. Я хотел было улизнуть, но он схватил меня за руку.
— Где это я встречал тебя, друг? Куда ты спешишь?
Я ответил, что вижу его в первый раз. Возможно, он своим наметанным глазом приметил меня, когда я был с Луканом, возможно, его попросту подзадорила моя растерянность. Он не отпускал меня.
— А я уверен, что мы встречались. Да ну же, признавайся, нечего стыдиться знакомства со мной. Гораздо больше у тебя будет неприятностей, если ты сведешь знакомство с другими людьми. Может быть, у тебя уже были неприятности, а? Признавайся, друг, и я постараюсь тебе помочь. Только закоснелые упрямцы, которые не хотят ничего рассказывать, имеют основания бояться меня. Ну, выкладывай все, а то я и вправду могу подумать, что с тобой что-то неладно.
Мной овладел дикий страх. Я не знал, как выйти из положения. Я твердил, что он обознался. И все время чувствовал, что вот-вот выболтаю все, что меня тревожит.
— Я совсем не тот, за кого ты меня принимаешь!
— А за кого я тебя принимаю? — спросил он. — Скажи-ка мне. Скажи. Чего ты удираешь? Я страсть люблю разговаривать с такими остроумными людьми. — Он прижал меня к стене. Вокруг нас стал собираться народ. Зачем только я надел тогу! Мне захотелось убежать домой и снять ее. — Так за кого я тебя принимаю?
— За кого-то, кто совсем не я.
— Так ты уверен, что это не ты. Ну вот, мы у цели. — От него несло прогорклым вином и рыбным соусом, его налитые кровью глаза сверкали, как у помешанного. — Так если ты не тот малый, кто же ты такой? Скажи мне, и он будет наказан за то, что выдает себя за тебя.
— Я сам по себе, и нет никакого другого.
— Значит, ты и есть виновный, не так ли?
Я тоже решил прибегнуть к шутливому тону.
— Но ведь и я не знаю, ты ли это или кто другой. И все же я не пристаю к тебе с ножом к горлу.
— Я Ватиний! — воскликнул он, снова наседая на меня. — Меня всякий знает. Прежде я был сапожником.
Но в эту минуту он приметил в толпе знакомца, которого было интересней помучить, чем случайную жертву вроде меня. Он отпустил мою руку и ринулся к этому человеку. Я не стал ждать продолжения этой сцены. Втянул голову в плечи и заскользил вдоль стены. До меня донеслось насмешливое приветствие, произнесенное хриплым голосом.
Я пробежал несколько переулков в слепом ужасе. Казалось, дома рушились на меня, люди преследовали меня, а я метался, как обезумевшая тень. Выбившись из сил, я прислонился к приставленному к стене сломанному колесу, отдышался и постарался, успокоиться. Сердце у меня бешено колотилось. Я вошел в погребок. Там было сыро и тихо, хозяин был занят подсчетами и громко называл цифры. Внезапно почувствовав голод, я спросил чего-нибудь съестного.
— Только гороховый пирог, — сказал он, — закон строго запрещает нам подавать съестное. — Его жена, высокая, с красивыми волосами, пахнущая парным молоком, спустилась, наклонив голову, с низкого чердака над погребком и принесла гороховый пирог. Откуда она родом? Он ответил за нее, не поднимая глаз: — Из северной Галлии.
Она улыбнулась и прошла в глубину погребка. Заплакал младенец, и она стала убаюкивать его на незнакомом языке.
— Не говорит по-латыни, но мы понимаем друг друга. Достаточно хорошо. Разговаривать не так уж важно, как уверяют. — Он улыбнулся, все еще не поднимая головы.
Колыбельная песенка успокоила меня так же, как и ребенка. Не ходи к Цедиции. Чем меньше отношений с людьми, особенно с теми, кто связан с мрачным прошлым, тем лучше. Сердце мое все еще стучало, но уже не болело. Выйдя из погребка, я направился к Цедиции. Отголоски галльской песенки были слышны на улице, они как бы обволакивали ее успокоительной мелодией. Должно же быть на свете место, пусть бедное и глухое, где я смогу спокойно жить! Но где? Я никогда не был в доме Сцевина, но он был мне знаком. Мечтая о Цедиции, я частенько проходил мимо него. В этом старинном здании с редкими, высоко расположенными окнами ничто не напоминало о ней. Я решил не входить в дом, если увижу, что вокруг него бродят подозрительные типы. Лишь один человек лениво, зигзагами катил мимо дома тачку. Он дважды останавливался полизать ссадину на правой руке. Появилась парочка, молодые люди спорили, как ближе пройти, и повернули назад. Я медленно подошел к крыльцу. Человек с тачкой завернул за угол. Никого. Я постучал. Привратник удивленно поднял брови, увидев меня без слуг. Угол мозаики с надписью «Берегись собаки» был отбит, у рычащего волкодава оторвано левое ухо, в мраморной колонне зиял глубокий пролом, судя по блеску поврежденной поверхности, сделанный совсем недавно. Пошли докладывать обо мне. Меня провели в атрий, где также виднелись следы повреждений — царапины на штукатурке, разбитая статуя в нише. В изящной хрустальной вазе увядшие фиалки, на полу — липкие следы пролитого вина. В соседнем помещении бранились двое слуг. Обо мне забыли. Вошла рабыня с пыльной тряпкой, уставилась на меня и повернула обратно, почесывая зад. Она выкрикнула что-то резким голосом. Рабы прыснули со смеху. Игривый щенок бросился меня обнюхивать, повертелся у моих ног и ускакал прочь. Я задремал со смутным чувством, что надо заставить себя встать и уйти либо напомнить о своем присутствии.
Наконец появился раб и попросил меня следовать за ним. Он повел меня на женскую половину. У меня стеснилось дыхание, я не был уверен, что буду хорошо принят, но старался держаться спокойно. Раб привел меня в пустую комнату с дверью в сад. Там были только ложе и табурет, подушки, маленький бронзовый столик, на нем надкусанный кусок медовых сот, свиток и ручное зеркало со следами губной помады. На стене изображены Диана, застигнутая Актеоном, Баубо, показывающая свои чресла Церере, Прозерпина, уносимая в небо вверх ногами, Леда, возлегшая с лебедем. Две противоречивые темы — застигнутая врасплох скромность и откровенное бесстыдство, и мне подумалось, что это ключ к пониманию характера Цедиции. Мне почудилось у нее некоторое сходство с Дианой, и, размышляя об этом, я не услышал, как она вошла.
— Зачем ты пришел? — спросила она спокойным, но жестким тоном.
Я обернулся. Она ничуть не походила на Диану. Ее лицо было шире, чем я его себе представлял, рыхлее, грубее. Казалось, она плакала или пила. Теперь она напоминала Баубо, и меня подмывало обернуться и сравнить ее с изображением на фреске.
— Чтобы видеть тебя.
— А что, если я не захочу тебя видеть?
— Я уйду.
С минуту она молчала, не отводя от меня взгляда, потом жестом предложила мне сесть. Возможно, и я выглядел совсем не так, как она меня себе представляла.
— Какой ценой ты выпущен на свободу?
Я мог ответить ей только так, как ответил Полле:
— Я слишком ничтожен. Они и без меня получили все нужные сведения.
И она ответила, подобно Полле:
— Они еще не пресытились убийствами и никого не выпустят из своих сетей без веских оснований.
Я повторил свое жалкое объяснение: я не представлял для них интереса и не играл никакой роли. Почему бы властям не отпустить меня в Бетику, раз они знают, что я проучен и буду им благодарен? При всей моей незначительности моя казнь заставила бы предположить существование ответвлений заговора в провинциях. И все в таком духе. Я приводил все новые аргументы, в которые и сам не верил, а Цедиция даже не делала вида, что слушает меня. Она подошла к ложу, села и указала мне на табурет. Я опустился на него.
— Я приговорена к ссылке, — сказала она. — Завтра я уезжаю на Острова.
— Я этого не знал! — воскликнул я, пораженный. Мне хотелось спросить, высылают ли также Поллу, но я знал, что это рассердит Цедицию.
Она наклонилась ко мне, стола сползла у нее с левого плеча.
— Теперь ты это знаешь, мой верный любовник. Однако ты не торопился меня навестить.
Я был огорошен. Уж не хочет ли она, чтобы я поехал с ней? Если б я поехал, Тигеллин решил бы, что я гораздо теснее связан с заговорщиками, чем он предполагал. Меня будут судить, казнят или вышлют. И, конечно, не туда, куда отправляют Цедицию.
— Как это печально, — неуверенно произнес я. — Чем я могу тебе помочь?
Она недобро усмехнулась и сбросила одежду, оставшись в легкой рубашке и посеребренных сандалиях.
— Чем ты можешь помочь? — Она разорвала спереди рубашку и выступила из нее, словно ее тело само вырвалось из этой оболочки. — Что может сделать любовник, верный или лживый? — Она откинулась на спину. — Он стоил сотни таких, как ты, и я его любила, хотя ему и нравилось мучить меня. Разумеется, и я в отместку мучила его. Как ты думаешь, что за чувства я питаю к тебе, юнец из Испании? Я больше никогда не прижму его к себе.
— Так зачем же ты отдавалась мне? — спросил я с ненавистью, не в силах оторвать взгляд от ее крупного роскошного тела.
— «Так зачем же ты отдавалась мне?» — передразнила она меня. — Я не отдавалась, так же как и ты. Нам нужно было как-то провести время. Глупая причина. Глупая, как и сама жизнь. — Она вздохнула и закрыла глаза. — Что можешь ты сделать, хотела бы я знать. — Я обхватил ее руками, и она со вздохом откинулась навзничь. Она плакала, и отбивалась, и уступала так, как никогда не делала в комнате торговца посудой или в роще Анны Перенны. Ее поведение меня поразило, и я стал отвечать ей столь же неистово, проявляя необузданное, исполненное горечи желание. Род ненависти, отбросившей всякую сдержанность. Я обладал ее содрогающимся телом, словно это был сам Рим, который прельстил меня видением великолепия, могущества, а потом предал и довел до крушения, какого я никогда не потерпел бы в Кордубе. Обнимая ее, я вспомнил эпиграмму, вырвавшуюся у Катулла среди объятий и измен его Клодии:
Я ненавидя люблю. Как возможно? — ты спросишь. Не знаю.
Ясно мне лишь одно: истерзался я смертной тоской
[149].
Но в моей памяти томление сочеталось с восторгом, отвечая на мучительный вопрос, выраженный в первой строке. В этом мире я испытывал одновременно торжество и поражение, упоение местью и радость любви и при всем антагонизме — некое приятие, которое было сильней антагонизма. Я чувствовал Цедицию как самого себя, знал, что она также все потеряла, сломлена, лишена всякой надежды, изгнана из общества. Мое сочувствие было глубже ненависти.
Она лежала тихо. Возле нее притих и я, подавленный раздирающими меня противоречивыми чувствами, ошеломленный, почти ничего не соображая. Вдруг она резко вскочила, едва не столкнув меня на пол, и хлопнула в ладоши. Из сада вбежали трое темнокожих рабов, схватили меня и вытащили наружу. Они швырнули меня на траву, порвали на мне одежду, стали колотить и пинать меня ногами. Чувствовалось, какое удовольствие им доставляет безнаказанно избивать одного из господ. Мне хотелось убежать, но я не в силах был защищаться. Наконец они меня подхватили, протащили к задней калитке и выбросили на улицу.
Я лежал в полузабытье на мостовой. Постепенно я стал сознавать, где нахожусь и что со мной произошло. Услыхав шум приближающихся шагов, я с трудом поднялся на ноги. На мне не было живого места. Ковыляя, я добрел до конца переулка. Раб, тащивший корзину с овощами, подозрительно покосился на меня, вероятно решив, что я пьян. Я постоял, отряхнул и разгладил свою испачканную тогу, уложил складки так, чтобы скрыть самые большие прорехи. После этого решился выйти на улицу. В голове была одна мысль — добраться до своей комнаты. Я был измучен, весь в синяках, кружилась разбитая голова. Мне не терпелось лечь, забыть обо всем на свете и размышлять. Размышлять впервые в жизни. Несмотря на цолубредовое состояние, я не мог отделаться от преследовавших меня страхов. Разве можно жить в этом мире после всего, что мне довелось узнать? Как наладить отношения с властями, управляющими этим миром, как обрести покой, когда на каждом шагу западни? Что ожидает меня впереди? Я брел, пошатываясь как пьяный. Отчасти меня даже одушевляло сознание, что все закончилось посрамлением и поражением.
Впервые со времени арестов я оглянулся назад, стал вдумываться в смысл заговора и оценивать свои отношения с Луканом. Я больше не стремился к безопасности, я хотел только понять, чтобы не сойти с ума. До сих пор мною владело сознание, что я чудом спасся. Приходилось приспосабливаться к жизни, и я старался не привлекать к себе внимания на улице. Хотелось только смотреть на народ и на все окружающее. Чувствовать себя частью этого огромного целого, затеряться в толпе, не имея своего лица. Сейчас я должен был снова оторваться от массы, заглянуть в свою душу, осознать значение обретенной мною свободы и вдуматься в смысл попытки завоевать иную свободу. Я лежал на постели, равнодушный ко всему, не обращая внимания на встревоженного Феникса. Долгие часы я только и делал, что разглядывал трещины и пятна на потолке, они сливались у меня в глазах, и возникали различные образы. Животных или людей. Образы полубогов, не связанные с окружающим, четкие геометрические фигуры или вихревые спирали, затаившие в центре небытие. И когда я потерял надежду собрать мысли и уразуметь ускользающий от меня смысл, я воспарил в высоту и внезапно пришло желаемое озарение. Но я не выдержал открывшегося мне зрелища. Неужели в человеческой жизни нет ничего, кроме ненадежных семейных уз, сложного переплетения лжи, предательства, обмана, денежных расчетов и насилия? Сколько бы я ни боролся, мне не найти в мире место, где я мог бы оставаться в покое. Где я мог бы, не вызывая презрительных окриков, сказать: «Это хорошо, это правда, это человечно». Под покровом законности и мнимой гармонии коммерческих интересов, установленных обычаев, не позволяющих людям перегрызать друг другу глотку, под личиной учтивости и терпимости я видел лишь бездну жадности, ненасытные вожделения, слепую алчность. Хваленая система сдерживающих мер, называемая нами цивилизацией, была бессильна обуздать темные стихийные силы.
Что же в таком случае представлял собой наш протест и заговор? Углубляясь в его причины и цели, я убеждался, что одна разновидность алчности и тирании хотела сменить другую. И все же в заговоре было и ничто другое — окрыленный порыв к братству, смелый вызов. Иные из нас поднимались выше соображений алчности и жажды власти. Что же, в конечном итоге, было реально? Замена одной системы угнетения другой или братское единение, отрицающее развращенную власть? Я не находил ответа. Мне не удавалось синтезировать эти два аспекта или представить себе, что они могут существовать в одном мире. Я испытывал некоторое успокоение, думая о Сильване и о Музонии. Для Сильвана сенаторы, находившиеся в оппозиции к Нерону, и сам Нерон были равно врагами. Он мечтал о свободном поприще политической деятельности, как во времена Республики, но лишь при условии, что станет невозможной тирания, якобы одна способная обеспечить порядок и мир. Казалось, он не совсем ясно представлял себе новую форму государственной жизни. Если я не ошибаюсь, он рассуждал примерно так: продолжайте борьбу, когда-нибудь вам удастся воплотить в жизнь форму правления, о которой сейчас мы не имеем представления, или же она является для нас идеалом, не осуществимым в нашем раздробленном мире. Братство и Власть должны слиться воедино. Пока между ними существует хоть малейшая трещина, дело не пойдет на лад. В сущности говоря, это означает исчезновение Власти. Останутся только божественные силы вселенной, проявляющиеся в человеке и в природе. Так стоики Паконий и Музоний пришли к вере в человека, пребывающего в живом общении со вселенной, к вере в неослабный жизненный порыв всех существ. В целостную природу человека, которая должна быть освобождена от сковывающих ее форм и сил. В братство всех людей как средство выявления целостной природы каждого в отдельности. Взятые вместе, идеи республиканцев и стоиков восполняли друг друга, ибо у одних было то, чего недоставало другим.
Я рассматривал пятна и разводы на потолке. Свирепые, насмешливые рожи, крутящиеся вихри, взлеты морских волн, языки огня то хаотически смешивались, то вновь выступали. Скала, дерево, символ земли. Сцевин, уносимый порывом ветра; Стоик, величаво плывущий в волнах океана, несущих обновление; Лукан, мрачный и пылкий, как все преобразующий огонь; Сильван, устойчивый, как терпеливая земля, хранительница всех форм, от которой они отделяются и в которую вновь возвращаются. Возникали вихревые спирали, ‘разрывались, возобновлялись, вздымались ввысь, изменялись, застывали. И сквозь все метаморфозы проглядывало лицо Человека, оно раскалывалось и вновь восстанавливалось, осиянное величием и славой.
Эти образы проносились перед моим внутренним взором. Но вот все рассыпалось в прах. Ничто во внешнем мире не соответствовало моему представлению о торжестве человека. Я впал в беспросветное отчаяние. Блеснув на мгновение, идеи меркли и рассыпались. Мысли обжигали меня и кружились в тяжком сумбуре. Но когда разум мой прояснялся, я терял всякую связь с верховным единством, к которому рвался. Хаос вновь грозил меня поглотить. Я делал отчаянные усилия осознать его и облечь в формы. Мне вновь удалось достигнуть ясности, но все богатство живой жизни ускользнуло сквозь жесткие сети, сплетенные мыслью. Рассеченная до самого корня жизнь стремилась восстановить свою целостность.
Совершенно невозможно было обрести смысл вне четко очерченных границ, которые заключали в себе все наши повседневные рассуждения, условности, предпосылки, договоры, равноправные отношения и узаконенные сделки. Именно в этих пределах можно было чувствовать себя в безопасности и, работая вместе с другими людьми, найти свое место в мире. Этого мне больше всего хотелось. Найти свое место в мире. Но как только я пытался войти в необходимые грани, я чувствовал, что задыхаюсь, что я поруган, обманут и сам обманщик.
Все это время я ничего не ел, лишь изредка выпивал несколько глотков молока. Феникс сидел у моего изголовья с печальным видом, как никогда взъерошенный. Чтобы меня развлечь, он собирал сплетни в доме и на улице. Он надеялся отогнать от меня злых духов рассказами о нелепостях и бессмысленных случайностях, какими изобилует повседневность. Но его слова скользили мимо моего сознания. Лишь иногда до меня долетал обрывок фразы, имевший какое-то отношение к занимавшим меня мыслям, и я воспринимал его как некое предзнаменование, как послание из далекого мира, к которому я устремлялся. «Яйцо, но оно не было разбито… поднялся по лестнице, но залез не в то окно… печать с изображением сирены… негр с вавилонской волынкой…» Космическое яйцо, из которого вышел Эрос. В какие бы высокие сферы мысли мы ни поднимались, мы никогда не обретем непосредственной связи с внешним миром. Мне казалось, что я отмечен печатью священного братства, но Цедиция напустила на меня своих злобных рабов. Рубежи мира взорваны, мы утратили былую гармонию, не обрели новой и барахтаемся в невообразимом хаосе.
Феникс жег под моей кроватью серу и, без сомнения, еще что-то проделывал, чтобы отогнать от меня злые чары, но я этого не замечал. Он заработал несколько медяков, продавая помаду и приворотное зелье фригийского цирюльника, который, помимо своей профессии, торговал любовными напитками и средствами для выкидыша. Я говорил ему, что в этом нет надобности, но он был уверен, что мы впали в крайнюю нужду. Иначе зачем жить в такой скудости? Он плохо себе представлял, в каком положении я очутился, выйдя из-под ареста, но также испытывал смутную тревогу. И он охотно исполнял различные поручения и зарабатывал нам на хлеб. Я ни во что не вмешивался. Правда, мы жили весьма бедно. Тога, которую я надел только один раз, была вся изорвана, испачкана, и ее не надел бы даже самый жалкий клиент. Я не собирался покупать новую. Ведь в этой тоге меня угораздило попасть к Ватинию и к Цедиции.
Внезапно я вскочил с кровати. Мной овладело такое отчаяние, что я осознал полную невозможность жить. Отойдя от кровати, я выглянул из окна и почувствовал искушение быстро и разом положить всему конец. Явь оказалась мучительней снов. В доме напротив кто-то пел.
Я выглянул в окно. В полумраке двигалась молодая женщина. Ее обнаженное тело мерцало, отражая рассеянные лучи. Она двигалась в мягком сиянии, излучаемом ее телом. Она взяла на руки ребенка и стала кормить его грудью. Когда она нагнулась и исчезла из виду, я стал одеваться и хриплым голосом попросил Феникса дать мне поесть. Женщина в доме напротив и не подозревала, что она приложила к своей груди вместе со своим ребенком умирающего человека и вдохнула в него новую жизнь.
И все же я не мог избавиться от смертельной тревоги, которая вновь меня охватила, едва я перестал заниматься житейскими мелочами и заглянул внутрь себя. В бездну страха и в леденящий мрак. Потеряна всякая надежда на радости жизни и дружбу. Впредь никакой самообман не принесет мне покой и забвение ужасов, таящихся в каждой тени. Я страшился сна, момента, когда ломаются хрупкие узы обманчивого дня и становишься беззащитным. Снова сверлила мне мозг навязчивая мысль: как найти себе место в этом мире? Какой смысл убегать от страхов, прочно угнездившихся в моем теле и в душе? После всего, что я узнал, разве можно принять мир с его коварством и смиренно пред ним склониться?
Мы питались самой дешевой едой. Уксус и черный хлеб, фасоль и чечевица, лук и горох, чеснок и речная рыбешка. Изредка Феникс покупал на срои гроши копченую свиную голову. Рядом с нами жил человек, который зарабатывал себе на хлеб, подвизаясь как клакер на публичных чтениях и в судах. Он посулил Фениксу захватить его с собой на представление, когда потребуется особенно громкий беспорядочный шум. Под нами жил человек, державший в горшках соней и откармливавший их орехами и желудями; он сбывал их гастрономам, и те ели их с медом и маком. В нижнем этаже аукционер лупил свою болезненную жену в комнатах, до отказа набитых мебелью. Он покупал мебель на аукционах через подставное лицо при распродажах имущества банкротов и умерших. Рядом с грузчиком на втором этаже проживал агент по взысканию долгов, получавший один процент с собранной им суммы. Занятие, что и говорить, малодоходное. Ходили слухи, что он дополнительно промышляет сбытом краденого. Комнату Серины теперь занимала Ирида, представительница той же профессии. Приходившие к Серине клиенты, попадая к ее преемнице, не испытывали разочарования. По ухмылкам Феникса я догадывался, что кое-что из заработанных им медяков перепадало Ириде. В полуподвале жил сонный продавец жаровень, в пристройке — водонос, отец восьмерых детей. Я заметил, что Феникс смотрит на него свысока, как на жалкого, презренного нищего.
Я снова начал бродить по городу, одетый в грубую тунику. Меня привлекал вечерний Рим с его мерцающими огнями, с мимолетным шумом шагов, с криками гуляк и шепотом уличных девок, покинувших свои ложа в погребах и на кладбищах, с неслышно подкрадывающимися стражниками и стуком колес обозов, едва различимых в потемках. Я встречал нищих, которые ночевали под мостами и акведуками со своими чесоточными псами, накрывшись обрывками мешковины или циновок, питаясь заплесневелым хлебом, выпрошенным в пекарнях. Я заговаривал с ними, но ничего от них не добился, узнал только, что они потеряли всякую надежду. Тут можно было наблюдать проявления и замечательного благородства и крайней подлости. Один из бедняков умер от холода и недоедания, отдав последний медяк, чтобы накормить ребенка. Другой выдал городской страже друга, который украл, чтобы ему помочь. Я чувствовал в своей душе неизмеримую пустоту, но не знал, как ее заполнить. Раза два я чуть не пошел к Ириде, маленькому созданию с копной курчавых волос. Но в последнюю минуту меня удержало невыразимое отвращение. Боязнь ощутить после встречи с ней полную опустошенность. Боязнь убедиться, что поступок Цедиции окончательно меня надломил.
Однажды, очутившись вблизи дома, где я встречался с Музонием, я внезапно испытал прилив мужества и вошел. Сад имел запущенный и зловещий вид. Я хотел было уйти, когда появился старый садовник. Он сообщил мне, что Музоний сослан. В тот же день в Пропилеях, где были поставлены новые статуи — из тех, что посланцы Нерона награбили в Греции, — я заметил дощечку, висевшую на шее статуи Аполлона. Я остановился и прочел:
Вечный Город вознес к небу чертоги и храмы.
Но земля затряслась — и гордые пали колонны.
Где же теперь красота навеки воздвигнутых зданий?
Римляне, ведома вам разрушений этих причина?
Страшный Подземный Гром…
[150]
В эту минуту я увидел человека, приближавшегося ко мне, он согнулся и стремглав пробежал мимо статуи. Меня тоже охватил страх. Я осмотрелся, нет ли поблизости соглядатаев, и поспешил прочь. У себя в комнате с замиранием сердца ждал, что вот-вот раздастся резкий стук в дверь. Но ничего не произошло. Я взял список Персия, который принес из дома Лукана, то был не мой испачканный свиток, но рукопись с поправками и примечаниями, сделанными самим поэтом. Мне не было совестно, что я присвоил свиток, ибо Лукана уже не было в живых. Одно примечание мне запомнилось, и я часто развертывал свиток и перечитывал его. Оно обретало особую значительность оттого, что было написано рукой поэта. Мне непосредственно передавались утонченные мысли и чувства творца, вызвавшие эту запись. «Почему я пишу поэмы? Потому, что жизнь моя недостаточно чиста». В этом была правда, но я не мог целиком ее принять, ибо она Вела к возвышенным и бесплодным аксиомам Пакония и к самоубийству Сенеки. Я считал, что в поэзии должен звучать человеческий голос, каким порой говорил Сильван, а также Лукан и Паконий. Я пробовал написать поэму. Но мне приходили в голову лишь отрывочные фразы, порой выразительные, не лишенные силы в противоположность моим прежним стихам, но не связанные между собой. Несколько раз я собирался пойти к Марциалу; Я по-прежнему опасался ему повредить, но главным образом меня удерживало сознание, что мне будет не по душе его беззаботный пессимизм, его спокойное критическое приятие повседневной жизни, его нежелание мысленно подняться над действительностью и охватить жизнь обобщающим взглядом.
Однажды утром я услышал, что начались игры. К нам заглянул клакер и спросил, собираюсь ли я на них. Не желая обнаруживать своей неосведомленности, я ответил, что пойду. Потом мне подумалось, что ему покажется странным, если я не пойду. До меня смутно дошли его слова о том, что игры связаны с празднествами в честь спасения Нерона и должны в какой-то мере вознаградить римлян за несостоявшиеся Цереалии. Тем более следовало пойти. Накануне вечером Феникс рассказывал о гладиаторах, но я пропустил его слова мимо ушей. Когда он спросил, пойду ли я, я рассеянно ответил: «Нет», — даже не вслушавшись в его болтовню. Он встал очень рано и попросил разрешения провести день с помощником столяра, уроженцем Вифинии Лупом, с которым он подружился. Как только клакер удалился, весело насвистывая, я собрался с духом, привел себя в порядок, надел самую лучшую и самую чистую тунику и направился к Цирку.
По дороге я почувствовал известное любопытство. Приближаясь к Риму, я мечтал о грандиозных зрелищах, которые стал бы вспоминать до конца дней в Бетике. Но потом я заинтересовался совсем другим. Сейчас мною двигало нечто более серьезное, чем любопытство, в основном, пожалуй, страх. По мере того как я приближался к Амфитеатру, моя тревога все возрастала, ляс трудом передвигал ноги. Казалось, меня подгоняла неведомая сила, и я шагал против волн. День был жаркий. Игры уже начались, и я с трудом нашел место. Пришлось подкупить служителя. Сперва он покачал головой. Я сунул ему еще монету. Он опять отказался. После третьей монеты он кивнул. Кому-то стало дурно. Служитель втолкнул меня на освободившееся место, грозно покрикивая на окружающих, я втиснулся в плотный ряд зрителей; жгучие лучи пробивались сквозь прореху в навесе от солнца и падали на меня. Кого-то возле меня рвало, и служители со щетками в руках нехотя убирали. Песок на арене уже был запачкан кровью, и над ним носились рои мух.
Лев рычал и угрюмо пятился назад, а его подгоняли люди, размахивая ременными кнутами с глиняными шариками на концах. Толпа заревела, разозлившись на упирающегося льва. Чтобы выгнать льва на арену, вооруженные люди стали колоть его копьями. Наконец он вышел и грозно поднял огромную голову, обрамленную гривой. Зверь начал, поворачиваясь в разные стороны, оглядывать ярусы Амфитеатра, где сидели десятки тысяч громко кричащих мужчин и женщин. Он рычал и ревел, потом повернулся назад и бросился на размахивающих копьями людей. Наскочив на копья, он упал мертвый. Толпа снова взвыла. Я почувствовал жалость к льву, которого привели в ужас мириады безумных глаз. Его труп уволокли за хвост.
Чтобы развлечь толпу, на арену выпустили стадо оленей, их гнали высокие смуглые обнаженные женщины в набедренниках с кисточками и в котурнах. За ними вышла группа мужчин с ирландскими псами. Охотники поднялись на башню, накануне обсаженную со всех сторон деревьями, и стали оттуда стрелять в оленей из луков, а другие поражали их копьями, мечами и кинжалами. Началась бойня, и потоки крови умилостивили зрителей. Особенно рукоплескали быстроногому охотнику, который убил несколько оленей и колол животных, когда они в ужасе описывали круги и метались по арене. Затем выпустили медведя и буйвола. Начался длительный яростный поединок на сцене, усеянной телами мертвых и издыхающих оленей, а в это время женщины на помосте кувыркались и ходили на руках. Кровь стучала у меня в висках, я чувствовал смутный протест, но мысли мои замерли. Я испытывал резкую боль при каждом ударе, который наносили друг другу обезумевшие животные. Глашатай возвещал о каждой ране громкими звуками трубы. Когда буйвол вонзал рога в медведя, я испытывал ужасную боль в боку. Когда медведь терзал когтями буйвола, мне казалось, что кровь течет у меня по лицу. Все же я смотрел, словно некий бог повелел мне не отрывать глаз от кровавого зрелища. Буйвол издох, голова у него была наполовину оторвана. Два человека устремились на медведя, один держал факел и копье, а другой размахивал мечом, обмотав руку плащом. Медведь, пошатываясь, двинулся им навстречу. Они легко могли прикончить издыхающего зверя, но не спешили нанести решительный удар и травили его, чтобы потешить зрителей и создать видимость опасности. Факельщик подошел совсем близко к медведю и стал тыкать в него пламенем, зверь упал навзничь, потом, собрав последние силы, откатился в сторону, поднялся на ноги и, взмахнув лапой, вцепился человеку когтями в плечо. Тот упал и выронил факел, зашипевший в песке, а медведь навалился на него. Другой человек подбежал и пронзил мечом горло медведю. Между тем женщины проделывали свои акробатические упражнения.
Я был измучен, обмяк, как мешок с костями, но все же внимательно смотрел на арену, словно исполняя чей-то приказ. У меня оставались живыми одни глаза. Вокруг меня зрители обсуждали образ действий факельщика и копьеносца. Говорили, что копьеносец наказан по заслугам, ибо в критический момент подался не влево, а вправо, но многое пролетало мимо моих ушей. Я испытывал лютую ненависть к этому народу. Мне снова почудилось, что меня бросили на арену и я отождествился с охотником и с затравленным зверем.
Радостные возгласы приветствовали двух обнаженных людей, которых ввели и привязали к столбам. Из слов соседей я понял, что это были приговоренные к смерти разбойники. Зрителям дали время погадать, какая уготована им участь. По толпе прокатился нетерпеливый ропот. Один из разбойников с гневным лицом стоял, выпрямившись во весь рост, другой кричал, извиваясь и пытаясь вырваться из пут. Служитель хотел заткнуть ему рот кляпом, но публика запротестовала. Вскоре на арену выпустили четырех львов. Сперва, ошеломленные шумом и движением в Амфитеатре, звери застыли на месте, озираясь и ударяя себя хвостом по бокам. Но вот львица заметила людей у столбов и крадучись направилась к ним. Она обнюхала того, кто был привязан поближе к ней, издала жалобный крик. Вслед за ней подошли и другие львы. Внезапно она ударила приговоренного лапой, и когти ее завязли в веревках. Несчастный пронзительно вскрикнул. Львица прыгнула на него и, встав на задние лапы, впилась зубами ему в лицо. Толпа разразилась радостным криком, Люди рукоплескали, вскакивали с мест и махали руками, приветствуя львицу. Ее примеру последовали остальные львы и с громким рычанием растерзали обоих. Мне хотелось, чтобы один из зверей прыгнул через барьер на зрителей, но железная решетка была высока, а верхняя перекладина вращалась и на нее нельзя было опереться.
Затем на арену вывели женщину, связанную длинной веревкой с медведем. Она неловко порывалась убежать и под конец растянулась ничком на песке, чем вызвала всеобщий хохот. Медведь поймал ее и вспорол ей живот. Двое мужчин, сидевших передо мной, выразили сожаление, что из ее чрева не появился на белый свет младенец. Они с досадой вспоминали, что в прошлом году произошел такой случай. Пока медведь обнюхивал свою жертву, на арену выпустили еще двух женщин со связанными ногами. За ними понеслась пантера и настигла их. После них привели мужчину и женщину, обнаженных и связанных, как в объятии, и отдали их на растерзание целой дюжине пантер. А с башни спустили еще женщину, подвесив ее на некотором расстоянии от земли, так, чтобы пантеры, прыгая, могли ее достать, вскоре они оторвали ей ногу, и у женщины вывалились внутренности.
Гвоздем программы оказалась сцена, героем которой был Орфей. Опустились занавеси, закрывавшие со всех сторон горку, сооруженную в середине арены. На вершине горки стоял Орфей — привязанный к столбу приговоренный раб, к его рукам была прикреплена лира. Вокруг него виднелись кусты и небольшие пещеры, откуда появлялись хищные звери. Спрятанные в гроте музыканты играли на лирах, и создавалось впечатление, будто эту бурную мелодию исполняет Орфей. Звери медленно приближались, принюхиваясь и рыча. Первым прыгнул на Орфея тигр, вслед за ним другие. Божественный певец исчез под грудой ревущих хищников. Мои соседи одобрили представление, хотя уверяли, что в прошлом году было интереснее: на глазах у всех распинали человека, а Икар с крыльями за плечами, спрыгнувший с высокой башни, разбился насмерть. Какой-то старик припомнил сцену, где Прометея проткнули насквозь колом.
Вновь поднялись занавеси. Во время перерыва служители загнали зверей в подземный зверинец при помощи крючьев, копий и факелов, вынесли растерзанные тела и засыпали лужи крови, разбросав поверх серебристый песок, ярко сверкавший на солнце.
Наступил полдень, и многие покидали Цирк. Более предусмотрительные запаслись хлебом и сыром, колбасой, луком, маслинами и пирогами. Вокруг меня закусывали, выплевывая косточки, разбрасывая корки и кожуру от колбасы, обсуждая утреннее представление, обмениваясь мнением о гладиаторах, которые должны были выступать после перерыва, бились об заклад. Я сидел оглушенный и немой, все мое тело ныло. Начало послеобеденной бойни возвестили хриплые звуки труб и рогов.
То были заурядные схватки, неуклюжие убийства, сражались неловкие, неопытные гладиаторы. Сперва вышли на арену мечники и невооруженные бойцы. Мечник опрокинул и убил соперника, но тотчас был обезоружен и убит другим. Веселый хохот вызывали нелепые уловки безоружных людей, которые бегали, прыгали, увертывались, напрасно стараясь обмануть врага, нырнуть под меч, бросить песок в глаза преследователю. Пережевывая краюшки хлеба и запивая их глотками из фляг, зрители прыскали со смеху или свистели. Когда это представление надоело, на окровавленную арену выпустили сотню новичков гладиаторов, за каждым их шагом следили копьеносцы и временами кололи между лопатками трусливого бойца, вызвавшего негодование зрителей. Гладиаторы рубились тупыми мечами. Их неумелость вызывала насмешки и свист, им давали презрительные советы.Другие зрители покатывались со смеху, глядя, как люди лезут из кожи, стараясь убить противника. Иной раз бойцы, столкнувшись, падали на землю и дергали ногами, пока нм так же неуклюже перерезали глотку. Порой под гиканье толпы они гонялись друг за другом вокруг арены. Иные яростно, но неумело скрещивали мечи, и один из них, промахнувшись, падал ничком. Одному гладиатору противник разрубил пополам свинцовый меч железным мечом. Все захлебывались от хохота — такой у него был удивленный вид, но он тут же пал, пронзенный в грудь.
Убивали вяло и неловко, но мертвых становилось все больше. Вскоре осталось в живых не более дюжины, те, у которых были покрепче мышцы и более ловкие руки. Они устало ходили по кругу, подстрекаемые бранью и поощрением зрителей. Потом и эти стали по одному падать. Широкоплечий мускулистый парень заслужил одобрение Зрителей. Он убил не меньше двенадцати человек. Кто-то назвал его Титом, и теперь со всех сторон неслись крики: «Валяй, Тит, приканчивай их! Стукни их лбами, Тит!» Взвыли от восторга, когда он поразил противника в глотку. Теперь остались только трое, они тяжело, дышали, следя друг за другом, толпа подгоняла их: убивайте же друг друга, вы задерживаете представление! Они медленно кружились по арене. Один из них споткнулся о труп, и Тит живо его прикончил. Теперь он остался один на один с маленьким ловким бойцом. Возбуждение росло, снова бились об заклад. Но когда противники стали снова кружить друг возле друга, раздались негодующие крики, требовали, чтобы они сошлись врукопашную. Маленький боец схватил меч, выроненный одним из убитых, метнул его в Тита и наскочил на него. Тит отпрянул в сторону, но не успел увернуться, противник схватил его, ударил в бедро, потом в шею. Тит рухнул наземь, и победитель, наступив ему на горло ногой, всадил меч в сердце. Зрители повскакивали с мест и приветствовали криками и рукоплесканием маленького бойца, тот раскланялся и ушел — единственный оставшийся в живых. Служители с крюками в руках уже убирали трупы, приканчивали раненых, засыпали песком ржавые пятна. В раскаленном воздухе стоял запах крови.
Я сидел в полузабытье, еле живой от усталости. Жара ползала по мне, как мириады насекомых. Кто-то угостил меня куском сыра, и я долго его жевал. Трудно было проглотить. Челюсти продолжали механически жевать. Меня вывели из дремоты звуки труб, и я увидел гладиаторов, которые выступали в военном строю, одетые в пурпурные, расшитые золотом хламиды, они ступали твердо, четко и в то же время слегка небрежно, размахивая руками. За ними шли оруженосцы. Гладиаторы остановились перед раззолоченной ложей, в которой, как я теперь сообразил, находился Нерон. Видеть его я не мог. Подняв правую руку, они крикнули: «Идущие на смерть приветствуют тебя!» Затем они обошли всю арену и остановились у входа. Было осмотрено их оружие, и признанное недостаточно острым и смертоубийственным отбрасывалось. Одобренное оружие раздали, затем стали тянуть жребий, кому с кем сражаться. Одни должны были сражаться на разном оружии, другие — на одинаковом. Общий интерес вызвал предстоящий поединок между негром и германцем. В короткой показательной схватке гладиаторы размяли мышцы, и зрители могли судить, в какой они форме и чего от кого ждать.
— Помнишь игры, на которых сражались мечами с лезвиями из янтаря? — спросил кто-то позади меня.
Заиграли флейты, трубы, рога и водяной орган. Вокруг меня зрители, сбившись кучками, спорили о преимуществах малых и больших щитов, заглядывали в справочники, купленные за стенами Цирка у барышников, называли прежние рекорды гладиаторов, имена тренеров, виды оружия. Сквозь густой и хриплый рев толпы прорывались визгливые голоса сверх меры возбужденных женщин.
По знаку императора раздались резкие звуки труб, возвещая начало боев. Я закрыл глаза. Затем с трудом открыл их, словно кто-то надавил мне на веки. Ретиарий с сеткой и трезубцем подходил к гладиатору в полном вооружении, с большим щитом и в шлеме с забралом. Трубы и рога взревели с каким-то диким торжеством. Из тысяч грудей вырвался оглушительный вопль. Возле сражающихся стоял надсмотрщик с бичом, следивший за тем, чтобы бойцы дрались напористо и по-настоящему. Он непрестанно хлестал то одного, то другого, покрикивая: «Ударь его, убей его, дай ему!» Ретиария, носившегося слишком далеко от противника, он так стеганул бичом, что у того на спине вздулся рубец. Ретиарий, получив удар, сделал прыжок и промахнулся, но успел вовремя схватить сеть. Они продолжали делать ложные выпады. Зрители стали выражать недовольство. Но вот гладиатор с мечом споткнулся, и ретиарий накрыл его сетью. Стоя над поверженным врагом, он нацелил трезубец ему в горло.
Зрители вскочили с мест с криками: «Он заслужил этого, он заслужил!» Подбежали служители в одежде Харона. Старший ударил упавшего по голове деревянным молотом, приобщая его к миру умерших, и дал знак носильщикам вынести труп. Другие хароны перекопали окровавленный песок и выровняли его. Победителю поднесли серебряную чащу, наполненную золотыми монетами. Он обежал вокруг арены под рукоплескания мужчин и приветствия женщин, махавших платками. Вышла следующая пара. Запах горячей крови снова обдал меня, от жары звенело в ушах и перед глазами мелькали мухи, голову сдавил железный обруч. Медленно, как набегающая волна страха или как прилив неодолимого желания, меня накрыла тьма.
Не знаю, скоро ли я пришел в себя. Но я не в силах был подняться и уйти. Я смутно различал происходящее на арене. Беспорядочный стук мечей и мелькание людей, отрывистые звуки труб и рогов, то усиливающийся, то затихающий рев озверевших людей, рев, вырывающийся из ненасытной утробы. Вероятно, я не уходил из страха привлечь к себе внимание. Толпа поглядела бы на меня, как смотрела на льва, бросившегося на копья. Моя душевная усталость обернулась нестерпимой болью, каким-то бредом, мысли путались, я не мог остановиться ни на одном образе, отличить одну боль от другой, при этом я испытывал мучительное угнетение, беспокойство и напряженность во всем теле и тщетно старался проснуться и стряхнуть с себя это наваждение.
Но вот все кончилось, и зрители поднялись с лавок, весело болтая, подсчитывая выигрыши и проигрыши, восхваляя и понося гладиаторов. Под ликующие звуки труб удалился император, и ему вдогонку неслись бурные похвалы. Я потихоньку двигался в потоке выходящих, сначала по проходу, потом по ступеням лестницы и через вестибул. На улице уже не было такой давки. Я прислонился к колонне, собираясь с силами. Внезапно мелькнуло знакомое лицо, лицо, при виде которого я сразу оживился, смуглое костлявое лицо со спутанной бородой и на редкость скорбными глазами. Лицо последователя Христа, проповедника, которого я встретил в винном погребе. Я мигом обрел энергию и бросился его догонять. Дважды я терял его в толпе и вновь находил, пока он не свернул в узкий переулок. Расталкивая прохожих, я побежал за ним. Он слышал, что за ним гонятся, но не пытался убежать, а опустился на землю, прислонившись спиной к стене. Когда я остановился перед ним, он поглядел на меня с ненавистью и отчаянием, но не сказал ни слова. Нагнав его, я не знал, о чем его спросить.
— Ты был на играх? — проговорил я наконец. Он покачал головой. Меня охватила тревога. — Чем все это кончится?
С минуту он всматривался в меня, потом ответил тихим хриплым голосом:
— Все это погибнет, и миром будут править святые.
— Но когда, когда? — допытывался я, почувствовав к нему доверие.
— Это может наступить в любой час. Слушай.
Мы оба стали прислушиваться. Я услыхал отголоски труб, глухой гул океана, словно прижал к уху раковину. Слабый отдаленный вопль, словно Бог покидал вселенную.
Он снова заговорил тихим дрожащим голосом, исполненным надежды:
— Слушай. Можешь ли ты услышать, как Бог садится на свой престол? Можешь ли ты уловить дыхание архангела, поднесшего к устам трубу? Это может случиться в любой час. И Сын Человеческий будет с нами, и те, что были первыми, станут последними. Блаженны нищие и угнетенные.
Я подпал под его обаяние. Внимая ему, я слышал сквозь шум растекающейся толпы, как трещит основание земли под стопою Неведомого. Я слышал прибой иной жизни. Но вот люди, расходящиеся из Цирка, вышли в переулок. Пророк весь сжался, оперся руками о колени, поднялся на ноги и убежал, согнувшись пополам. Ко мне подходили юноша и девушка.
— Еще рано идти домой, — сказал юноша.
— Было чудесно, да? — сказала она. — Я чувствую такое возбуждение — мне хочется танцевать, петь и куда-то бежать. — У нее было прелестное круглое лицо со вздернутым носом и кроткие серые глаза, глядевшие из-под широкополой шляпы.
Весь следующий день я пролежал в постели, и нахмуренный Феникс ухаживал за мной. Как никогда, я чувствовал необходимость все продумать до конца. И был совершенно неспособен думать. Напрасно пытался я успокоиться — меня преследовал неразрешимый вопрос: найду ли я когда-нибудь себе место в этом мире? Феникс, как всегда, старался развлечь меня болтовней. Какой-то матрос избил Ириду. Неподалеку от нас рухнул дом и раздавило тридцать человек, а одного ребенка нашли живым среди обвалившихся балок. У канатного мастера, жившего напротив, ночью заболело горло, он стал задыхаться и под утро умер; вдова то громко вопила, то подсчитывала поступления от жильцов. Когда ночью перевозили зверей в Цирк, из клетки сбежал лев. Он спрятался среди развалин домов, и его не заметили, — ибо строительные работы были приостановлены на время игр. Несколько часов он сидел в засаде, потом бросился на человека, который зашел туда за нуждой. Раб торговца духами с соседней улицы подал городскому претору жалобу на своего хозяина, хотевшего его кастрировать. Феникс добавил, что все рабы стоят за Нерона, издавшего закон, предоставляющий им право обращаться в суд в случае дурного обращения. Правда, редко у кого хватало мужества подать жалобу. Всего неделю назад тот же торговец духами кастрировал двух молодых сирийцев, попросту откусив им тестикулы, чтобы не платить хирургу, и не понес никакого наказания. Жена аукционера родила двух девочек, которых тотчас же выбросили на свалку.
Когда стало смеркаться, я почувствовал тревогу, но подавил в себе желание выйти из дому. Будучи не в силах справиться с важными вопросами, я стал обдумывать план возвращения домой. Порой меня охватывало непреодолимое желание покинуть Рим. Я даже начинал укладывать вещи. Но решимость моя тут же остывала. Мной вновь овладевала покорность судьбе, и воля была парализована. Что-то непременно должно было произойти со мной в Риме. Бесполезно пытаться этого избежать. Но ведь многое уже произошло, говорил я себе, неужели этого недостаточно? И все же в глубине души я был уверен, что предназначенное мне еще не свершилось. Иначе я не чувствовал бы себя таким потерянным, опустошенным, связанным и при этом не находился бы в таком ожидании.
Я плохо спал, поднялся на рассвете и решил пройтись. Игры еще не закончились, и все лавки были заперты. В каком-то переулке, где стояли обгорелые дома, из пустого дверного проема вышел человек и попросил милостыню. Потом, удостоверившись, что кругом никого нет, он схватил меня и потащил за собой в дверь. Я сопротивлялся, но был слишком слаб, чтобы отбить нападение. Он сорвал кошелек у меня с руки и удрал. В ту минуту мне отвратительней всего было его зловонное дыхание.
Я колебался, не вернуться ли домой за деньгами. В кошельке было двадцать сестерций. Потеря невелика, но тут же я со страхом подумал, что ненадежно хранить деньги в башмаках, спрятанных в шкафу. Я стал соображать, куда бы их перепрятать, и шел потихоньку, пока не очутился на дороге к Марсову полю. Миновал колоннаду перед лавкой, в которую меня в свое время затащила Цедиция. Она была в изгнании. Лавка на замке. Сводник сделал попытку сбыть мне десятилетнюю девочку. Я прогнал его и побрел к обелискам храма Изиды.
По ступеням спускалась женщина, скрестив руки на груди и опустив глаза. Из храма доносилось пение, и я поднялся наверх, пройдя между египетскими львами. Пение стало слышнее. Я хотел было повернуть обратно, когда увидел в дверях храма жрицу, которая прошла мимо меня в день процессии с кораблем в честь Изиды. Я тотчас же передумал и поднялся на верхнюю площадку, но жрицы там не было. Я вошел в прохладное святилище и стал слушать. В пленительной полутьме поблескивали статуи, на мозаичном полу кружились узоры в виде спиралей, затягивая все дальше. Пение стало еще громче. Пели одни женские голоса на высоких нотах. Я напряженно прислушивался, сперва улавливая лишь отдельные слова, но когда подошел ближе, услышал слова песнопения так ясно, словно сама Изида говорила их мне на ухо:
«…Я Изида, владычица земли. Я установила законы для рода человеческого и так устроила мир, что никто не властен что-либо изменить. Я старшая дочь Бога. Я супруга и сестра владыки Озириса. Я та, кого именуют Божественной Женой. Я отделила землю от неба и определила путь солнцу и луне. Я вызвала приливы моря. Я придала силу справедливости. Я сочетала мужчину и женщину. Я повелела женщинам носить детей во чреве своем до десятого месяца. Я караю тех, кто не чтит родителей своих. Вместе с братом своим я воспретила людям поедать друг друга. Я открываю тайны посвященным. Я создала святилища богов и ниспровергла тиранов. Я заставила женщин принимать любовь мужчин. Я сделала справедливость более могучей, чем золото и серебро. Я открыла людям всю красоту Истины. Я освятила брачные узы. Я научила людей отличать добро от зла и связала клятвой людей, лишенных совести…»
Я направился к боковому приделу, откуда доносилось пение. Оно меня глубоко взволновало, словно мелодия и слова предназначались мне одному. Во мне зародилась великая надежда. Впервые после освобождения я почувствовал, что в жизни можно обрести подлинное тепло и утешение, как бы воспринял смутное, ускользающее обетование. Из внутреннего святилища появился почтенного вида старик жрец и подошел ко мне.
— Сын мой, у тебя неспокойно на сердце.
— Да. — Я чувствовал, что надо еще что-то сказать, но не знал, что именно. Но ни вопрос жреца, ни моя неспособность ответить не смутили меня.
— Тебя утешит Матерь. — Он поднял руку и стоял передо мной, высокий, смуглый, с обритым теменем, в белой полотняной одежде. «Грек из Египта», — подумалось мне.
— Я хотел бы узнать нечто большее.
— Мы всегда идем навстречу всем страждущим и взыскующим. — Он взял меня за руку и повел в святилище, но остановился на пороге. — Ты еще не достоин войти. Взгляни на ее лицо.
Она стояла в глубине святилища, величественная, в сиянии драгоценных камней. Несмотря на обилие ярких красок, она была простой и ясной. На ней было полотняное одеяние и мантия с бахромой, застегнутая на груди. Лицо ее, освещенное падающим сверху лучом, дышало задумчивым спокойствием, величавой материнской добротой, и сердце затрепетало у меня в груди. У меня едва не вырвался громкий возглас, и я чуть было не упал перед ней на колени. Жрец, которого звали, как я впоследствии узнал, Фимоном, положил руку мне на плечо и поддержал меня. Он дал мне возможность созерцать ее образ, а потом отвел от дверей святилища.
— Если ты не торопишься, то, может быть, зайдешь ко мне?
Через боковую дверь он повел меня в коридор, куда выходил длинный ряд небольших комнат. Мы зашли в первую, там стояли только ложе, табурет и шкаф. Он сел на ложе и указал мне на табурет. Я тоже сел. Некоторое время мы молчали. Я ощущал странный покой, как бы исходивший от ласкового ясного лика Богини.
Наконец он заговорил:
— Существует множество рассказов о Матери, и все они содержат в себе истину. Но я полагаю, тебе еще нет надобности с ними знакомиться. Все, что тебе теперь нужно, ты получил, созерцая Ее.
— Если б я только всегда мог жить в таком покое, — сказал я, вглядываясь в его старое смуглое лицо, изрезанное мелкими морщинами и освещенное приветливой, разлитой по всем чертам улыбкой.
— Мы позаботимся об этом. Если ты обладаешь стойкостью, то всего достигнешь. Здесь есть свободный покой.
Его слова вывели меня из приятного забытья, в которое я впал после созерцания лика Богини. Я высказал пожелание, не вполне отдавая себе отчет в своих словах.
Фимон понял их буквально, и это одновременно и порадовало и смутило меня. Я встал.
— Я вернусь завтра.
Не проговорив ни слова, он провел меня к выходу из храма, поклонился и ушел. Я огляделся кругом, надеясь снова увидеть жрицу. Но тщетно. После золотистого полумрака в храме солнечный свет казался резким и ослепительным. Спускаясь по ступеням, я несколько раз споткнулся. Я плохо питался все эти дни, подумалось мне. В голове у меня был сумбур, мне нужно было разобраться в самом себе и принять какое-то решение. У меня даже возникла легкая неприязнь к храму и жрецу. Вновь и вновь повторял я в уме слова жреца, пытаясь уловить в его тоне или в отдельной фразе желание воспользоваться моей слабостью. Но несмотря на все мои подозрения, лик Богини представлялся мне все в том же немеркнущем сиянии, он был исполнен силы и изливал истинное утешение. Меня привлекал светозарный покой храма, такой отличный от всего окружающего.
Я не вернулся на следующий день. Мне нездоровилось. К вечеру мне стало легче, и в ответ на горячие просьбы Феникса я позволил ему купить мне хорошей еды. Он убежал и вскоре вернулся с флягой вина, копченым сыром, маслинами, свеклой, блюдом нарезанного ломтями мяса и салатом. Пока я ел, он сидел, обхватив руками колени, и наблюдал за мной. Он рассказал, что старшины цеха канатных мастеров заходили в лавку их покойного собрата. Самый главный поладил со вдовой и провел у нее ночь. Все узнали об этом, когда дочка принялась рвать на матери волосы, крича, что та обесчестила их семью. Вдова оправдывалась, говоря, что сделала это с целью обеспечить пособие на похороны, вдобавок муж уже больше трех лет не мог выполнять супружеские обязанности после того, как поранил себя ножом, разрезая канаты. В окно были видны люди, собравшиеся возле лавки. Феникс пояснил, что агенты похоронных заведений готовы перегрызть друг другу глотку. Все это лишь усилило мое отвращение к миру. Не соблазнила меня и Ирида, которая заглянула ко мне и смущенно предложила бутылку замечательного сирийского вина, подаренную ей подругой, уроженкой Аквинка. Ночью мне снилась Богиня, и я был счастлив.
На следующий день я с утра отправился в храм. Святилище, которое закрывалось на ночь, было открыто. Жрец возжег священный огонь и совершал возлияния нильской водой. Он пел под аккомпанемент флейт. Стоя на пороге, он обращался к Богине на языке египтян, называя ее именем, непонятным для непосвященных.
Это я узнал позже. В ту минуту меня поразили глубокий торжественный покой, размеренные движения жреца и это странное пение. По сравнению с обителью Изиды римские храмы — храм Цереры, например, — казались пустыми и немыми, ибо там не совершалось ничего, непрестанно оказывающего воздействие на разум и чувства. Священнодействовал не Фимон, а другой жрец, потом я узнал, что Фимон исполнял обязанности проповедника. Когда пение затихло, пришли служители и стали облачать Богиню в свежие одежды и умащивать ей волосы мазями, от которых они засверкали.
Я стоял позади почитателей Изиды. Внимание, с каким они следили за ритуалом, действовало на меня успокаивающе. Наблюдая, как облачают Богиню, я испытывал отрадное теплое чувство, словно обновлялся сам и очищалась вся вселенная. Когда служители удалились, кто-то тронул меня за рукав; обернувшись, я увидел Фимона. Он улыбнулся своей неуловимой, слабой улыбкой, выражавшей благожелательность. Потом он удалился. Я стоял и ждал его. Два часа. Порой мне становилось не по себе, я хотел уйти, в голове роились неприятные мысли и возникали нелепые ассоциации. Но вот на меня снизошел кроткий мир, и я утратил всякое представление о времени.
— Ты все еще здесь, — произнес близ меня Фимон.
Оказывается, я стоял с закрытыми глазами, хотя все время видел Богиню, чье лицо походило на лицо жрицы, которую мне хотелось встретить. Я вздрогнул и посмотрел ему в глаза. Мои сомнения рассеялись.
— Мне хотелось бы еще поговорить с тобой, — сказал я. Он снова повел меня в свой покой. — Но сперва позволь мне открыть тебе все, что у меня на душе. Я не собираюсь посвятить себя служению Богине. Я переживаю большие трудности и утратил равновесие. Мне была бы великая польза, если бы я провел здесь хотя бы несколько недель.
— Не нужно никаких условий, — ответил жрец. — Мы не только не хотим склонять тебя, но должны всячески отговаривать от этого, если только ты не получил от Нее знамения, которое показало бы, что у тебя нет иного выбора. У нас еще достаточно времени. Знай, что мы, посвятившие себя Богине, живем в постоянном воздержании, отказываемся от всего, к чему люди страстно и мучительно стремятся, создавая себе заботы, от которых мечтают освободиться: они тщатся накапливать богатство, питаются убоиной и ищут волнующего общения с другим полом.
— Можно мне посмотреть свою комнату?
— За нее надо внести небольшую плату храму. Какую именно, не могу сказать, ты узнаешь у казначея.
Мне не терпелось увидеть помещение, где я твердо надеялся обрести душевный мир. Он повел меня по коридору и указал на последнюю комнату. Она, как и все остальные, была без двери. Размеры ее и обстановка были точно такие же, как у Фимона. Но я сразу почувствовал, что это именно моя комната. Я жаждал здесь поселиться.
— Можно мне остаться?
— Да. Мир тебе.
Он удалился, и я остался один. Некоторое время я спокойно сидел на табурете, потом вышел из комнаты. Когда я проходил мимо его покоя, он на мгновение выглянул и вложил мне в руку бронзовую статуэтку Богини, на подставке было написано по-гречески: «Я все, что было, есть и будет, ни один смертный не поднимал моего покрывала». Я поцеловал статуэтку и спрятал ее под плащ. Поблагодарив проповедника, я вернулся в свою квартиру и взял из шкафа большую часть денег, а также смену белья. Оставшиеся деньги я вручил Фениксу для уплаты за квартиру, он сам добывал себе на пропитание. Я сказал ему, что проведу две недели в обители Изиды и буду по временам его навещать.
Однако у меня не было охоты покидать ограду храма. Ежедневно я вставал до зари и присоединялся к почитателям Богини, ожидавшим в темноте открытия святилища и Ее пробуждения. Я слушал песнопения и жалобные молящие звуки флейт и струнных инструментов. В течение дня я несколько раз поклонялся Богине. Я стоял на страже и вместе с остальными совершал ритуальные омовения. В сумерках я присутствовал на службе, сопровождающей закрытие святилища, и плакал вместе со всеми. Эти тесно связанные между собой церемонии имели целью охранять каждый час дня и ночи, все часы жизни, они выключали сознание из внешнего мира — вернее, они преображали жизнь мира, которую символизировали различные ритуальные действия, выражая таинственную сущность бытия, они преодолевали мучительный сумбур и дисгармонию.
Несколько раз я видел жрицу с овальным лицом, принимавшую участие в процессии с кораблем. Каждый раз я поражался ее сходству с Изидой. Она не заговаривала со мной, а я боялся к ней обратиться. Звали ее Гераида, и она посвятила себя Богине. Однажды, когда мы приветствовали утреннее возрождение, она стояла рядом со мной. Она пела, я видел, как вздымается и тихо опускается ее грудь, как сплетаются ее пальцы, я любовался стройной фигурой египтянки, изящной шеей и гордой посадкой головы. У нее была тонкая кожа, сквозь смуглый загар чуть просвечивал нежный румянец. Когда произнесли святое имя, она повернулась и посмотрела на меня, и свет, падавший на лик Богини, на мгновение ярко озарил ее черты. Она долго смотрела мне в глаза. Потом удалилась.
У Богини было немало почитателей, большинство из них женщины. У иных были безумные глаза, совершая покаяние, они колотили себе по груди колючими сосновыми шишками и рассказывали об отдавших жизнь за Изиду мучениках, проповедовавших истину среди гонений; их сослали на острова, и там белели их кости. Другие приходили произнести обет и приносили пироги или откормленных гусей. Изредка в храм проскальзывала богатая матрона в усеянном блестками покрывале, с руками молочной белизны. Однажды появился Дионисий, управляющий библиотеками, в сопровождении пышной свиты; он хотел побеседовать с верховным жрецом и заглянуть в анналы. Дионисий был учеником наставника Нерона Херемона и, подобно ему, уроженцем Александрии. Он написал несколько трудов, посвященных Изиде и Серапису, и его принимали с великим почетом. Мне не нравились его надменный взгляд и нависшие брови, и почудилось, что на какой-то срок он нарушил мир храма и осквернил его. Но Фимон увел меня в свой покой, успокоил беседой, и я позабыл о важном александрийце и о милостях, оказанных Нероном храму.
Мне случалось обсуждать с Фимоном легенды о Богине, о ее божественном брате и об их благословенном сыне, который вновь вознес на высоту умерщвленного отца. Эти беседы были поучительны и полезны, как любой разговор с ученым и благочестивым старцем. Но время от времени его высказывание или возглас во время богослужения западали мне в душу, утоляя мою тревогу и оживляя мои надежды. «Вернись к нам живой, и мы обнимем тебя. Прекрасный юноша, кормчий времен, возрастающий в силе. О боги, обитающие на небе, о боги, обитающие на земле, о боги, обитающие в преисподней, о боги, обитающие в бездне, о боги, властвующие в глубине, мы следуем за владыкой любви. Я пройду все пути, лишь бы достигнуть любви. Я лечу над землей, я не ведаю покоя в своем стремлении к тебе». Что, как не страстная вера, вызывала у меня слезы при звуке этих слов? Что окрыляло мою душу и почему она восторженно пела? Что вселяло в меня уверенность, что я не напрасно родился на свет? Каждую ночь образ Богини все сильнее овладевал мной, озаряя мои сны.
Наконец я сказал об этом Фимону, и он поцеловал меня. Он поведал мне многое о смерти владыки и о его воскресении, вызванном преданной любовью сына и супруги, долго искавших его. Размышляя над этими легендами, я стал вникать в свою жизнь, и мне открылся ее сокровенный смысл: неизбежность измены, растерзанности и борьбы за обновление и единение со всем миром. То, чего недоставало чересчур обобщенным теориям стоиков, было здесь дано в живых и убедительных образах. И все же что-то протестовало во мне, я все еще не сдавался и по-прежнему взвешивал каждое слово Фимона, каждую подробность ритуалов, пытаясь обнаружить слабое место или заблуждение. Я сражался без всякой надежды на победу, но не складывал оружия.
Спустя десять дней я заставил себя сходить на квартиру и навестить Феникса. Его не было дома. Но Ирида услыхала, что я пришел. Она выглянула из своей комнаты и пригласила меня зайти и выпить с ней. «Я так одинока», — сказала она. Сознавая свою духовную силу и радуясь своей отрешенности от земного, я поблагодарил ее и ушел. На улице мне встретился Феникс, кто-то предупредил его о моем приходе, он сидел за кружкой вина в погребке. Он уставился на меня и осведомился о моем здоровье. Я ответил, что чувствую себя лучше, но, вероятно, целый месяц пробуду в храме. Мое появление как будто смутило Феникса. Взгляд его выражал заботу и сомнения, и он не был, как обычно, начинен сплетнями. Я не позволил ему меня проводить, улыбнулся и удалился, ни разу не оглянувшись. Идя по улице, я чувствовал, как мне чужда кипящая там шумная жизнь, — я вознесен над этой суетой, и мною владеет могучая любовь.
Я встретил верховного жреца Песуриса, это был дряхлый старик с низким дрожащим голосом и глубоко ввалившимися глазами, как бы подернутыми пленкой. Расспросив меня о моих снах, он согласился на мое посвящение.
— Отныне ты член священного воинства, — медленно проговорил он, — ты воин и примешь участие в священной войне, которую мы ведем с погруженным во мрак миром, где был умерщвлен наш владыка. Умерщвлен навеки. Тебя озарит свет спасения, когда ты познаешь священные тайны ночи, хранимые Матерью. Вручаю тебя Фимону, он услышит изреченные Ею слова согласия. Без Ее соизволения ни один из Ее жрецов не дерзнет посвятить тебя в Ее тайны; так поступить мог бы лишь бездушный раб смерти. Это значило бы проявить безрассудство, совершить святотатство и впасть в смертный грех. Ибо Она отверзает врата ада и владеет силой жизни. Посвящение — добровольная смерть, ибо это готовность пожертвовать жизнью, нарушение всех привычных границ, ограждающих нас от опасности. Она избирает лишь тех, кто стоит на пороге Ее ночи. Таким можно доверить Ее тайны. Таким в своем всеведении Она дарует новое рождение. Извлекая их из порочного мира, Она вводит их в круг непорочности. Она позволяет им начать новый путь жизни. Вот почему ты должен ждать ясного указания небес, хотя все давно предопределено и предназначено. Когда придет указание — а я уверен, что оно придет, — ты станешь Ее счастливым избранником и служителем Ее алтаря. До тех пор, подобно остальным верным служителям Матери, воздерживайся от греховной запретной пищи, и ты самым праведным путем достигнешь сокровенных тайн чистейшей из религий.
Голос его журчал нескончаемым потоком. Я не сразу понял, что он закончил и отпускает меня. В его присутствии я испытывал благоговейный страх, но он не внушал мне такой любви, как Фимон. Тому я поведывал свои сны, он истолковывал их и сообщал мне, сколько следовало потратить на жертвоприношение Богине и на торжественные моления. Я дважды ходил к банкиру и взял у него все свои деньги. Наконец я увидел во сне, что Богиня возложила мне десницу на голову и сняла с моего лица маску. Я не подозревал, что хожу в маске.
Фимон прослезился и благословил меня.
— Наступил день, которого ты давно ждешь. Матерь велит допустить тебя в Ее священнейшее святилище.
Он подвел меня к дверям святилища и отправился за священными книгами. Он стал переводить мне самые важные места и подробно их толковать. Затем он отправился со мной и с группой почитателей Богини в бани Агриппы, где неофиты обычно совершали омовения. Он обратился с молитвой к богам, взывая к их милосердию, затем обрызгал меня чистой водой и очистил меня, повелев мне и впредь хранить душу в такой же чистоте, как тело, и снова повел меня в храм и поставил у подножия статуи Богини. Перед лицом всех молящихся он наказал мне воздерживаться от вина, вкушать только хлеб насущный, а главное, не притрагиваться к тому, что было прежде живым существом.
Я провел десять дней в состоянии восторга и бесстрастия. На десятый день, на закате, верховный жрец, удалив из храма всех, кроме посвященных, облек меня в льняное одеяние, которое еще никто не носил, и ввел меня внутрь святилища. В течение следующих суток я был Озирисом и проходил через все фазы рождения, смерти и возрождения. Оглядываясь назад, я не в силах отличить церемонии, происходившей в темноте, прорезаемой лучами таинственного света и внезапными вспышками огня, от своих переживаний, от снов наяву, навеянных беседами с Фимоном, о которых мне напомнили телодвижения и слова, пение и мерцание огней. Могу только сказать, что, переживая экстаз, после длительного поста и созерцаний я умер и вновь родился из лона света. Я прошел сквозь все стихии и пробудился на руках у Матери.
Когда поутру распахнулись двери, я вышел в затканной золотом мантии, которую называли Двенадцатой или Олимпийской, увитый гирляндами и с факелом в руке. Занавесь широко раздвинулась, вокруг меня теснились люди, поздравлявшие меня и благодарившие Богиню. Мы поцеловались с Фимоном. Потом я поспешил в свою комнату и в полном бессилии упал на ложе. Но в скором времени за мной пришел один из пастофоров[151] и разбудил меня.
— Не спи. Мы все ждем, что ты отпразднуешь свое рождение в новую жизнь. Ты должен угостить своих единоверцев, если даже и не захочешь нарушать поста до третьего дня.
Я дал ему денег и попросил приготовить все необходимое. Мне не хотелось пировать. Я все еще видел перед собой лик Богини, но при этом досадовал, что истратил столько денег. На третий день верховный жрец торжественно освободил меня от обета поста и позволил веселиться. Мне не удалось повидаться с Фимоном, и я отправился в зал, где происходило пиршество. Я дал еще денег и сел со всеми за стол. Беседовать мне не хотелось, но когда поднимали чаши, поздравляя меня-с новым рождением, я пил с другими. Жрица Гераида была с нами, но сидела среди женщин на другом конце стола. Мы долго смотрели друг на друга. Но вот она встала и вышла грациозной танцующей походкой.
Я сознавал, что меня гложет при всем моем внешнем спокойствии. Потратившись на пиршество, я остался без денег. Все эти люди развлекались за мой счет, а мне предстояло покинуть храм без гроша в кармане. Пока я жил в комнате, я сознавал, что мои деньги быстро тают. Это беспокоило меня, но утешало сознание, что я приношу тяжелую жертву Изиде не в пример богачам, которым ничего не стоило уплатить за посвящение. Я разорился из-за Богини. — Теперь, когда дело было сделано, я испытывал острую досаду. Мне не было жаль денег, предназначавшихся Богине, но раздражали все эти люди, проедавшие мои последние сестерции. Тут я впервые спросил: какая доля предназначается Изиде? Оказалось, сущая безделица. Почти все деньги шли в храмовую казну, и без того очень богатую, как я узнал из случайно подслушанного разговора жрецов с Дионисием. Когда Нерон грабил храмы, пополняя казну, из которой утекли деньги на перестройку Рима, он не тронул Изиду. Я верил, что Фимон подлинный аскет, но что мне было известно о верховном жреце и о целом ряде должностных лиц, причастных к храму? Хотя совершенной чистоты требовали лишь от тех, кто был приобщен к таинствам и посвятил себя Матери, все они осуждали мирскую жизнь с ее соблазнами и пороками. Однако они были тесно связаны с этим миром, ибо непрестанно стремились увеличить могущество, богатство и славу своего храма. Сколько бы ни твердили жрецы, что они всецело посвятили себя Изиде, они неизбежно упрочивали свое положение в мире. Разумеется, мне могли возразить, что храм нуждается в деньгах и в покровительстве высоких лиц, дабы обеспечить необходимую пышность богослужения. И все же я наблюдал непримиримое противоречие: они осуждали скверну и прибегали к ней. Наконец я обнаружил трещину, которая мне мерещилась, но до сих пор ускользала от меня.
Я не сразу до этого додумался. Мои мыслительные способности и тело были расстроены и ослаблены острым душевным напряжением. Я испытывал реакцию после состояния экзальтации, в какую впал после длительного поста. Все это время я мучительно силился связать воедино события, случившиеся за последние недели. Я не утратил переживания великой тайны смерти и возрождения, роковых измен и утрат, сознания своей связи со всем происходящим в существе человека и вне его. Я был уверен, что никогда этого не утрачу. Но я не представлял себе, как вернуться к повседневной жизни с приобретенным опытом. Я старался вникнуть в открытый мне Фимоном тройственный смысл и аллегорическое значение запутанных легенд и ритуальных формул, цепляясь за них, как за якорь спасения. Мужчина взывает: «Небо соединилось с землей», а женщина отвечает: «Радуйтесь небу, сошедшему на землю»; мужчина возглашает: «Грядет бог, преклоните колена», а женщина четырехкратно отвечает: «Радуйтесь небу и земле», потом оба восклицают: «Небо и земля радуются и веселятся, владыка наш в обители своей, ему нечего страшиться!», тогда женщина вопит: «Я оплакиваю возлюбленного моего Бога. Покойся в обители своей, пребывай в могиле своей. Повергнись в прах, злой дух, а ты, Озирис, гряди с миром!» И в заключение: «Я плачу, ибо он был всеми покинут, я одевала нагого, я облекла божественное тело». Какое все это имело отношение к земным скорбям, познанным мною на опыте, и к нищим, что лежали, скорчившись, под мостом?
Обнаруженное мной противоречие между отрешенностью от мира и погоней за деньгами все больше мешало мне войти в роль Озириса и слиться с Матерью всего сущего. Мне было известно, что существует предательство и убийство, но, по правде сказать, я не знал, почему они существуют на земле и откуда появились. Трагедия души, ниспавшей из сферы вечного света в грубую материю, повторялась в столкновениях сословий. Фимон что-то говорил об этом, и его слова показались мне убедительными, но теперь это вызывало у меня все больше сомнений. Существует лишь настоящий момент, отпечатленный в вечности. Надо все объяснять, исходя из настоящего момента, а не принимать действительность как некий символ, как отражение событий, совершившихся в ином мире, вне времени.
Я продолжал пить. Я был уверен, что вино не оказывает на меня никакого действия. Сказав несколько слов, я удостоверился, что голос мой звучит спокойно и не дрожит. Гераида больше не появлялась. Гости дремали за столом, слушая певца.
Аромат аравийский вдыхая,
Упивайся мелодией флейт!
Позабыв о житейских тревогах,
Предавайся блаженным мечтам!
Все меняется, все погибает
Под изменчивой этой луной, —
И в стране, возлюбившей безмолвье,
Скоро нам предстоит опочить
[152].
Я скользнул прочь. Если и заметили мой уход, то, вероятно, подумали, что я пошел оправиться. Войдя в ограду через заднюю дверь, теперь мне знакомую, я направился на женскую половину. Там жили три жрицы, в том числе Гераида, чье лица так трудно было отличить от лика Богини. Я знал одно: мне необходимо с ней говорить.
Из комнаты вышла молодая рабыня и с удивлением уставилась на меня. Я махнул ей рукой, чтобы она отошла в сторону.
— Где твоя госпожа? — Я ничуть не удивился, тут же увидев Гераиду. — Мне надо поговорить с тобой.
Она внимательно посмотрела на меня, потом отослала девушку.
— Удались. — Когда мы остались одни, она приблизилась ко мне. — Ты знаешь, что тебе нельзя здесь находиться. Ты можешь мне навредить. Что скажет Песурис? — Хоть она мягко упрекала меня, у нее был невозмутимый вид. Я не сомневался, что двух других жриц нет поблизости. Сюда не смел входить ни один мужчина. Можно было не опасаться, что нам помешают. Я мгновенно все это сообразил и воспрянул духом. Казалось, я очнулся после длительной горячки, и сознание мое прояснилось. — Что тебе нужно?
— Быть рядом с тобой. — Я вслушивался в звуки ее тихого размеренного голоса, различал легкий чужеземный выговор, радовался каждому ее слову, чувствуя, что вновь обретаю себя. — Я все время искал тебя, я видел тебя в процессии с кораблем.
— Пусть так. Но сейчас ты должен уйти.
Если б я действительно владел своими чувствами, я, вероятно, попросил бы ее назначить мне свидание где-нибудь за пределами храма. Мне казалось, что я обрел ясность сознания, но то было лишь стихийное чувство своей силы. Моя уверенность произвела на нее впечатление. Она не пыталась убежать или позвать служанку. Не стала она и сопротивляться, когда вошла в свою маленькую пустую комнату и опустилась на ложе. Она недвижно лежала в моих объятиях.
…Силы, подавленные и введенные в русло аскетических молений, восстали и овладели мной. Я ни на минуту не сомневался, что Гераида отдастся мне. Иначе меня растерзали бы кипевшие во мне безмерные силы. Я осуществлял в жизни пламенное символическое единение. Возможно, и она видела во мне величие, присущее вновь посвященному, и моя голова казалась ей головой бога, окруженной сиянием.
До нас донесся шум поспешных шагов и голоса. Гераида оттолкнула меня и села, испуганно озираясь. Восторженное исступление мигом рассеялось, и я увидел, что она такая же, как и другие. Я почувствовал огромную нежность, горячее сожаление, холод внезапного расставания. Не сказав ни слова, я вышел из комнаты и помчался по коридору. Теперь мне были знакомы все закоулки зданий, находившихся внутри ограды. Открыв узенькую дверь, я проник в купальни, потом взобрался на крышу сарая и соскользнул с нее по стене. Тяжело дыша, я стоял за оградой. Мимо меня прошел плотник с доской на плече и подмигнул мне. Я медленно удалился.
Я шел по заросшим травой тропинкам вдоль реки. На душе у меня было легко, хотя за мной тянулась вереница смутных воспоминаний, звучали взволнованные голоса и поспешные шаги. Им уже не догнать меня. Что испытал я в храме? Я не мог понять, что побудило меня войти туда и привлекло к Фимону и Песурису. Все происшедшее было одновременно пустым обманом и благословенным избавлением. Я уже не мог возвратиться, но больше не испытывал страха. Все события в моей жизни были отмечены той же двойственностью: пустой обман и благословенное избавление. Я обнаруживал эту двойственность и в своем детстве, она постепенно истаивала в нежном сиянии блаженных воспоминаний. Она проявлялась и в более поздние годы, причем все чаще и чаще. В течение двух месяцев, проведенных в Риме, эта двойственность проявлялась на каждом шагу. Она постоянно присутствовала во мне и в других людях. Смерть Лукана, Сцевина и Сильвана была озарена сиянием весны, слилась с песнями птиц и цветением деревьев. Я не обрел желанной точки покоя, но теперь верил, что она существует. Но как обрести ее после неудачи, постигшей меня в храме? Моя жизнь словно раскололась надвое. Приятие, отрицание. И не было точки, где могли бы встретиться и гармонически слиться эти противоположности. Но я знал, что необходимо найти эту точку, не то я снова кану в расколотую пустоту.
Мне вспомнилась фраза из сочинений Сенеки, которую однажды привел Лукан, обычно не цитировавший своего дядю. Это доказывало, что он отчасти питал к нему зависть, и говорило о семейной гордости. Вечность объемлет противоположности, присущие всем вещам.
Все это казалось простым и легко достижимым, но весьма далеким. Я не знал, что предпринять. Я проходил мимо мальчиков и стариков, спокойно удивших рыбу в реке, мимо любовников, беззаботно лежавших в траве на высоком берегу над сверкающей рекой, мимо здоровенного загорелого крестьянина с мотыгой в руке. Я приветствовал их всех с благоговением. Внезапно мне подумалось: последователь Христа не знал никаких компромиссов.
Я стал тосковать по Бетике. Впервые с тех пор, как я ее покинул, на меня нахлынули воспоминания о былом. Все это время мне казалось, что я без труда стряхнул с себя прошлое, по теперь оно бурно ожило во — мне. Мне не удалось самостоятельно устроить свою жизнь, добиться прочного положения, развивая свою деятельность в Риме, как бы зачеркнув все свое детство и юность с приходом в Город. Нельзя было вновь создавать прочные связи на пустом месте и опыте, приобретенном в пределах Рима. Самыми яркими быливоспоминания о моем брате Марке, который погиб, когда мне было тринадцать лет. Он был на два года старше меня и однажды утром поехал с матерью в ее экипаже, в последнюю минуту заняв мое место — я внезапно захворал желтухой. Мать собралась навестить свою сестру, чья вилла находилась неподалеку в горах. Дикий кабан напугал лошадей, и они понесли. Наш кучер был пьян и свалился с козел, и брат Марк пытался схватить вожжи, но, потянувшись за ними, выпал из коляски и угодил под колеса. Он так и не выпустил из рук вожжей. Энергичный, сообразительный, в десять раз лучше меня. Теперь я вспоминал всякие мелочи, касающиеся его, игры, в которые мы играли. Однажды мы заблудились в горах, и он добыл огонь трением палочек друг о друга, а на следующее утро повел меня вдоль ручья и нашел дорогу домой. После его смерти я все время хотел оправдаться в его глазах и вел тайную беседу с его духом.
Но если б я и решился отправиться домой, у меня не было денег. Я объяснил это Фениксу. У него не вырвалось ни слова упрека, и он обещал работать изо всех сил и по возможности откладывать деньги. Я высчитал, что ему понадобится на это добрых пять лет. Большинство других квартирантов нашего квартала получали из казны бесплатно пшеницу и другую провизию, но я не был внесен в списки граждан, и мы не могли обращаться за пособием.
Вскоре мы стали жить полностью на заработки Феникса. Это мне не нравилось, но другого выхода не было. Я возобновил свои прогулки по городу. Однажды я забрел на Вирбиев холм, где ютились нищие. Я был неряшливо одет и небрит, и на меня никто не обратил внимания. Я уселся на ступени на солнце и слушал их болтовню. Возле меня женщина кормила грудью сразу двух младенцев — один был ее собственный, другой ее сестры, я это узнал из ее реплики на саркастическое замечание по поводу ее плодовитости. Дети швыряли камешки в стайки чирикающих воробьев или катали обруч. Высокий малый, опиравшийся на костыль, рассказывал, то и дело умолкая, словно ему опостылел его рассказ, как он с тремя товарищами шел из деревни неподалеку от озера Фудина в Рим и на них напала дюжина вооруженных людей. Эти грабители, посланные на дорогу управляющим большим имением, поволокли их в бараки, где жили рабы, и там их заставили работать, сковав одной цепью.
— Мне удалось удрать, когда в усадьбе вспыхнул пожар. Думаю, что не случайно.
После небольшой паузы кто-то спросил хромого, почему же он так думает. Тот усмехнулся.
— В тот день я топил очаг. Истопник был болен. — Он поймал блоху и раздавил ее.
Какая-то женщина судорожно закашлялась. Ее стали колотить по спине, кашель прекратился, и она, еле дыша, упала навзничь. Хромой прибавил, что на двух его приятелей напали в ноле быки и подняли их на рога. Одноглазый заметил, что могло случиться что-нибудь и похуже.
Я заговорил с сидевшим рядом стариком. Древним и беспомощным. Задыхаясь, он рассказал, что был рабом и, когда обессилел и уже не мог работать, его выбросили на свалку. Над ним сжалилась одна нищенка. Я вынул из своей сумки хлеб и сыр и угостил его, потом сообщил ему, что в случав, если больного раба выбросят вон и он выживет, он может требовать, чтобы его освободили. Его мало интересовали законы и гораздо больше заботило, что, оставшись без зубов, он не мог грызть корки и приходилось долго размачивать их слюной. Он попросил меня отдать еду женщине.
— Она сварит мне что-нибудь, что я легко смогу проглотить.
Поблизости желтоволосая молодая женщина искала в голове у ребенка, и тут же какой-то верзила бродяга пел!
На стук мегера отворила дверь:
«Знать нищих не хочу! Пошел отсюда!
Вчера ротастый малый постучался;
Взяв деньги и любовь мою, удрал»
[153].
Несмотря на обездоленность, здесь царили дружелюбие, удовлетворенность и мир, чего я еще нигде не встречал. Спокойствие отчаяния, отдых на смертном ложе. Такая атмосфера действовала на меня умиротворяюще. Всем этим людям были чужды общепринятые нормы морали, и они были способны либо на откровенную жестокость, либо на редкостные братские чувства. Во всяком случае, у них нельзя было встретить фальши — незачем было обманывать самих себя и других.
И видел раба с ужасными шрамами на руках и ногах. Старик объяснил мне, что его распяли за то, что он досадил своей госпоже, и оставили на кресте, сочтя умершим. Товарищи ночью сняли его с креста и прятали, пока он не окреп и не смог бежать.
— Они всякий день распинают нас, — сказал старик самым обыденным тоном. Он был родом из Мезии, и его продали родители в голодный год. — Все это я припоминаю ровно сквозь туман. Будто дымом все заволокло. Не помню ни одного слова на родном языке. И все-таки мне снится моя деревня.
Родители и шестеро их детей разводили костер из щепок, пристроившись среди развалин дома, от которого остались лишь стена да ночной горшок, застрявший среди обломков кирпича. После Пожара они перекочевали сюда с Авентинского холма, где прежде в трущобах ютилась беднота, а теперь освобождалась площадь для роскошных особняков, отчего становилось теснее в остальных кварталах. Архитекторы не соблюдали узаконенную высоту зданий, пользуясь тем, что власти наблюдали только за фасадами. Они занижали высоту помещений, чтобы возвести один или два лишних этажа.
Пока мы разговаривали, стемнело, порывом налетел холодный ветер и осыпал нас дождем шуршащих листьев. Я помог старику подняться, он побрел, прихрамывая, и улегся, кряхтя и охая, под низкой полуразвалившейся стеной. Нищие и бездомные попрятались кто куда, за исключением тех, которым было безразлично, вымокнут они или нет. Женщина с двумя младенцами и нищий с повязкой на глазу прижались к стене, я с ними.
— Мне все-таки думается, оба ребенка твои, — хихикнул нищий, прижимаясь к ней. Она возразила — ведь один старше другого на шесть недель, — Докажи. — Он положил руку на ее тощее угловатое колено. Старик стонал, жалуясь, что никак не может умереть.
— Если бы только я вернулся в Мезию, я упал бы на землю и умер счастливым.
Стало совсем темно, прокатился гром. Я остро ощутил потерянность, одиночество и безнадежность. Я дрожал всем телом. И снова я почувствовал реальность смерти. Волосатая рука на острой тощей коленке, шершавая шея и хлипкое дыхание старика, хнычущий ребенок со сморщенным лицом, кружившиеся на ветру отбросы — все это говорило мне о смерти, которая является основой всех вещей, подобно тому как неодушевленный костяк несет на себе живую плоть. Страх смерти, который я испытывал, сидя под арестом, был ничто по сравнению с овладевшим мною грозным предчувствием конца.
Я обретал здесь, то, чего искал в своих странствиях, — правду, которая все время скрывалась от меня за ширмой условностей, и страх, от которого все мы прятались, делая вид, что напуганы всякими мелочами. Я вспомнил отражение своего лица в полированном зеркале цирюльника, в которое взглянул после ареста. Меня испугала мрачная унылая физиономия, безликая, как череп, чье угодно, только не мое лицо. Теперь мне казалось, что то было лицо моей смерти. Вот что дал мне Рим. Мне надо было прийти к этим обездоленным и выброшенным на улицу отщепенцам, чтобы постигнуть смысл его дара, то был дар Горгоны.
Оглушительный удар грома, все мы прижались друг к другу. Одноглазый нищий первый выглянул из-за прикрытия.
— Стена обрушилась! — крикнул он и бросился туда.
Преодолевая страх, я последовал за ним. Высокая стена обрушилась, похоронив под собой тех, кто укрылся под ней. Мы принялись остервенело растаскивать кирпичи и балки, раздирая себе в кровь руки. Ветер свистел, снова нависли темные тучи. Но раскаты грома становились все глуше, гроза удалялась. Наконец нам удалось откопать убитых и раненых, и мы отнесли их на узкую, сбегающую под гору уступами улочку. Девушка со сломанной ногой, мужчина с продавленным черепом, девочка с рукой, чуть не вырванной из плеча. Мне хотелось убежать, скрыться подальше от крови и страданий. Отца многочисленного семейства ослепило. Его жену нашли мертвой. Женщина, кормившая двух младенцев, нянчила одного, оставшегося в живых.
— Я присмотрю за ней, — твердо сказала она.
Я перевернул тело старика. Его убила молния. Я начертал пальцем на земле рядом с ним: Мезия.
Наконец я решил уйти. Пока я спускался по уступам улицы, тучи разошлись и хлынул поток теплого золотого света.
Чувство какой-то безнадежной примиренности владело мною несколько часов, потом стало ослабевать. С особенной остротой я ощущал бездну между приятием и отрицанием. Между красотой и теплом жизни и жестоким насилием, искажающим все на свете. Временами мне казалось, что я не вынесу этих чудовищных противоречий и сойду с ума. Прельстившее меня обещание Изиды теперь представлялось мне обманчивым. На следующий день, в сумерках, возвращаясь с прогулки на Яникул, я услышал за спиной шум шагов. Ко мне подбежал человек, он шатался. Это был последователь Христа. Кажется, он тоже узнал меня.
— Они преследуют меня, — сказал он, остановившись.
Я огляделся. В стене обгорелого дома напротив нас виднелась щель, в которую мог забиться тощий человек.
— Спрячься там, — сказал я. — А я встану у стены.
Он повиновался. Я прислонился к стене в полной уверенности, что никто из прохожих не заметит щели. Через минуту в конце улицы показались человек шесть стражников. Подбежав ко мне, они остановились. Один поднес факел к моему лицу.
— Что ты тут делаешь?
— Жду свою девушку. Она опаздывает уже на добрых полчаса.
— Заберем его по подозрению, — предложил один из стражников.
Но вот подошел центурион. Он оттолкнул солдат. Его лицо показалось мне знакомым, и я тотчас узнал его: это был Юлий Патерн, друг Сильвана. Он сдвинул брови, соображая, кто я такой.
— Мы встречались с тобой, — сказал я. — У нас был общий друг.
Тут он узнал меня и велел солдатам отойти в сторону.
Я сказал им, что видел человека, пробежавшего мимо меня налево, и они устремились в эту сторону. Но Патерн остался.
— Я слышал, что тебя арестовали, — сказал он вполголоса, — но и только. — Он внимательно посмотрел мне в лицо. — Трудно тебе приходится?
— Да, но никто не может мне помочь. Я должен найти свою дорогу в жизни.
— Ты знаешь, что Сильван покончил с собой?
— Нет, я думал, его казнили. Я не знал этого. Но почему?
— Его выпустили на свободу. Но он винил себя в этой неудаче. Мне не все понятно. Я был страшно потрясен. Все еще не могу поверить.
Я покачал головой. Я тоже ничего не понимал. Глаза у меня увлажнились.
— Очень тяжело…
Он пожал мне руку.
— Мне надо идти. А что до малого, которого ты прячешь за спиной, брось его. Может быть…
Не докончив фразы, он повернулся и пошел за своими стражниками. Подождав немного, я помог беглецу выбраться из щели. Я хотел отряхнуть кирпичную пыль и сажу с его туники, он отстранился.
— Бог вознаградит тебя, брат.
Неверными шагами он побрел по улице в сторону, противоположную той, куда направилась стража. Я последовал за ним.
— Можно мне пойти с тобой? — спросил я.
— Тебя послал Бог.
Я быстро шагал рядом с ним, не зная куда. Он поворачивал то в один переулок, то в другой. Мы перешли через мост и углубились в сеть тесных улочек, наконец он остановился перед развалинами многоэтажного дома. Он осмотрелся по сторожам. Я не видел его глаз, но улавливал в них тревогу и настороженность.
— Мы встречаемся в третий раз.
— Ты хочешь войти? Подумай, прежде чем ответить.
— Да, хочу.
Я не знал, куда мы войдем. Я чувствовал только, что должен остаться с ним и узнать, где он почерпнул такую уверенность, почему он так грозно проклинает и так горячо надеется на спасение. Не говоря больше ни слова, он прошел вдоль развалин, нагнувшись, проскользнул под обвалившимися балками и спустился по ступеням в погреб. Подойдя к двери, он постучал: три быстрых удара, три медленных и снова три быстрых. Послышался лязг засовов, дверь отворилась. Он вошел и придерживал дверь, пропуская меня. Обширный подвал слабо освещали три глиняных светильника. Там находилось человек двадцать мужчин и женщин, сидевших на скамьях. В глубине помещения за грубо сколоченным столом сидел человек с седой бородой. Я остановился у двери, пока мой провожатый объяснял, кто я такой. Он торопливо сказал несколько слов.
Человек с седой бородой сделал мне знак подойти.
— Знаешь ли ты, кто мы? — спросил он звучным голосом, ласковым и строгим, твердым голосом учителя, который напоминал голоса Фимона и Песуриса и все же отличался от них. Меня так поразил его голос, что я почти не вглядывался в его черты. Светильник стоял за его спиной, и его крупная благородной формы голова была в ореоле, лучи падали и на бороду, но лицо оставалось в густой тени.
— Вы последователи Хреста или Христа.
— Это так. Но что ты знаешь о Христе?
— Ничего.
— Так почему же ты помог нашему брату?
— За ним гнались. А я слышал, как он говорил. Несколько месяцев назад. Его слова глубоко взволновали меня, хоть я их и не понял.
— Ты помог бы любому человеку, которого преследовали враги?
— Думаю, что да. Кроме заведомого преступника. Некоторое время назад я не сделал бы этого. Но мне пришлось на себе узнать цену тому, что в мире называют справедливостью.
— Мне думается, Аманд хорошо сделал, что привел тебя к нам. Может быть, ты голоден или хочешь пить? — Он указал на полку, где лежали хлеб, сыр и стоял кувшин с водой или с вином.
— Нет, но позвольте мне остаться и узнать о вашем боге.
— Есть единый Бог, только один Бог. А Иисус Христос его единородный сын.
— Я ничего не знаю. Хочу познать.
— Твои слова исполнены надежды. Оставайся с нами.
Пока мы разговаривали, все остальные сидели молча и неподвижно. Потом Аманд подвел меня к лавке, где было свободное место. Я сел подле женщины. В слабом мерцающем свете она показалась мне молодой и как-то странно красивой. «Еврейка, — подумал я. — И старик еврей». У него был иностранный выговор. Оглядев собрание, я решил, что это все сирийцы, греки и евреи. Мне показалось, что Аманд уроженец Киликии. По-видимому, это были рабы или вольноотпущенники из бедняков, но все опрятно одеты и держались спокойно. Я чувствовал, что они, как и старец, судят обо мне по моим словам и понимают меня, но они оставались для меня загадкой. — Но вот они заговорили, я слышал греческий язык и различал отдельные наречия. Я дивился, как легко они приняли меня в свою среду. Ведь лишь несколько месяцев назад их собратьев зашивали в звериные шкуры и бросали на растерзание псам, сжигали на кострах, обмазывали смолой, привязывали к столбам и поджигали, и живые факелы освещали ночные оргии Города. Они и сейчас подвергались преследованиям, особенно после такого события, как наш заговор, поднявший на ноги всех доносчиков и соглядатаев. Вероятно, Аманд пророчил конец света в огне, когда стражники напали на его след и чуть было не схватили его.
Начиная беседу, старец призвал всех соблюдать осторожность. Как видно, он хорошо знал Аманда. Хотя ни мужчины, ни женщины не должны страшиться засвидетельствовать истину о Христе, сказал он, не следует бросаться на мечи и подвергать собратьев ненужной опасности. Аманд сидел, закрыв лицо руками. Он впился ногтями себе в голову. Последовал оживленный обмен мнениями. Но мне не все было понятно — говорили на исковерканном греческом с примесью сирийского и арамейского, вдобавок я не знал, о чем идет речь. Были гневные нападки на братьев-единоверцев в Иерусалиме; об отношении секты или общины к правоверным иудеям говорилось в непонятных для меня выражениях. Большинство присутствующих были евреи, и этот вопрос казался им важным, но для меня он не имел никакого значения. Человек, только что прибывший из Эфеса, с горечью говорил о некоем Иоанне, который вел себя не лучше иудейского первосвященника, хотя его последователи и называли его любимым учеником Иисуса. Он носит золотую дощечку на лбу, с презрением сообщил он.
Затем поднялся другой и горячо обрушился на какого-то проповедника, который, по его словам, подобно Валааму, сеял раздор среди сынов Израиля, поучая их, что нет греха принимать таинство с язычниками и жениться на язычницах.
— Язычница так же нечиста, как женщина во время месячных кровотечений, — утверждал он.
— Если так, то вода крещения может ее очистить, — возразил другой.
Нападающий на Валаама почти не встретил сочувствия. Несколько мужчин и женщина поднялись и указали ему, что он дурно понял упоминаемого им пророка. То и дело слышалось имя Варнавы. Прибывший из Эфеса кричал:
— Если бы совершенство достигалось посредством левитского священства (ибо с ним сопряжен полученный народом закон), то какая бы еще нужда восставать иному священнику и по чину Мелхиседека, а не по чину Ааронову именоваться?
— Но закон остается в силе, — возражал противник.
— С переменой священства необходимо быть перемене и закона, — заявил эфесец. — Тот, о котором это говорится, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Скажу прямо. Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека восстает иной священник, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непрестающей. Ибо засвидетельствовано: «Ты священник вовек по чину Мельхиседека».
Противник эфесца заявил, что тот кощунствует, восставая против закона. Эфесец возразил, что закон не приводит к совершенству, но к нему ведет дарованная нам надежда. Ибо таким путем мы приближаемся к Богу. Спор о священниках и о клятвах затянулся. Старец заговорил слегка усталым голосом:
— Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, не причастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы, сперва за свои грехи, потом за грехи людей. Ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого. Закон поставляет первосвященниками людей, имеющих немощи, а слово клятвенное, после закона, поставило Сына, навеки совершенного.
Кое-что из его высказываний тронуло меня, но в дальнейших спорах я снова запутался. Насколько я понимал, большинство стояло за то, чтобы обращали в их веру всех и каждого; меньшинство настаивало, чтобы искали прозелитов преимущественно среди евреев. После длительных пререканий поднялся Аманд и стал говорить о грядущем пришествии Христа и о Страшном суде. С этим все согласились, хотя одни утверждали, что он придет и вознесет еврейский народ над всеми народами, а другие считали, что прославлены будут все его последователи независимо от своего происхождения. Но вот старец подвел итоги.
— Господь есть Дух, — сказал он, — и соединившийся с Господом живет Духом. — Старец решительно встал на сторону прибывшего из Эфеса. — Он источник мира, и Он сотворил как еврея, так и язычника и может из этих двух создать единого нового. — Некоторые его слова проникали мне в сердце. — Вы сбросили с себя ветхого человека с его деяниями и облеклись в нового человека, который обновляется в познании по образу создавшего его. Посему больше нет ни эллина, ни иудея, ни обрезанных, ни необрезанных, ни скифа, ни раба, ни свободного. Но Христос есть все и во всем.
Собрание стало расходиться. Уходили по двое и по одному. Улучив момент, я подошел к старцу. Он печально покачал головой.
— Многое из того, что здесь говорилось, вероятно, показалось тебе не имеющим смысла, и ты мог усмотреть досадные разногласия. Подобные споры доказывают, как трудно отрешиться от мирских разногласий и раздоров даже тем, которые соединяются с Богом и с Сыном его. Ты пришел из другого мира, и, вероятно, тебе было трудно нас понять.
Я признался, что действительно был смущен и сбит с толку, ибо считал, что люди, которым открылась истина, должны проявлять больше единомыслия. Он ответил, что овец не так-то скоро можно отделить от козлищ, требуется терпение и в этих спорах был более глубокий смысл, чем могло показаться на первый взгляд. В этот момент он вновь напомнил мне Фимона.
Если я правильно его понял, его религия не делала различия между рабом и свободным. Он подтвердил это. Значит ли это, спросил я, что последователь Христа не может иметь раба? Он ответил, что это вопрос чисто духовного порядка. Если христианин пожелает освободить раба, он поступит хорошо, но никто не принуждает его так поступать. Все люди порабощены миру сему, свобода только во Христе. Не имеет значения, какое положение занимает человек в обществе, ибо миру в любой момент может прийти конец с пришествием Христа. Я с удивлением узнал, что Христос был человеком, который жил при Августе и Тиберии и был распят при Понтии Пилате в Иудее. Я же предполагал, что он, подобно Озирису, Аттису и другим богам, почитаемым в мистериях, жил в очень давние времена, а может быть, и вне времени.
Старец выглядел очень утомленным и сказал, что ему пора идти. Все остальные ушли, кроме девушки, сидевшей рядом со мной на лавке, ее звали Катией. Она была дочерью вольноотпущенника, который погиб год назад вместе с женой. Катия убирала и охраняла подвал, и община содержала ее. Это рассказал мне Аманд, с которым мы шли до ближайшей улицы, называвшейся Длинной. Я старался запомнить дорогу. На улице неподалеку от подвала находилась синагога, построенная обжигателями извести. (Большинство евреев в Риме были чернорабочими.) Аманд предполагал, что пройдет не меньше трех месяцев, прежде чем в этом переулке начнется перестройка домов, а за это время община подыщет себе новое убежище. При малейшей возможности они складывались и устраивали общие трапезы. Прощаясь с Амандом, я обещал прийти как-нибудь вечером, когда обдумаю все, что увидел и узнал.
После этого целых три дня, несмотря на обуявший меня страх, я изо всех сил старался поверить, что могу на сей раз обрести душевный покой. Я надеялся, что здесь-то не подвергнусь обману, как в храме Изиды, и мне откроется во всей своей полноте любовь, которую мир не в силах осквернить. Приятие и отрицание обретут надлежащее место у меня в сознании, и я больше не буду терзаться неразрешимыми противоречиями. Я найду наконец себе место в жизни, познав совершенную любовь и ненависть. Мне многое нравилось в новой религии. Я чувствовал, что не смогу обвинить ее последователей в компромиссе, который оттолкнул меня от культа Изиды в момент, когда я был готов отдаться ему всей душой. Аманд сказал мне, что он и его единоверцы отказываются приносить жертву богам и не принимают культа императора; они скорей готовы умереть, чем совершить жертвоприношение. Поэтому я думал, что они не признают никакого образа правления. Но я не мог примириться с мыслью, что какой-то безвестный еврей, распятый, подобно совершившему преступление рабу, является спасителем мира, а его неотвратимое пришествие ознаменует конец света. На меня произвела глубокое впечатление горячая вера участников сборища, я почувствовал великую духовную силу, исходившую от старца, но мало-помалу это обаяние начало слабеть. «Уже много было спасителей мира, — с горечью думал я, — но еще ни один его не спас. Не спасен и я». К тому же, помышляя о жестоких преследованиях, которым подвергалась секта, я опасался поддерживать с ней связь.
Всю ночь меня обуревали противоречивые мысли и я то засыпал, то пробуждался. Стоики и республиканцы, убитые Нероном, христиане, убитые Нероном, — все хотели обновить мир, хотели увидеть нового человека. «Что же связывает их друг с другом? И те и другие восстают против существующего порядка вещей, и, несомненно, у них какие-то общие цели. Хотя и тем и другим были дороги правда, справедливость, правосудие, братство, свобода, эти слова имели различное значение в устах республиканцев или христиан».
Спустя три дня я решил еще раз сходить в подвал. Мне решительно не нравилось отношение старика к рабству. Ведь то же самое проповедовали стоики вроде Сенеки, утверждавшего, что рабы — его братья и с ними надо обращаться по-человечески, и понимавшего свободу в чисто духовном смысле. Но меня пленяло царившее у них таинственное братство, их пламенное ожидание грядущего суда и полное неприятие государства, и теперь у меня было такое чувство, что если миру и суждено обрести спасителя, то он будет подобен тому бедному распятому.
Не без труда отыскал я синагогу и переулок, где находился подвал. Я постучал. Дверь была приоткрыта. Я распахнул ее. Косые вечерние лучи падали в подвал, и мне бросился в глаза полный разгром. Сломанные табуреты, разбитая вдребезги скамья. Осторожно ступая, я сделал несколько шагов. Отвратительный запах тления. Тут я заметил труп Катии. Ее изнасиловали — может быть, их было несколько человек, — потом ей размозжили голову. Я опустился на колени возле нее и прикрыл платьем ее наготу. С окровавленной головы девушки с жужжанием взлетели мухи. Кто-то нарисовал углем на стене распятого осла. Трудно было сказать, учинила ли в погребе разгром стража или же шайка местных бездельников, ненавидевших христиан.
Я поспешил наружу и долго не переводил дыхания, словно опасаясь заразы. Потом ускорил шаг. Оглядевшись, удостоверился, что никто за мной не следит, и зашел в ближайшую таверну. Сидя за столом с кружкой горячего меда, я сообразил: налет, случившийся вскоре после моего посещения, внушит Аманду и его собратьям мысль, что донес я. Поскольку была убита только Катия, можно было думать, что убийцы нагрянули, когда она была одна. Вероятно, она бросила им вызов или боролась с ними. Если только это была стража. Ведь если б ее арестовали и подвергли допросу, от нее могли бы получить нужные сведения. Насколько мне было известно, в последнее время не слишком энергично преследовали христиан. Если начались новые гонения, то уцелевшие, несомненно, будут прятаться и постараются не попадаться на глаза. Лишь немногие, такие, как Аманд, не смогут удержаться от проповеди. Возможно, что именно его яростные обличения насторожили властей. В таком случае я оказал медвежью услугу общине, выручив Аманда в тот вечер. Если б его поймали, розыски прекратились бы, и Катия осталась бы в живых. Сейчас я видел вокруг себя сверкающие глаза и слышал оживленные голоса. Некогда и я жил так же беззаботно.
Через несколько дней я направился к Воротам, через которые въезжал в Рим, и зашел выпить кружку вина в таверну «Пигмей и слон», но ни хозяин, ни пышноволосая Гедона не узнали меня. Хозяин склонился вместе с игроками над доской, они бросали кости. Последив за игрой, я вышел за Ворота и по узким переулкам добрался до поля, где трудились земледельцы. Я спросил человека, разрыхлявшего землю мотыгой, какие у него виды на урожай. По его мнению, пшеница должна была уродиться.
— Пятнадцать дней она колосится, пятнадцать цветет и пятнадцать созревает. В нынешнем году все идет как по писаному.
Я рассказал, какие урожаи бывают у нас в Испании. Поселянин расположился ко мне, повел меня к дереву, где висела фляга. Мы выпили.
Да, не бывает плохой земли, если с толком ее обрабатывать, — сказал он. — Не все можно сеять на жирной почве, и на тощей земле кое-что вырастает. На тощей не худо сеять клевер либо бобовые. Только не мелкий горошек. Упаси бог его сеять. Правда, мелкий горошек — не из бобовых, но я так его называю, потому что его не жнут, а обрывают. Здесь земля истощена. Прошлый год посеяли люпин, а после него горох, и был прекрасный урожай. Как есть вовремя.
Мы поговорили о достоинствах капусты, которую надо иногда сажать, ибо она повышает плодородность почвы. Потом выпили еще по глотку. С легким сердцем я расстался с поселянином. День был ясный, солнечный, с холмов открывался широкий кругозор, мир был словно озарен надеждой и обнаруживал неожиданные достоинства. Мне опять вспомнился брат. Сейчас он подбадривал меня, положив свою легкую руку мне на плечо. Он всегда был моим союзником. Когда я толковал о братстве между людьми, я имел в виду нас с братом. С сестрой я постоянно ссорился. Она то и дело жаловалась на меня матери, которая всякий раз становилась на ее сторону. Так продолжалось изо дня в день. То я толкнул ее на лестнице, то порвал ей платье. Отец был человек замкнутый, казалось, он был занят важными вопросами, но обычно обдумывал самые заурядные дела или принимал какое-нибудь решение по хозяйству. Теперь мне стало ясно, что он тугодум, но он всегда хотел поступать по правде и не спешил принимать решение. Даже когда вопрос в основном был ясен, он долго колебался, если его смущала какая-нибудь незначительная подробность. Однажды он велел отстегать раба за какую-то провинность. Потом выяснилось, что тот был не виноват. Отец отпустил его на свободу и отдал ему небольшой участок земли, несмотря на протесты матери и сестры, говоривших, что ему самому нужны деньги на покупку земли, только что назначенной на продажу. Покупка так и не состоялась, он упустил время. Несмотря на кажущуюся бесхарактерность, отец проявлял большое упорство, если считал, что избрал правильный путь. Однажды я слышал, как двое землевладельцев толковали о нем на рынке в Укубах. Один заметил, что мой отец — надежный человек. Другой сказал, выплевывая кунжутные семечки: «Пожалуй, даже чересчур надежный!» Я возненавидел его за эти слова, но досадовал и на отца, который давал повод так над ним издеваться. Теперь я понял, что долгое время недооценивал его. И я гордился тем, что на него злобствовал Попидий, извлекавший большие доходы из своего поместья, где рабы работали в цепях. Отец не заковывал рабов, только один раз ему пришлось заковать фракийца, который сошел с ума и зарезал десять овец. Если раб был безнадежно ленив или склонен к воровству, отец не запирал его и не наказывал, но старался поскорей сбыть с рук. Отнюдь не идеальное решение, но оно доказывало, что он человек мягкий и справедливый, хотя и неспособный пренебречь общественным мнением. У него было достаточно силы воли, но не хватало ума. Если он был уверен, что принял верное решение, он твердо шел к цели, наперекор всем соседям, землевладельцам и торговцам, даже наперекор близким.
Я сидел на солнце, слабый ветерок слегка волновал колосья, навевая отрадные воспоминания о доме. Впервые со времени своего детства я почувствовал глубокое уважение и любовь к отцу. Я понял, что у матери не было оснований его критиковать. Но все же я знал: он никогда не поймет, что случилось со мной в Риме, сколько бы я ему ни растолковывал. В эту минуту я был счастлив, но то было блаженство покойника, чье сердце перестало биться и который уже не несет никакой ответственности, который обрел блаженную полноту духовных сил и понимание всего сущего, но уже не может действовать. Я страшился возвращения на родину, ведь тогда я утратил бы спокойствие, какое испытывал сейчас, и радость единения с непорочной матерью-землей. Но если бы я мог навсегда сохранить в душе это чистое благоговение, наверняка разрешились бы все мои недоумения и я обрел бы свое скромное место на земле, тайный, но полноценный душевный мир.
На обратном пути я остановился посмотреть на пышный поезд сенатора, отправлявшегося со своей супругой на загородную виллу. Они вот-вот должны были тронуться в путь. Скороходы уже готовились расчищать дорогу. Мавры в красных туниках и нумидийцы сидели на чистокровных конях, на одном был бронзовый намордник. В экипажи были впряжены фригийские кони в серебряной сбруе. На первой коляске я увидел стол для игры в кости. Низкорослые откормленные галльские лошади в пурпурных, вышитых золотом попонах тащили повозки с поклажей; во второй коляске сидели мальчики в золоченых масках, скрывавших их нежные черты. В третьей на подушках сидел секретарь, держа на руках статую Венеры в человеческий рост. Сперва я подумал, что он страстно ее обнимает, но потом сообразил, что ему велено оберегать ценную скульптуру от тряски на ухабах. Задняя повозка была нагружена корзинами со свежими овощами, которые везли в деревню. Я знал, что эта подробность позабавила бы Марциала. Мне подумалось, что стоит ему рассказать это, и тут же я спросил себя, почему так упорно его избегаю.
За Воротами я увидел вывеску гостиницы «Аполлон и Меркурий», на которую не обратил внимания, направляясь за город. «Здесь Меркурий дарует тебе богатую прибыль, Аполлон — здоровье, хозяин Септим — хорошее угощение и мягкую постель, все посетители останутся довольны. Остерегайтесь дурных подражателей». Я сделал крюк, обходя храм Великой Матери на Ватикане, где деловито сновали почитатели. Вокруг храма толпились нищие, продавцы амулетов и сосновых шишек, которыми поддерживали священный огонь. Закутанные до самых глаз жрецы-евнухи гордо прошли мимо, толпа расступалась перед ними. Из-за ограды неслись раздирающие звуки флейт и кимвалов. На минуту это заинтересовало меня, но я не стал задерживаться. Довольно с меня богов-спасителей, я мог обойтись без полногрудой Кибелы и без братства, почитавшего молодого человека, принесенного в жертву и повешенного на древе. Мне нужна была иная свобода, не та, которую сулили люди во фригийских колпаках. Купив пригоршню хиосских фиг, я зашагал домой.
Возле Тибра мне преградили путь пышные похороны. Впереди шли люди, игравшие на флейтах и дувшие в рога, за ними длинная вереница родственников, друзей, клиентов и плакальщиков, издававших пронзительные вопли. Позолоченные носилки задели вывеску — пять сколоченных вместе деревянных окороков, она покосилась и чуть не упала. Лавочник выскочил на улицу и стал браниться. Представитель похоронного заведения грозил подать на лавочника в суд за испорченную позолоту. Плакальщицы окружили лавочника и принялись его колотить; он отступил, потом вернулся с метлой.
— Убирайтесь со своей падалью, — орал он, — а не то я смету вас в мусорную яму!
Порядок был восстановлен, процессия двинулась дальше, но, пока не прошел последний голосистый плакальщик, лавочник стоял на пороге в воинственной позе с метлой в руках. Я зашагал дальше. Впереди меня шел поселянин, он показывал своему знакомому семь кружек из грубого сагунтского фаянса, которые нес юристу, обещавшему поддержать его в тяжбе из-за какой-то межи. Я заметил, что метя уже почти не интересуют подобные мелочи, штрихи повседневной жизни. Свернув в боковую улицу, я увидел группу человек в двенадцать, которые обступили тощего мужчину в грубом плаще с капюшоном, стоявшего на тесаной каменной плите. Странствующий киник, давший обет бедности. Он призывал народ отказаться от порочных путей, не заниматься куплей и продажей и вести жизнь, близкую к природе.
— Что бы вы ни покупали и ни продавали, вы всегда торгуете самими собой. Раздробляете себя и приближаетесь к смерти. Покупая что-нибудь или продавая, вы неизбежно теряете часть своего существа.
Его слушали с натянутой, смущенной улыбкой. Слушатели признавали его правоту, но ничуть ему не сочувствовали. Лишь какой-то тучный торговец то и дело перебивал оратора:
— Разве не требуется крыша во время дождя? Глупо говорить, что природа обо всем позаботится.
— Мы должны сделать выбор: идти путем жизни или путем смерти. Идти путем, указанным природой, на котором мы обретем мир и братство, или путем алчности, на котором встретим жестокую несправедливость законов и который приведет к мерзостям кровавого Амфитеатра. Власти накинут нам на шею петлю и мало-помалу затянут ее.
— Он хочет, чтобы у меня с ним была общая жена, вот оно что! — заявил торговец, словно уразумев суть его слов. Он оглядел присутствующих с торжествующей усмешкой. — Посмотрите-ка на этого гнусного оборванца.
— До этого мы уже дошли, — вставил высокий лохматый мужчина, который только один рукоплескал кинику. — Это единственный завет природы, который еще сохранился в нашем ужасном мире.
— Уж своей-то женой ни с кем делиться не стану! — выкрикнул торговец. — Ты ее не видел, а не то бы молчал, — Он снова повернулся к кинику. — Скажи мне напрямик, уж не думаешь ли ты, что я поделюсь своими деньжатами, что заработал собственным горбом? Поделюсь с лентяями да лежебоками?
— Да, это было бы на пользу твоей душе и телу, — мягко ответил проповедник.
— Послушайте! Слушайте, что он несет! — воскликнул возмущенный торговец. — Да он рехнулся!
— Если вы все так поступите, то увидите, что в скором времени не останется лентяев. И откуда возьмутся воры, если нечего будет воровать?
— Послушайте только его! — восклицал торговец, оглядывая присутствующих.
Никем не замеченные, в стороне стояли и слушали трое стражников. Но вот они растолкали толпу и стащили киника с его трибуны.
— Снова сеешь смуту? — сказал один из них. — Тебе сказано было убираться из Города!
— Почему вы не запретите дуть ветру и лить дождю? — ответил киник. — Почему говорите это мне, ведь я их брат!
— Его только послушать! — презрительно бросил торговец. Он стал науськивать стражников: — Валяйте, всыпьте ему горячих!
Стражники сдернули с проповедника рваный плащ и обнажили ему спину. На нем была грубая туника, и он был бос. Они разложили его на плите, схватили бич и принялись его стегать. Толпа, уже значительно увеличившаяся, немного подалась, чтобы стражник мог как следует замахнуться бичом. За киника заступился лишь высокий мужчина. Но когда и ему пригрозили арестом, он исчез. Киника хлестали, пока его спина не стала сплошной раной. Он не был связан, никто его не держал, но он не пытался бежать. Вероятно, это особенно разъярило стражников. Приказав своей жертве покинуть Город до темноты, они удалились.
— Так тебе и надо! — проговорил торговец и плюнул ему на окровавленную спину. Толпа стала расходиться, но несколько человек остались стоять, смущенно поглядывая на распростертого киника. Через некоторое время он с трудом повернулся и сел. Морщась от боли, он подобрал свой плащ и кое-как прикрыл им спину.
— Что ты станешь делать? — спросил я его.
Он повернулся ко мне, в глазах его светилась, теплая ласка, как во взоре Фимона, и глубокая мудрость, как у старца, последователя Христа.
— Буду делать то, что делал всегда, — медленно проговорил он, словно каждое слово причиняло ему боль и требовало усилия. — Мне жаль несчастных, которые меня били. Как ужасно обладать такой извращенной волей и так поступать! Я не могу плакать. Но если бы мог, то плакал бы о них.
К кинику робко подошла женщина и положила краюху хлеба ему на колени. Он поблагодарил ее. Вся в слезах, она опустила голову и отвернулась. Я помог ему встать.
— Я не могу идти твоим путем. Я хотел бы. Но у меня недостает силы.
— И у меня нет силы. Нет у меня и воли. Я просто разорвал путы зла.
Я ответил с твердым убеждением:
— Я тоже их разорву, хотя, быть может, приду к этому другим путем.
— В конце концов ты вступишь на мой путь. Сломи злую волю. Но не усилием воли. Это только усилит злую волю. Сломи ее, избрав новый путь.
Мне хотелось плакать, как плакала женщина, но я подумал, что слезами не выразить своего уважения человеку, проявившему такое отсутствие жалости к себе.
— Я никогда не забуду твоих слов и твоего примера.
Он улыбнулся, хоть и это причиняло ему боль.
— Может быть, ты и забудешь. — Прихрамывая, он сделал несколько шагов. — Что ж, забудь обо мне. Но всегда помни о том, что живет в тебе, — он сморщился от боли, — о своей сокровенной сущности, которая едина с природой и воистину человечна.
Я предложил проводить его, но он сказал, что боль легче переносить в одиночестве. Я прикоснулся к его руке и удалился. Шел, не глядя перед собой и не соображая, куда направляюсь. Как мог человек достигнуть такой душевной чистоты и такой устремленности? Я чувствовал, что у меня в душе безнадежно перепутались добро и зло, что меня влечет в разные стороны, манят разные цели. Могу ли я осуществить принципы киника и, не прибегая к компромиссам, прожить жизнь среди людей, принимая посильное участие в их деятельности? Теперь я ясно осознал, что это моя главная задача. Хотя я и не принимал идей Фимона и Аманда, я был им обоим глубоко благодарен. Заветы киника не проникли бы так глубоко в мою душу, если бы я не испытал любви Изиды и не видел у христиан тесное единение и великую силу сопротивления. Внезапно мне открылось, что я твердо стою на земле. Я видел самое худшее и все же был в силах жить. Этим я обязан кинику, Фимону, Аманду и своему отцу. На меня снизошел мир, страх покинул меня, хоть я и чувствовал усталость. Как могло это случиться? Я достиг покоя, непоколебимой точки, где сливаются воедино приятие и отрицание. Я больше не буду многократно умирать, пока не придет окончательная смерть. Я человек и знаю, что такое человек. Человек. Неожиданно я обнаружил, что нахожусь близ Квиринала. Почему бы мне не навестить Марциала? Я направился к нему по переулку. При моем приближении над крышей дома взлетела стайка голубей и стала описывать в воздухе круги. Доброе предзнаменование.
Он оказался дома.
— Я не раз спрашивал себя, что с тобой случилось, — проговорил он, а Тайсарион, как всегда ловкая и проворная, с легкой приветливой улыбкой принесла нам разбавленного вина. — Поверь, я нередко вспоминал тебя. Я справлялся о тебе. Узнал о твоем освобождении, но никто не мог сказать, куда ты девался. Почему ты не приходил?
Я попытался объяснить:
— Я боялся тебе повредить. И я не знал, что предпринять. Мне следовало побыть в одиночестве, чтобы разобраться в самом себе.
— Что же, ты разобрался?
Я улыбнулся.
— До известной степени. Я решил возвратиться домой. В Испанию. — Я умолчал о подарке Поллы, умолчал и о храме Изиды. Я знал, он усмехнется и скажет, что жрецы ловко меня одурачили. — Пропали письма отца, в которых он рекомендовал меня лицам, связанным с ним деловыми отношениями. Во всяком случае, после такой проволочки они вряд ли пригодились бы.
— Посмотрим, нельзя ли что-нибудь сделать, — участливо сказал он. — Не отчаивайся. — Он проявлял ко мне искреннюю дружбу, и мне стало стыдно, что я дурно думал о нем. Вероятно, я мог бы ему помочь в ту пору, когда дружил с Луканом, но мне и в голову не приходило спросить, в чем он нуждается, и я не пытался узнать у других. Это было ниже моего достоинства.
Он сказал Тайсарион, что я остаюсь у них обедать, и она купила у Фаона двух откормленных голубей и принесла, предварительно обломав им лапки. Марциал очень тактично вел разговор, болтал на литературные темы, передавал городские сплетни. У Помпулла расстройство желудка. Уверяют, что он объелся своими поэмами. Кана страдает от газов и повсюду водит с собой комнатную собачонку, чтобы было на кого свалить вину. И все втаком духе. Он рассказал мне анекдот про неуклюжего галла, который, возвращаясь поздно ночью домой по Крытой дороге, споткнулся о валявшуюся на земле черепицу, вывихнул ногу и растянулся во весь рост на мостовой.
— С ним был лишь один тощий раб, который с трудом нес светильник. Но вот появились четверо клейменых рабов, тащившие покойника из тех, что сжигают гуртом на кострах. «Мой господин помер, не донесете ли вы и его, у меня нет сил», — дрожащим голосом попросил раб. Носильщики швырнули на землю бедняка и положили галла на носилки.
Марциал лишь один раз коснулся заговора. Он не мог удержаться и рассказал о Меле, которого так ослепила алчность, что он потребовал себе состояние, оставшееся после Лукана. Фабий Роман, преданный друг поэта, которого я не встречал, ибо он находился в Карфагене, до того возмутился, что назвал Мелу участником заговора.
Мне думается, он подделал несколько писем. Если это так, он совершил преступление из добрых побуждений. Мела покончил с собой. Но на этом не кончились его гнусные проделки, В своем завещании он оклеветал двоих людей — один из них уже умер, другому пришлось вскрыть себе вены. Правда, подозревают, что эти строки были кем-то вписаны в завещание после его смерти. Но я думаю, это его работа.
Марциал не касался вопросов морали, но я чувствовал, что он хочет развенчать в моих глазах людей, с которыми я общался. Меня соблазняло рассказать ему про киника, но чутье подсказывало, что в беседе с ним не следует затрагивать серьезных тем.
Я ушел от него еще засветло, набравшись бодрости, его уравновешенность благотворно подействовала на меня. В этом человеке, лишенном иллюзий, было нечто испанское, больше простоты и тяготения к земле, чем у коренных римлян. Он внушил мне страстное желание вернуться домой. Он показал мне, что, несмотря ни на что, можно жить среди людей. Я снова осознал благие свойства земли и оценил людей, трудившихся на ней и собиравших ее плоды. Вероятно, при существующем положении вещей невозможно всецело отказаться от купли и продажи, которые так осуждал киник. Но человеку не следует уходить с головой в дела, пусть он не дает себя в них затянуть, а главное, пусть всегда сознает, что существуют другого рода ценности. Главное, не надо лгать и обманывать самого себя, как это делал хотя бы Сенека, собравший бесценную коллекцию великолепных столов, — он оправдывался, уверяя с притворной скромностью, что не хочет идти против господствующей моды и прослыть чудаком.
Утром я развернул свиток с творениями Персия. Мне попались следующие строки:
Как же, однако, никто в себя не заглянет,
Но постоянно глядит в спинную котомку передних!..
…Коль ты, негодяй, завидя деньги, бледнеешь,
Коль потакаешь во всем своей ты похоти мерзкой,
Коль, хоть с опаскою, ты у колодца дерешься, уж битый,
Без толку брось представлять толпе свои жадные уши.
Плюнь ты на лживую лесть, прогони подхалимов корыстных;
Внутрь себя углубись и познай, как бедна твоя утварь
[154].
Тут вошел Феникс и сказал, что ко мне гости. По виду слуги я понял, что случилось нечто необычное. Когда я спросил его, кто именно, он ухмыльнулся, вышел и привел Герму. Глаза у нее распухли от слез и голова была стыдливо опущена. Два дня назад она встретила в Субуре Феникса и узнала от него, где я живу. Я предложил ей сесть и послал Феникса за медовыми пряниками и легким вином. Потом спросил ее о Полле. Она ответила неторопливо и кратко, сложив худенькие руки на коленях. Полла ходила в глубоком трауре, хотя и опасно было носить траур по мужу, обвиненному в государственной измене. Против нее уже выдвинули обвинения люди, зарившиеся на ее долю имущества, которая не была конфискована. Но власти до сих пор ничего против нее не предпринимали, видимо, они не придали значения и словам Лукана, выдавшего собственную мать. Было ясно, что у Гермы какое-то личное горе, однако я не хотел вырывать у нее признания. Под конец я взял ее за руку. Она заплакала навзрыд и рассказала, что ее выдают замуж за раба, за одного из молодых прислужников, о котором известно, что он сын домоправителя, хотя мать его была рабыней, и притом замужней. Я спросил ее, обращалась ли она к Полле.
— Она сказала, что я слишком юна, чтобы разобраться в своих чувствах.
— Может быть, она и права? Ведь иначе…
Она горько зарыдала. Я нежно обнял ее.
— Герма!
Она с надеждой посмотрела на меня широко открытыми глазами, приоткрыв рот.
— Да, — шепнула она.
Мне стыдно было признаться, что у меня нет денег, чтобы ее купить, если Полла на это согласится. Видимо, Герма надеялась на мою помощь. Меня раздирали противоречивые чувства. Я страшился новых осложнений, мне и так не удавалось разрешить целый ряд проблем, но вместе с тем я чувствовал, что должен оправдать ее доверие, что-то влекло меня к Герме, хоть я и не испытывал желания.
— Ты хочешь перейти ко мне? — Надо было выяснить все до конца. Она кивнула. — На каких условиях?
— На каких условиях? — Она не поняла моего вопроса. Потом вспыхнула и сказала: — Я буду твоей рабой, как же иначе? — Она попыталась отстранить меня. — Разве ты не хочешь меня?
— Да, да, — ответил я, стараясь ее успокоить. — Но я потерял все свои деньги и теперь не знаю, где достать нужную сумму.
Она пристально посмотрела на меня своими большими глазами, словно внезапно заподозрила в неискренности и хотела доискаться правды.
— Ты не хочешь?
— Хочу, хочу, — сказал я. — Но что я могу сделать?
Она ничего не ответила. Я чувствовал, что она осуждает меня, что я не оправдал ее надежд. Ну ничего. Что-нибудь придумаю. Я размышлял, есть ли смысл идти к Полле и вступаться за девушку. Полла простилась со мной навсегда, и я не осмеливался просить ее о вторичном свидании.
— Я напишу твоей госпоже и попрошу ее, чтобы она не неволила тебя. Если это не поможет, придумаю еще что-нибудь.
— Ты будешь просить за меня, да? — нежно сказала Герма.
Я намеревался лишь попросить Поллу, отложить или отменить брак Гермы. Но, заглянув в милое лицо девушки, некрасивое, но такое искреннее и доверчивое, я передумал.
— Разумеется. Ты отправишься со мной в Испанию.
— Мне все равно.
Она улыбнулась и вытерла слезы, уверившись в моей искренности и не сомневаясь, что моя просьба увенчается успехом. Но я не был ни в чем уверен. Я поцеловал ее в лоб и в губы. Казалось почти невероятным, чтобы Полла пошла мне навстречу. Герма встала и принялась убирать комнату, словно это было уже ее обязанностью. Но я сказал ей, чтобы она возвращалась домой.
— После обеда я пошлю Феникса с письмом. Тебя разбранят, если ты будешь долго отсутствовать. Не следует раздражать госпожу.
Она послушно вышла, поцеловав мне руку. Я испытывал унижение, с горечью сознавал свое бессилие, был неуверен, хочу ли я, чтобы Герма жила у меняли даже не представлял себе, какое место она займет в моей жизни, если вернется. Но все же я сразу уселся за письмо. Я делал это против воли и сознавал, что нельзя откладывать, а то я больше не соберусь его написать. Хоть мне и не верилось, что я смогу тронуть Поллу, я подыскивал самые убедительные слова. «Я собираюсь возвращаться в Кордубу, — писал а. — Я так тебе обязав, что с трудом решился обратиться еще с одной просьбой. У тебя есть молодая рабыня, Герма, к которой я очень привязан и которую хотел бы взять с собой в Испанию. Бели ты по доброте сердца пойдешь мне навстречу, то расспроси Герму. Если ты не удостоверишься, что она от всей души принимает мое желание, то забудь о моем письме. Бели же ты дашь свое согласие, убедившись, что моя просьба отвечает желаниям Гермы, то я буду благословлять тебя и помнить твой поступок до конца своих дней, как бы я ни прожил свою жизнь». Следовало ли мне предложить уплатить Полле за девушку позднее, по возвращении в Кордубу? Я решил этого не делать. Подчеркнуть коммерческую сторону вопроса значило бы охладить Поллу. Я мог лишь надеяться, что в ней заговорит гордость, что она проявит великодушие, поддастся искреннему порыву, я угадывал в ней мягкосердечность, чувства, для которых не находил слов.
Я вручил письмо Фениксу, и он весело отправился исполнять поручение. Как и Герма, он считал, что мне стоит только попросить, и дело будет сделано. Вся эта история крайне меня угнетала. Впервые после принятого мною решения изменить свою жизнь я испытывал чувство ответственности за существо, взывавшее ко мне. Мне было бы горько, если б я потерпел неудачу. И я страшился, что Герма чрезвычайно меня обременит. Но я старался писать как можно убедительнее, это оказало на меня действие, и я — пусть ненадолго — поверил, что в самом деле хочу иметь эту девушку. В голове роились всевозможные планы: я собирался по возвращении домой раздобыть денег на выкуп Гермы и сделать это через посредника, который не открыл бы мое имя. В конце концов я мог выкупить и Герму и ее мужа. Я пришел к убеждению, что Полла, узнав, что мне хочется иметь Герму, ни за какие деньги не согласится ее продать, заподозрив у меня какие-нибудь черные планы.
— Я постарался успокоиться и стал ждать ответа. К концу дня я сошел вниз и принялся ходить взад и вперед по улице, я смотрел на играющих ребятишек, на мальчугана, тащившего игрушечную повозку, нагруженную кувшинчиками из-под рыбного соуса, на младенца, который сидел посреди улицы на высоком круглом стуле, просунув ножки в отверстия в доске, на девочку, нянчившую тряпичную куклу. Я ходил, сознавая, что за мной следит из окон и дверей множество любопытных глаз. На всех окнах, где только были достаточно широкие подоконники, стояли ящики с цветами. В лавке канатного мастера теперь водворился торговец духами и мазями. Соседи уверяли, что он пополнял свои запасы лаванды, мирры и киннамона, похищая их с погребальных костров. Поэтому ладан у него всегда обгорелый. Я остановился перед вывеской, которую он повесил только этим утром: «Почет и уважение тому, кто благоухает». Его дородная супруга, родом сириянка, уже поведала свои огорчения костлявой женщине, ее соседке слева, чей муж торговал ножами всевозможных образцов и в настоящий момент одним из этих орудий выскребывал сковородку для яичницы с четырнадцатью круглыми лунками.
Отвернувшись от вывески, я увидел перед собой Феникса. Он стоял, посмеиваясь, пряча за спиной Герму. Широко улыбаясь, он подал мне табличку. Я прочел: «Я отпустила девушку на волю. Пусть она поступает, как ей вздумается». И все. Я сделал знак Фениксу и Герме следовать за мной, и мы поднялись наверх. Усевшись на кровать, я попытался оценить положение.
— Ты свободна, — сказал я Герме. — Понимаешь? — Она кивнула со сдержанной радостью. — Так что же ты собираешься предпринять? Полла пишет, что ты вольна поступать, как тебе заблагорассудится. Она не требует, чтобы ты уплатила ей за себя из своего будущего заработка, и не намерена за тобой наблюдать. Понимаешь?
— Да, — ответила она уже не так весело.
— Куда бы ты хотела поехать? Чем ты хочешь заняться?
На глаза у нее навернулись слезы и покатились по щекам.
— Я хочу остаться у тебя. Если нельзя, я опять стану рабой у моей хозяйки.
— Все было бы проще, будь ты моей рабой, — ответил я, и мне пришло в голову, что Полла отпустила ее на волю, чтобы создать мне новые трудности. Но, разумеется, я был к ней несправедлив: Полле просто захотелось сделать красивый жест и притом поставить Герму в такое положение, в котором она не зависела бы от моей прихоти. — Ты знаешь, что можешь поехать, куда тебе вздумается?
— Я не хочу никуда ехать. Я хочу быть с тобой. Но если я тебе не нужна… — Она вспыхнула. — Если так проще, то я буду всем говорить, что я — твоя раба.
— Нет, этого нельзя делать. — Увидев, что у нее глаза полны слез, я добавил: — Но, разумеется, ты можешь жить здесь.
Она вытерла глаза рукавом.
— Можно мне убирать? — спросила она, повеселев.
— Если только не обидится Феникс.
— О, он не будет возражать.
Однако я заметил, что это ему не безразлично, И послал его купить пирожных, маслин, овечьего сыра, но тут же вернул его и осведомился, сколько у нас с ним осталось денег. Оказалось, что более чем достаточно на скромное угощение. Вопрос был улажен.
— Мы пригласим всех квартирантов, с которыми мы в дружбе, — сказал я.
Испугавшись, что ему одному не справиться со столь ответственной задачей, Феникс кинулся советоваться с Гермой. Я предоставил им действовать по их усмотрению, а сам сидел у окна и смотрел на ссорившихся воробьев, на случайно залетевшего сюда голубя, на женщину, что высунулась из окна и звала домой ребенка. Потом заглянул в свиток Персия. Строчки, которые я знал наизусть, по-прежнему меня волновали — то ли меня захватывала пронизывающая их печаль, то ли я поддавался очарованию своеобразной стихотворной формы.
Верно, свобода нужна, но не та, по которой любому
Публием можно стать из трибы Велинской и полбу
Затхлую даром иметь…
Что за охота вносить наши нравы в священные храмы
И о желаньях богов судить по плоти преступной?
[155]
Все тот же заколдованный круг. Поэт чересчур богат, ему слишком хорошо живется, он не в силах изменить недостойный образ жизни, какой ведет, пребывая в развращенном обществе, и только осуждает его с позиций моралиста. Внезапно внутренний голос сказал мне: не разглагольствуй слащаво о рабстве, как Сенека, смирись с ним, толкуя о духовной свободе, как христиане, и не признавай его необходимость, как рядовые граждане. Попросту покончи с ним. Именно это имел в виду киник. И я не сомневался, что Сильван согласился бы с ним. Воспоминание о Сильване причинило мне боль. Я старался не думать о нем с тех пор, как Патерн сообщил мне о его самоубийстве. Почему он бросился на меч? Какие нестерпимые противоречия и роковые ошибки он осознал, взглянув на мир другими глазами после всех этих казней? Был ли я сильнее или слабее его, я, который сгибался, как тростник на ветру? Но как бы я ни ответил на эти вопросы, мне ясен был мой долг. Я должен отпустить Феникса на волю, хотя и знаю, что это его обидит, ибо он подумает, что я хочу избавиться от него. Я решил отложить это ненадолго, подождать, пока мы приедем в Испанию, тогда уж и приведу в исполнение все свои замыслы.
Он взял корзину и ушел, как всегда тяжело ступая. Я наказал ему, чтобы он приглашал всех, кто встретится ему на лестнице. Через полчаса он вернулся, нагруженный всевозможной снедью, снова посовещался с Гермой и опять ушел. Пока что были приглашены Ирида и ее теперешний друг матрос, клакер с женой, продавец соней и его сестра, акробат и мальчик, его помощник, да толстая вдова с двумя сыновьями-плотниками. Я заметил, что, пожалуй, больше в нашей комнате и не поместится. Но, вернувшись, Феникс признался, что ему пришлось пригласить портового грузчика с женой и свояченицей. Я уже начал раскаиваться, что затеял это угощение, и снова послал его за вином, хотя он доверительно сообщил мне, что гости сами принесут угощение, а Ирида всегда может дать взаймы несколько фляг вина из своего запаса, хранившегося под кроватью.
Почему я все это затеял? Чтобы держать Герму на некотором расстоянии и вместе с тем отметить наше сближение, отпраздновать ее приход? А может быть, чтобы отпраздновать свое возвращение к нормальной жизни, которое еще под вопросом? Пока что я делал вид, что погрузился в Персия, и лишь временами поднимал голову и обменивался улыбкой с Гермой, которая возилась в комнате, делая какую-то ненужную уборку, — уж очень ей хотелось почувствовать себя дома. Я все больше досадовал на себя, что окликнул тогда Феникса. Я предвидел, что эта пирушка доставит мне мучения и я потрачу на нее все свои сбережения и силы.
Герма подошла и положила руку мне на плечо.
— Ты рад, что я пришла?
Я улыбнулся и поцеловал ей ладонь. Я был рад, но при этом расстроен. Одно дело взять ее как рабыню, другое — везти в Бетику как вольноотпущенницу: как объяснить родным ее появление? И все же, если быть верным клятве, которую я мысленно дал кинику, пока его истязали, не следует держать при себе рабыню. До чего же трудно осуществлять высокие принципы в повседневной жизни. Как легко отступиться от своего решения, хотя бы частично изменить ему, пойти на компромисс, придумывая всякие извинения! Вдобавок Герма меня не волновала. Она нравилась мне, а теперь я чувствовал ответственность за нее. Вот — и все. Она была такая юная, милая и робкая, так всему радовалась. Я ни за что на свете не стал бы ее огорчать. И только.
— Я очень рад.
— И ты возьмешь меня с собой, куда бы ни поехал?
— Да, — Я пожал ей руку.
Феникс нагромождал в углу всякую снедь — фрукты, ветчину, медовые пряники, ватрушки, маслины, орехи, вареные яйца, мед в сотах, свеклу, сваренную с перцем в вине, головки вестинского сыра, бочонок с соленой рыбой и кувшины с вином. Он одолжил чашки у клакера Пруника, их принесла его жена Лоллия, угловатая женщина, которая сразу же завела с Гермой разговор о прическах. Меня удивило, как сведуща в этой области Герма. Сама она носила завитую челку на лбу и две косы, падавшие на плечи. У Лоллии волосы были высоко взбиты кверху, и, задевая прической наш низкий потолок, она сметала с него паутину.
— Ты хотел бы, чтобы я причесывалась, как она? — спросила меня Герма, когда Лоллия ушла, и, кажется, огорчилась, Когда я ответил отрицательно.
— Правда, волосы у меня слишком короткие для такой прически, — утешала она себя, — А покупная коса дорого стоит.
Первыми пришли Ирида и ее матрос, худощавый веселый малый, уроженец Тира. Вскоре появились остальные, и комната наполнилась гостями. Мне показалось, что нужно дать кое-какие пояснения, я поднялся и сказал, что мне очень приятно жить среди них, но вскоре я собираюсь вернуться на родину в Испанию, и мне захотелось на прощание по-соседски выпить с ними по кружке вина.
— Пировать можно под любым предлогом, — сказал человек, откармливавший соней, от которого несло затхлой кислятиной. — А то и без всякого предлога. — Звали его Фульбунгом.
С ответным тостом поднялся Пруник. Он считал, что разделяет мои литературные вкусы, ибо ему не раз приходилось дремать на публичных чтениях или в собраниях, где выступали ораторы.
— Мы все рады, удовлетворены и польщены тем, что среди нас такой превосходный и велеречивый гражданин, — заговорил он напыщенным тоном и чересчур громко для маленького помещения. Пруник любил употреблять пышные слова, смысл которых был ему непонятен или только отчасти понятен. Без сомнения, наслушавшись риторов, он пришел к выводу, что всякая фраза хороша, лишь бы ее закруглить и зычно выкрикнуть. У него был здоровенный нос, из которого торчали волосы, а в промежутках между фразами он пыхтел, издавая что-то вроде хрюканья, — видимо, он воображал, что это самый изящный способ прочищать горло. — Некоторые лица, которых я не стану называть, быть может по своей абсурдности, кое-что и говорили у тебя за спиной, потому что всегда находятся демагоги, готовые порицать человека, если его постигло крушение. Но у меня не в пример прочим совесть чиста, как лилия. Я всегда говорил, что это добросердечный, безвинно опороченный знатный человек, испытавший финансовые затруднения, и что у нас отродясь не было соседа, который бы так остерегался правонарушений, даже в праздники, когда допустимо и пошалопайничать на улице и на это смотрят сквозь пальцы.
Гости одобрительно кивали, восхищаясь ораторским пафосом, за исключением продавца соней, на которого все время пристально смотрел Пруник, просто, видимо, желая сосредоточиться, но отнюдь не указывая на него как на моего хулителя.
— Что это ты так уставился на меня? — спросил Фульбунг. — Моя совесть такая же чистая, как твоя, раз уж ты так себя хвалишь. Ей-ей, это не я распространял слух, что наш друг прибыл сюда из Неаполиса, потому что полиция там его искала за кражу со взломом…
— Это ты куда гнешь и в кого метишь? — рявкнул Пруник.
— Не в моем обычае. Пусть занимаются намеками те, у кого голос позычней. Я только сказал.
Тут вмешался я, предложив всем выпить. Феникс с матросом разливали вино и передавали гостям. Но Пруник непременно хотел докончить свою речь.
— Как я вас уже уведомил, перед тем как меня так грубо прервали, парень, занимавший эти комнаты до нашего высокочтимого друга, — все вы хорошо его знаете, его звали Марулом, и у него было рыло, как…
— Я не знаю, — сказала Ирида.
— Потому что в то время не ты, а Серина опустошала карманы матросов…
— Всыпь-ка ему, Оарис, — обратилась Ирида к своему приятелю. — Такой подлец! Как-то утром я пустила его к себе, он обещал мне заплатить через неделю, а вот уж месяц не платит…
— Ложь, сладкозвучная ложь! — загремел Пруник. — Ты хочешь посеять раздор между мной и моей женой.
— Ах, разве это твоя жена? — с невинным видом спросила Ирида. — Я думала, это твоя бабушка.
К счастью, в комнате было так тесно, что Лоллия не могла добраться до Ириды. Громко всхлипнув, она хватила мужа кулаком. Грузчик Сулемнис, пытавшийся их разнять, получил по уху. Я снова предложил выпить, и на этот раз все примолкли, только Ирида и Лоллия потихоньку перебранивались. Однако Пруник обязательно хотел высказаться до конца.
— Итак, я порицал привычку Марула, который проскальзывал в мою комнату, если мне случалось на минуту выйти, и постоянно проделывал всякие пакости. Но, собравшись с мыслями, я беру на себя смелость постулировать, что ни одна женщина, ни один мужчина и ни одна собака в нашем доме не может пожаловаться на безденежное поведение нашего высокоодаренного и постигнутого несчастьем друга. Будучи его ближайшим соседом, я, как никто, порицаю подобную распущенность. Ибо, хотя меня весьма нелогично осыпали клеветой и облили помоями, на нашей улице нет столь благословенного брака, как мой. И нет столь целомудренной и премудрой супруги, как моя, она ухитряется на грош прожить дольше, чем другая на серебряную монету. Если бы я не превозносил нашего искушенного в софизмах друга, я проговорил бы всю ночь, расхваливая свою милую женушку, да будет она благословенна. — Эти похвалы смягчили Лоллию, она приосанилась и гордо вскинула голову. — Уж я могу отлучиться из дому на несколько часов, — продолжал он, — в полной уверенности, что, вернувшись, найду ее столь же безвозмездной, как ее покинул, не так ли?
— Это так же верно, как то, что я сижу на собственном заду, — сказала Лоллия.
Грузчик громко заржал, и она совсем смягчилась.
— Все дело в том, — заявил Фульбунг, — что мы пьем за его здоровье, и вдобавок доброе вино! Но, сказать по правде, я не хуже хлестал бы вино, будь у меня столько баб, как у Марула. Что и говорить, он был мастер рассказывать веселые побасенки. Даже когда я слышал их во второй раз, надрывал со смеху живот. При этом он умел вращать глазами, как колесами.
— Однажды он колесом скатился с лестницы, — ввернула Лоллия. — Это когда его вышвырнули из комнаты Хариты.
— Куда переехала Харита? — спросила вдова Мефа. — Она задолжала мне три яйца и кружку соли.
— В Остию, — ответил Сулемнис. — Муж развелся с ней после того, как свел знакомство со вдовой — хозяйкой винного погребка. Не так давно я слышал, что она сошлась с сардинцем, что скупает железный лом.
— Ежели ее потрясти, у нее внутри что-то гремело и вываливались зубы, — заявила Лоллия. — Наконец-то она нашла себе подходящий дом!
Помощник акробата Суке, мальчик с красивыми черными локонами, стал кувыркаться, а его хозяин Кинискул играл ему на свирели. Но было так тесно, что мальчик опрокинул флягу с вином на колени Ириды.
— Лучше бы лил вино мне в рот, — сказала Ирида и поцеловала мальчика. Это не понравилось Кинискулу, и он демонстративно вытер мальчику губы.
— Я не отравила его, — сказала Ирида. — Находятся люди, что платят деньги, чтобы поцеловать меня в зад, и нечего тебе ершиться из-за моего поцелуя.
— Поселяне платят деньги за телегу навоза, — возразил акробат, — но мне его даром не надо.
Оарис спас положение, запев дребезжащим голосом на греческом языке песенку про толстуху из Коринфа. Вслед за ним Сулемнис спел на портовом жаргоне песню про ростовщика из Неаполиса, который отправился в преисподнюю за медяком, закатившимся в крысиную нору, и там основал с Радамантом компанию по вывозу сушеного асфоделя — средства от запоров. Начинало смеркаться, и Герма зажгла глиняные светильники.
Акробат, жонглируя вареными яйцами, уронил одно на голову Ириды. Фляги быстро пустели. Герма сидела в углу за моей спиной. Светильники тускло горели, по стенам метались тени, и трудно было что-нибудь разглядеть. Никто не заметил, как исчезла свояченица грузчика, Туртур; наконец грузчик обнаружил ее в соседней комнате с одним из сыновей Мефы. Он поднял юнца, перевернул его, дал ему здоровенного тумака. Братья набросились на него, но гости живо разняли их.
— Он только завязывал мне ремень на сандалии, — хныкала Туртур.
Пруник восстановил мир, провозгласив тост за женский пол.
— Я не буду предлагать вам отвергнуть высоконравственный тон, которого мы неизменно придерживаемся в этом почтенном доме, но есть вещи, которые случаются на пирах, и почему бы им не случаться, спрашиваю вас, взываю я к вам? Пир — это вам не какое-нибудь житейское обстоятельство, иначе он не был бы пиром, то есть стилистическим изяществом. В конце концов некая молодая пара развлекалась, возлежа, что само по себе обычно, ведь мы все здесь, чтобы развлекаться, потому мы и здесь, в обществе нашего друга, которого мы единогласно уважаем и почитаем, а не в другом каком месте, и ежели я сказал хоть одно слово неправильно либо не должным тоном, укажите мне, где, когда, что, как и почему.
Сулемнис потряс руку юнца, а Туртур, которой было за сорок и которая уже дважды овдовела, была польщена, что, говоря о молодой паре, Пруник имел ее в виду. Она хихикнула и предложила грузчику не совать нос в ее дела, а не то в следующий раз она доберется до его хари. Феникс споткнулся о кучу брюквы и капусты, заблудившись на лестнице, куда вышел помочиться на ступеньках, и расквасил себе нос. Пруник мрачно пел:
Ты сказала мне: «Зеркала нет у меня», —
И тебе поспешил я купить.
Ты, хитрюга, свое уронила кольцо,
Потеряла и серьги свои.
Ах, глупец я, махровый глупец!
Кто на свете глупее меня?
Ума-разума я не набрался нигде,
И теперь я сижу и вздыхаю
[156].
Я видел, как Лоллия выскользнула с Оарисом. Но вот Ирида решила привлечь к себе внимание. Она представила танец, который назвала «Леда и лебедь», то есть попросту, лежа на спине, дрыгала ногами. Когда Кинискул заявил ей, что лучше всего у нее выходит, когда она изображает яйцо, она двинула его по зубам. Герма промывала рану на носу Феникса, а Пруник по-прежнему распевал, хоть его никто не слушал:
И в продаже намедни заморский был шелк,
По дешевке, — ну как упустить?
И флакон для духов у тебя опустел, —
Всякий раз я покорно платил.
Ах, глупец я, махровый глупец!
Кто на свете глупее меня?
Ты же — шлюха, махровая шлюха, —
Это всякий готов подтвердить!
[157]
У Ириды с Кинискулом дело дошло до драки. Она взвизгнула и опрокинула жаровню, на которой Герма пекла каштаны. Загорелось одеяло, и комната наполнилась дымом. Одеяло вынесли на площадку и там затоптали. Воспользовавшись суматохой, жена грузчика Мегиста куда-то скрылась со вторым сыном Мефы. Грузчик заявил, что это сущее безобразие, но Мефа смочила ему голову вином и постаралась его утешить. Снова появилась Лоллия, нос у нее блестел и вид был архидобродетельный. Она сурово упрекнула мужа за то, что он сидит слишком близко к Ириде, и увела его в соседнюю комнату. Вошел Оарис, а за ним Мегиста, которая сообщила, что, испугавшись пожара, она спустилась вниз посмотреть, не пострадал ли ее ребенок. Когда выпили еще несколько раз вкруговую и погасли все светильники, кроме одного, Оарис снова исчез с сестрой Фульбунга, а тот вместе с Иридой отправился разыскивать их в противоположную сторону. Наконец мы остались с Гермой одни.
Я выпил сущую малость. Герма, вероятно, вовсе не пила. Феникс храпел в боковой комнате, лежа на дерюге. Герма пошла укрыть его. Я старался осознать, какие чувства преобладали у меня: веселился ли я или скорей испытывал тревогу? Собственно говоря, я ничего не достиг — рано или поздно мне пришлось остаться наедине с Гермой. Она вошла в комнату.
— Где ты ляжешь? — спросил я ее. — Ты можешь остаться в этой комнате, а я лягу с Фениксом. — Я сказал это, думая, что не следует оказывать на нее ни малейшего давления. Я проявлял щепетильность и желал показать ей да и себе самому, что отношусь к ней с глубоким уважением. Но лишь приписывал себе эти побуждения. На деле я просто тяготел к одиночеству. Я чувствовал, что скверно играю роль, произнося слова, какие сказал бы всякий порядочный мужчина, а в действительности я был трус, думал только о себе, и мне было страшно. К счастью, она была так радостно взволнована, что приняла мои слова за чистую монету. Она улыбнулась и прикоснулась пальцем к моим губам. Потом стала искать, чем бы накрыть постель, так как одеяло сгорело. На улице сгустился беззвездный мрак, догорал последний светильник.
— Кровать не слишком широкая, — сказала она, — но мы как-нибудь уляжемся. — Она повернулась ко мне спиной и сбросила платье. Я взглянул на ее стройную спину, аккуратные ягодицы и тонкие ноги, но вот она скользнула под простыню. — Погаси свет.
Светильник погас сам собой, и запахло горелым маслом.
— Вот мы и одни в темноте, — проговорил я, чтобы что-нибудь сказать. Произнеся эти слова, я точно оценил наше положение. Мне вспомнилась строчка из «Фарсалии»: «Желай неизбежного»… Я уже ничего не мог желать. Ни женщины, ни домашнего уюта, ни солнечного тепла, ни дружбы, ни поэтического вдохновения, ни общения с землей. У Гермы было теплое тело, она была гибкая и проворная.
— Будь осторожен, — шепнула она. — Пожалуйста. Это в первый раз. — Она старалась говорить тихо и непринужденно, но голос у нее сорвался, и она глубоко вздохнула.
— Не беспокойся. Я исполню все твои желания. Нам некуда спешить.
Некоторое время я лежал спокойно, доискиваясь, что означает этот новый шаг и к чему он ведет. Я уже не испытывал бурного желания. Мне послышались слова, сказанные жестоко избитым киником: «Всегда помни о том, что живет в тебе, о своей сокровенной сущности, которая едина с природой и воистину человечна». Меня тоже били. Били стражники, тащившие меня из дома Лукана, избивали рабы Цедиции; мне вспомнилось, как больно вцепился мне в руку Ватиний, как за мной гнались, когда я убежал из храма Изиды, как душил меня вор, отнимая кошелек. Я стал человеком, которого бичевали. Я содрогнулся. Епихариду стегали, вздергивали на дыбу, прижигали ей груди. Катию изнасиловали и размозжили ей голову. Моего друга обезглавили. Сильван приставил к груди меч и упал на него. Я отождествился с ними. Меня била дрожь. Я страшился объятий, не желая ощутить сокровенное тепло чужой жизни. Мне хотелось отдаться скорби и плакать. Я лежал, дрожа всем телом.
— Почему ты весь дрожишь? — спросила Герма. — Чего ты испугался? О, скажи мне! — В испуге она обняла меня, и ее горячие слезы потекли по моему лицу. Я гладил ее щеки, ее шею, словно изучал ее черты, впервые старался познать ее существо. Отделить ее от безликого мрака, в который я погружен, беспомощный и одинокий. Нет, не одинокий. Я окружен умершими друзьями. Общаясь с умершими, я должен научиться жить с живыми.
— Будем нежны друг с другом, — сказал я наконец. — Слишком много на свете жестокости и измен. — Я зарыдал, и она меня обняла в безотчетном страхе, пламенно желая утешить меня и спасти.
На следующее утро я проснулся на рассвете и слышал, как Феникс зевает и потягивается в соседней комнате. Я спрыгнул с кровати и оделся. Герма спала, поджав ноги. Тихо ступая, вошел Феникс.
— Я подам тебе завтрак, — сказал он. Герма проснулась и села на постели.
— Что случилось? — Глаза ее были широко раскрыты, она приглаживала руками волосы. — Что ты делаешь?
— Тебе не надо вставать, — ответил я. — Сейчас мы позавтракаем. — Я освежил водой лицо, вымыл руки. Феникс собирал нам на завтрак остатки вчерашнего пиршества. — У нас не всегда такое обилие, — сказал я Герме. Я поел сыру и маслин. Потом встал и велел Фениксу положить в его сумку две краюхи хлеба и сыру.
— Куда вы вдвоем уходите? — спросила испуганная Герма.
— Работать. Мы вернемся к вечеру. — Я поцеловал ее, она прижалась ко мне.
— Не покидай меня.
Я откинул ей голову назад и заглянул в глаза.
— Я вернусь.
Она поверила мне. Покорно улыбнулась.
— Хорошо.
Я отдал ей последние деньги, и мы отправились. Феникс семенил рядом со мной. Я был доволен, что он не донимал меня вопросами при Герме. Но он дольше не мог сдерживать свое любопытство.
— Что ты сказал, господин? «Работать»?
— Вот именно. Мы будем работать. Неужели ты думаешь, что мы с Гермой станем жить на твой заработок?
— Я буду стараться изо всех сил. Я найду дело, за которое дороже платят.
— Будет. Куда мы пойдем? В доки или на какую-нибудь стройку?
По дороге мы обсуждали преимущества различных работ. Феникс долго не унимался, все твердил, что он один может нас всех прокормить. Наконец он увидел, что я его не слушаю. Тогда он стал рассказывать, где сколько платят и в каких условиях приходится работать. Он пришел к выводу, что выгодней всего работать на стройке, работа не так изнурительна и однообразна, как разгрузка судов на пристани. Мы зашли на первую же крупную стройку и тут же нанялись перевозить в тачках кирпичи к месту, где каменщики искусно возводили стену. Сначала мне нравилось катить тачку по доскам и через бугры. Но с непривычки скоро заныли руки и спина. Когда объявили перерыв на завтрак, я уже выбился из сил, но упорно не хотел сдаваться да и стыдно было бы признать свое бессилие. Мы с Фениксом как бы поменялись ролями. Случалось ли нам разминуться, когда мы катили свои тачки, или встретиться, он подбадривал меня улыбкой и кивком. Я с завистью наблюдал, как легко он справляется с работой. В обед я растянулся в тени и медленно жевал хлеб, с трудом его проглатывая. Феникс куда-то сходил и принес бутыль винного сусла. Я выпил его с наслаждением.
К концу дня я чуть не валился с ног, но всячески старался скрыть от Феникса свою усталость, а он весело рассказывал про десятника и работников.
Герма приготовила нам рыбу. Я выпил молока и стал постепенно приходить в себя, начал отвечать Фениксу я заинтересовался новостями, принесенными им со строительства. На другое утро мне стоило неимоверных усилий подняться с постели и спуститься с лестницы. Однако к концу недели я уже стал довольно сносно справляться с тачкой, почти не отставал от других, слушал их разговоры, изредка вставляя слово-другое. Феникс всегда был рядом со мной, следил, чтобы я не сделал какого-нибудь промаха, приходил мне на выручку, если видел, что на меня кто-нибудь сердится. К концу следующей недели я уже не нуждался в помощи. Я втянулся в работу, дружески разговаривал с остальными. Мне было с ними хорошо.
Подрядчики вздумали удлинить рабочий день, но мастера в шесть часов вечера бросили свои инструменты, и мы последовали их примеру. Отработав свое, работники спешили в винные погребки, лишь немногие бережливые парни направлялись домой. Каждый восьмой день нам давали отдохнуть, и это было очень кстати. За усердную работу полагалась прибавка, но чернорабочим мало что перепадало. Я, как и остальные, завел бирку, на которой отмечал зарубкой каждый отработанный день. Правда, эти зарубки ничего еще не доказывали, но, ссылаясь на них, можно было уверенно говорить, за сколько дней заработано, когда десятник уж чересчур прижимал. Одного из тех, кто возил тачку, ушибло черепицей, упавшей с крыши соседнего дома. Через пять дней он вернулся на стройку и сказал, что взыскивает с домовладельца стоимость лечения и пропавший заработок.
— За ушибы ничего не удалось получить, — сказал он нам, доказывая шрам на щеке и на плече. — Они говорят, что я, мол, свободный, а раз за меня ничего не платили, я ничего и не стою.
Через неделю в день отдыха ко мне пришел Марциал.
— Девушка там внизу — кажется, ее зовут Иридой сказала мне, что в этот день ты бываешь дома.
Велико было мое смущение. Хотя в душе я радовался я гордился, что преодолел предрассудки и работаю бок о бок с Фениксом, мне не хотелось посвящать в это Марциала. Вероятно, даже Музоний поднял бы удивленно брови, если б узнал, что образованный свободный человек трудится на стройке в Городе. Все же, сделав над собой усилие, я рассказал обо всем Марциалу. Мой рассказ его позабавил, и он поздравил меня. Но я не мог понять, что он об этом думает.
— Боюсь, я слишком ленив, чтобы в случае чего последовать твоему примеру, хотя человек никогда не знает, какую шутку сыграет с ним судьба и на какие поступки он способен. Хорошие или дурные, — добавил он. Но при этом он, конечно, подумал, что никогда не опустится так низко.
Марциал был рад увидеть Герму. Когда он приходил в первый раз, он видел ее. Он хотел, чтобы она пришла и познакомилась с Тайсарион, но добавил, что они, пожалуй, не успеют подружиться.
— Почему же? — спросил я. — Ты думаешь, я скоро уеду в Испанию? Мне придется проработать несколько лет, прежде чем я скоплю денег на дорогу.
Он не ответил мне.
— Спустимся в порт, — сказал он. — У меня есть знакомый капитан. Он прибыл с грузом рыбы из Барселоны.
Я догадался, что он хочет попросить этого капитана, чтобы тот отвез меня на родину, но не стал задавать вопросов. Мы отправились. Прилегающие к реке улицы были забиты народом, многие съезжали с квартир, ибо в середине лета истекал срок квартирной платы; расшатанную мебель грузили на тачки и тележки или же крытые повозки, стоявшие в переулке, которые должны были в сумерках увезти эту рухлядь. Многие спорили и бранились с агентами. Какая-то женщина запустила в сборщика квартирной платы ночным горшком, и тот разбился о его голову. «Пропал хороший горшок, — вздохнула она. — Обычно я орудую метлой». Марциал пояснил мне, что квартирная плата все повышается. Он рассказал о судебном деле, возникшем по поводу дома, в котором он жил. Владелец отдал дом в аренду за тридцать тысяч сестерций, главный арендатор в свою очередь сдал его за сорок тысяч и т. д. А домовладелец, сообразив, что выгоднее сдавать в аренду новые дома, решил сломать старый, уверяя, что тому грозит обвал. Субарендатор подал в суд, взыскивая с него убытки.
— Если владельцу удастся доказать, что дом действительно грозит обрушиться, — что весьма вероятно, ибо это старый трущобный дом, — то ему придется лишь возместить арендную плату. Но если субарендатор докажет, что снос затеян лишь с целью повысить арендную плату, он может требовать возмещения всех убытков, связанных с выселением нас, квартирантов. Во всяком случае, мы наконец познакомились с владельцем дома.
В тачке, нагруженной горшками и циновками, стоял стул, и на нем, привязанный к сиденью, лежал спеленатый младенец, который ворковал и пускал пузыри. Неподалеку загорелся дом — спешно съезжавшие жильцы оставили в очаге огонь. Стражники бросились рубить двери топорами.
— Даже не посмотрели, заперты двери или нет! — воскликнул в полном восторге глазевший на пожар раб. Другие стражники по лестницам влезали в окна или пытались баграми растащить по бревнам соседний дом, квартиранты отбивались от них, не позволяя его разбирать. Ручную тележку, набитую кувшинами с уксусом и губками, предназначенными для борьбы с огнем, опрокинули, и уксус вытекал на мостовую. Дальше нам встретился отряд стражников-пожарных, которые спешили на помощь страже, сражавшейся со строптивыми обитателями бревенчатого дома.
Мы вошли на территорию порта, там было множество складов, лавок, где торговали товарами для моряков, и подозрительного вида таверн; на улицах толпились матросы, носильщики, грузчики, весовщики, конторщики, агенты и комиссионеры. В проулках чуть не из-за каждой занавески на окне призывно выглядывало женское лицо. Большинство работ были приостановлены по случаю дня отдыха, но самые неотложные проводились за повышенную плату. С балконов второго этажа свешивались девицы, более или менее обнаженные, и зазывали к себе прогуливающихся матросов. Одна из них сдернула с головы мужчины шапку, подцепив ее крючком. «Поднимись сюда, если хочешь полупить ее!» Пострадавший запустил в девку камнем. Лавки менял были открыты. Я заглянул во двор, где в свое время встретился со скульптором Антенором. Каменщиков там не было, но скульптор находился на месте. Он уже не лепил фигуры зверей, ему позировала огромного роста нубийка с амфорой на плече. Антенор спросил, что я поделывал после нашей последней встречи.
— Я так завален работой, — сообщил он, — что целыми днями торчу на этом дворе.
Я позавидовал его поглощенности искусством. Все политические потрясения прошли мимо него — он воспринимал их как какую-то докучную суматоху.
— Да ничего особенного, — ответил я.
Должно быть, он уловил в моем голосе необычные нотки. Отвернувшись от натурщицы, он испытующе посмотрел на меня.
— Ты изменился. Не согласишься ли ты мне позировать? У меня есть заказ. Орест, убивающий Клитемнестру.
К нам подошел Марциал.
— Ты слышал эпиграмму про свою львицу?
Лев Кибелы по вновь отстроенным улицам Рима
Как-то гулял — и выпало счастье ему:
Он внезапно узрел пред собою прекрасную львицу
И с громким рычаньем ее поспешил оседлать
[158].
Антенор расхохотался.
— Как же.
— Так вот, это я написал.
Скульптор похлопал его по спине.
— Спасибо, беру тебя в компанию. Десять процентов с каждой проданной фигуры. У меня есть еще тигр и две пантеры, на которых не находится покупателя. Не напишешь ли ты что-нибудь, чтобы и они вошли в моду?
— Кто сказал, что поэзия бесполезное искусство? — воскликнул Марциал. — На прошлой неделе я сочинил куплеты для продавца слоновой кости.
Мы направились в таверну, где он должен был встретиться с капитаном Марком Вецилием. Тот сидел там с тремя собутыльниками, но, увидевМарциала, оставил их и подошел к нам. Сначала они потолковали о своих приятелях из Барселоны. Потом Марциал спросил, намерен ли капитан заходить в Гадес в следующее плавание. Капитан, мужчина с неопрятной бородой и бесцветными неподвижными глазами, ответил низким басом, что зайдет, и предложил выпить по этому поводу. Мы выпили, и Марциал спросил его, не возьмет ли он с собой на льготных условиях его приятеля, который потерял все свои деньги в Риме и хочет вернуться домой в Кордубу, — разумеется, лишь в том случае, если хозяин корабля и владельцы грузов не будут против.
Капитан, пристально поглядев на меня, стал громко клясться, что никто не может запретить ему взять к себе на судно бесплатно приятеля. По контракту, груз будет состоять лишь из стеклянной посуды. Пассажир будет, на правах приятеля капитана. Марциал хлопнул меня по плечу и спросил капитана, не гожусь ли я ему в приятели. Капитан отступил назад и осмотрел меня с ног до головы, пронизывая насквозь взглядом, потом сказал, что, пожалуй, он не прочь, но еще не может дать окончательного ответа. На всякий случай, много ли у меня багажа? И еще — еду ли я один или со мной куча неуклюжих, плаксивых, хнычущих рабов?
— Один мужчина и одна девушка, — ответил я.
— Достаточно для порядочного человека, — ответил капитан, слегка косивший одним глазом. — Это говорит в твою пользу. Удивительно, что у этих миллионеров нет особых рабов, которые жрали бы и испражнялись вместо них, ведь они ни черта не умеют делать сами.
Я заверил капитана, что мы с Фениксом готовы помогать ему на судне.
— Пожалуй, ты будешь только путаться в ногах либо вывалишься за борт, — возразил он. — Но все же это предложение говорит в твою пользу.
Было очевидно, что капитан склонен меня взять. Но он явно был из тех людей, которые не позволяют собой командовать. Тем более он не желал, чтобы сухопутные крысы воображали, будто его можно водить за нос. Он спросил, быстро ли я могу собраться в путь. Я ответил, что еще несколько минут назад не думал об этом, но обещаю явиться через два часа.
— Мы отплываем не раньше, чем через неделю, — заявил капитан, — но я люблю расторопных. Это говорит в твою пользу. Терпеть не могу всяких копуш и тихоходов, ведь из-за них приходится даром терять время. Не терплю людей, что попусту треплют языком. Не выношу бездельников. У меня на судне люди должны работать, и они работают! Что до пассажиров, я требую от них одного: чтобы они мне не мешали, впрочем, я не прочь посидеть о ними вечерком за чашей вина и потолковать о чем-нибудь дельном.
Мы снова выпили. Он согласился взять меня на борт на сходных условиях — я должен был уплатить только за наше содержание. Он предложил Герме поместиться в каюте с поварихой, если только у девушки покладистый нрав.
— Там места только для одного человека, и если они будут натыкаться друг на друга, пусть не бранятся. Чего я не терплю на судне, так это свар. — Тут подошел спекулянт, предлагая прибор для измерения скорости судна. Вецилий угостил его вином и спровадил. — Не нужно мне никаких инструментов. Все это у меня в голове.
Когда мы простились с капитаном, я признался Марциалу, что мне трудновато наскрести нужную сумму. Он предложил одолжить мне половину, а остальную часть внести, когда судно возвратится в Остию.
— Ты расплатишься со мной потом. Когда сможешь.
Я был глубоко тронут. Мне снова стало стыдно, что я ничего не сделал для него в дни, когда мне покровительствовал Лукан, мне казалось, что тот его недолюбливает, считая слишком дерзким. На поверку Марциал оказался единственным верным другом в Риме. Я взял с него обещание, что он остановится у меня, если когда-нибудь посетит нашу страну.
— Принимаю твое приглашение, — ответил он, — оно доказывает, что у тебя есть планы на будущее.
Я выразил желание обстоятельно поговорить с ним об этом на досуге. Тут нам повстречался энергичного вида молодой человек, окруженный толпой клиентов и чиновников. Марциал взял меня под руку.
— Вот одна из причин, по которым потерпела неудачу недавняя попытка исправить наш мир. Этого молодца назначили в Совет четырех, он ведает дорогами. Первый шаг на пути в Сенат. Ты и твои друзья не представляли себе, какой ничтожной стала роль Сената по сравнению с веком Катона, с каждым годом падает его значение. Теперь туда допускают лишь проверенных людей. — Сжав мне руку, Марциал дал мне понять, что кандидатов проверяет император, а может быть те, что в конечном итоге контролируют и самого императора. Безликая, могучая и враждебная сила. — Отец этого юнца составил себе состояние, торгуя рабами, которых привозил с побережий Понта Эвксинского. Они родом из Бовилл. Эти люди имеют широкие связи в мире чиновников и действуют подкупами. Собирались ли вы и с этим бороться? Я уверен, что нет.
Меня угнетало сознание, что все большую силу приобретает сложнейшая государственная машина. Все мы опутаны ее щупальцами, хотя постоянно о ней забываем, поглощенные политикой. Однако эта власть до неузнаваемости искажает духовный облик человека, подобно тому как осуждаемые Поллой корсеты портят фигуру молодых девушек. Мне пришло в голову, что юным дочерям хлебопашцев приходится трудиться на земле, поэтому их не зашнуровывают в корсеты; поселяне сохраняют человеческие чувства, ибо они не ведут торговли, не занимаются ростовщичеством, ничего не закладывают, не арендуют и никого не эксплуатируют ни в деревне, ни в городах. Волей-неволей они ближе к вечно обновляющейся природе, пусть даже не осознают этой близости и угнетены тяжелым повседневным трудом. Они счастливы, хотя сами того не знают. Теперь я улавливал в словах Вергилия такой смысл, какого не вкладывал в них поэт.
Вдумываясь во все происшедшее, оценивая состояние нашего общества, я с великой скорбью приходил к убеждению, что представлялся замечательный случай свергнуть иго, однако он был упущен, общественные деятели предпочли идти все тем же путем лжи, обрекая народ на неизбывные муки. По-прежнему мечтали о благотворных переменах, но все трудней становилось их осуществить. Все расширяющаяся пропасть, все усиливающаяся ложь. Этот мир устремляется навстречу своей гибели, всем ясна ее неизбежность, втайне все предвкушают конец существующего порядка вещей, этой жизни, которую они прославляют, сознавая всю ее пустоту и порочность. Трудно сказать, когда разразится катастрофа. Но если верны были мои наблюдения, то поражено тлением было все, чем так гордился народ, перед чем он так раболепствовал. Порожденная страданиями мысль устремляется против течения, невзирая на препятствия и противодействие. Она должна продолжать борьбу, стремиться против течения.
Мне хотелось выговорить вслух эту мысль, но кто сейчас был бы способен меня понять? Мысль стремится против течения. На минуту я задумался: употреблял ли кто-нибудь до меня это выражение? Мне казалось, что я вспоминаю какой-то разговор.
— Ты прав, — сказал я. — Мы упустили это из виду. Но впредь я буду свободен от этого. Я буду заниматься совсем иными предметами.
— Это тебе не удастся. Все равно тебе прищемят не голову, так ноги.
Я не пытался растолковать ему смысл моих слов. Еще раз горячо поблагодарив Марциала за помощь, я простился с ним и пошел бродить по городу, испытывая некоторую грусть при мысли, что расстаюсь с Римом, который в конце концов я так мало узнал. И все же город овладел моим сознанием в большей мере, чем моя родная Кордуба. В Риме я почувствовал над собой грозную десницу судьбы, здесь над головой клубились черные тучи, предвещая еще невиданные катаклизмы, здесь люди беспечно плясали на краю пропасти, жизнь была рассечена пополам, словно ударом меча, и мерещился новый мир. И все же Город казался мне нереальным, его образ ускользал от меня и тревожил, как зловещий призрак. Горделивые, изменчивые, исполненные гнева мечты Лукана и глубоко затаенная горечь Аманда, подтачивающая основы; обожествленная власть — это смертоносное солнце, в лучах которого люди слепли, теряли рассудок и превращались в каких-то чудищ. Но вот нищий протянул мне свою тощую руку со вздутыми жилами, показывая дощечку, на которой было изображено сверкающее око, — я отшатнулся от него и поспешил прочь.
Кто-то окликнул меня, я обернулся и увидел молодую женщину с приятным смуглым лицом, оно казалось мне странно знакомым. Это была флейтистка Олимпия, она пригласила меня зайти к ней и выпить глоток вина. Я осмотрел ее лавочку, где продавались недорогие гирлянды, музыкальные инструменты, золотые кольца для женских сосков и где можно было нанять музыкантшу. Мы избегали говорить о бедах, обрушившихся на дом Лукана. Но когда я собрался уходить, она повела меня в комнату, где в нише стоял бронзовый Гений, вынула из ящика змею, стала ее ласкать, и змея обвила ей шею и плечи. Когда она подняла руки, я заметил ее беременность.
— Я праздную здесь день рождения поэта. Мой ребенок тоже будет чтить его память.
Выйдя снова на улицу и глядя на мелькавшие передо мной замкнутые, недовольные лица, я подумал: многие ли еще в Риме помнят Лукана и Сенеку? Потом я с удовольствием подумал, кто дома меня ждет Герма, передо мной всплыло лицо Феникса, его преданные глаза. Идя по улицам Рима, я уже видел каменистые поля и холмы, где в скором времени мне предстояло работать под палящим солнцем. Если я буду снова писать поэмы, что маловероятно, они будут посвящены моей родной земле.
Вскоре я узнал от Марциала о дальнейших отголосках заговора. Тщеславный император был взбешен до глубины души, уязвлен заговором и предоставил Тигеллину и его приспешникам полную свободу действий. Второму дяде Лукана, Галлиону, пришлось покончить самоубийством. Руфрий Криспин, первоначально сосланный на Сардинию, был приговорен к смерти на основании новых обвинений, выдвинутых против него Антистием Сосианом, который, будучи осужденным на изгнание, надеялся таким путем добиться отмены приговора. Двое патрициев были казнены, ибо у них обнаружили гороскоп, составленный товарищем Антистия по ссылке. Жертвами преследований стали бывший претор Минуций Терм и Гай Петроний, друг Сцевина и некогда любимец Нерона. Лукан недолюбливал Петрония и называл его утонченным развратником, а Сцевин считал его самым крупным мыслителем и писателем своего времени. Стоик Тразея Пет был осужден Сенатом на казнь по обвинению в измене. Он не захотел защищаться на суде и ожидал приговора в кругу друзей, обсуждая с ними диалог Сократа о бессмертии души. Его зять Гелвидий Приск и стоик Паконий были сосланы. Бывший проконсул Азии и его дочь были приговорены к смерти в основном за то, что вопрошали астрологов о судьбе императора. Были также казнены несколько богатых людей среднего сословия: Вулкаций Арарик, Юлий Тугурин, Мунаций Грат, Марций Фест.
— Таков на сегодняшний день список пострадавших. Кого я искренне жалею, так это Гая Петрония, хоть я никогда с ним не встречался. Я читал отрывки из «Сатирикона» и считаю, что твой Сцевин вряд ли преувеличивал его достоинства.
— Я уверен, что многие не имели никакого отношения к заговору. Мне даже не приходилось слышать их имен.
— Не в этом дело. Тебе еще многое предстоит узнать, мой наивный друг. Еще много голов скатятся с плеч, еще не одно запястье будет перерезано, и еще не одно круглое состояние отойдет в казну. Но бросим этот бесплодный разговор. Как вернешься домой, напиши мне подробное письмо, и я буду вознагражден за свои хлопоты. Я имею в виду, что ты напишешь, как ты справляешься со всеми трудностями в Испании. И вообще об Испании.
Спустя два дня я покинул Рим. Два дня пришлось ждать в Остии, но я был этому даже рад. Мы спустились в барке по Тибру. Капитану было по душе, что у нас мало багажа. Ящик с пожитками Феникса и моими вещами, в том числе купленными мной свитками поэм, которые трудно было приобрести в Кордубе, да с платьями Гермы. В последнюю минуту я набрался храбрости, отправился к Гаю Юлию Присциану и обсудил с ним главные деловые вопросы, интересовавшие моего отца и дядю. Этот сердитый человек с плотно сжатыми губами не скрывал своего недовольства и порицания. Мое общество было ему явно неприятно. Он не заикнулся о моих злоключениях, даже не спросил, почему я так долго не появлялся. Я догадывался, что представители власти наводили у него справки о состоянии и общественном положении моего отца. Мы быстро обсудили все дела. Он не проводил меня до дверей и не пожелал доброго пути. Однако я чувствовал себя спокойнее после свидания с ним и уже не так боялся предстоящей встречи с родными. Я решил попросить отца отдать мне обширное поместье в горах в окрестностях Укуб. Там я намеревался поселиться с Гермой и Фениксом и возделывать землю, стараясь непрестанно помнить, что я человек и ничто человеческое мне не чуждо. Я усвоил эту житейскую мудрость, и я сознавал, что не зря прожил последние полгода. Я твердо решил не держать рабов, пользоваться на ферме лишь трудом наемников, с каждым человеком обращаться, как с другом, обладающим равными правами. Насколько это возможно в нашем мире.
Нас провожали только Марциал и Тайсарион. Он дружески обнял меня и обещал отвечать на мои письма. Девушки обнимались, проливая слезы. Феникс зазевался, и его угораздило налететь на тачку со щебнем, ему придавили ногу. На пристани была обычная сутолока, пыль, жара, во все стороны сновали грузчики, перенося товары, прибывшие со всех концов света — от Геркулесовых Столпов до Китая. Разгруженная барка забилась носом под настил причала, и ее никак не удавалось вытащить. Мокрые от пота грузчики снова ее нагрузили, тогда она осела, и удалось ее высвободить; другая барка пострадала — брусок железа сорвался с подъемного блока и проломил ей днище. Конопатчики спешно заделывали пробоину досками, холстом, пенькой и смолой. Доки были значительно расширены, Клавдий превратил Остию в первоклассный порт.
— Чтобы это осуществить, он разорил Путеолы, — добавил Марциал со свойственной ему насмешливой и горькой улыбкой.
На другом берегу реки вставали холмы Яникул и Ватикан, мимо них я проезжал, приближаясь к Риму. У меня щемило сердце, я испытывал смутные сожаления и предложил на прощание выпить вина. Мы зашли в винный погребок «Прыгающий козел». Разговор не клеился.
— Полла как будто оказалась на высоте положения, — заметил Марциал, пока мы вертели в руках кружки или разглядывали намалеванного на стене Приапа, окруженного восхищенными нимфами. — В своем трауре она обрела некое величие. — Он улыбнулся, догадываясь, что я хочу спросить про Цедицию, но не в силах выговорить ее имя. — Что до ее подруги, то она обретается на глухом островке. Но там пасутся козы, и она может питаться жареными осьминогами.
Возле нас какой-то лигуриец жаловался, что в Риме нельзя достать пива.
Расставаясь со мной, Марциал передал мне небольшой свиток с эпиграммами, где стояла надпись: Луцию Кассию Фирму из Кордубы и Укуб.
Только бездомный в Риме свой дом обретает.
Счастлив же ты, коль из Рима уедешь домой!
[159]
— А как же ты? — спросил я. Он покачал головой и ответил только улыбкой, сочувственной улыбкой, в которой сквозила грусть.
Я уселся на палубе в уголке. Как ни бранился и ни бесился капитан, мы еще проторчали в порту два часа. Когда мы отчалили, матросы затянули песню;
Солнце всходит и заходит.
Из деревни еду в город,
С Идой, Ледой, Родой.
Землю бросил, а взамен —
Грош мне в зубы и мякина!
Под мостом обрел и ложе
С Идой, Ледой, Родой
[160].
Подошла Герма и села, прижавшись ко мне. Впервые я стал размышлять об ожидавших меня осложнениях. Отец будет уязвлен и потрясен, станет выдвигать доводы, в которые сам не верит, напрасно стараясь исполнить свой долг и не уронить себя в глазах людей. Под конец он отступится: «Я не могу этого понять, сын мой, но ты должен поступать, как подсказывает тебе совесть». Сестра будет изо всех сил противиться и противодействовать, говорить от имени всех родных, подстрекать мать и дядю. Мать начнет умолять меня не делать глупостей, станет проливать слезы, уговаривая, чтобы я не срамил семью, и ни за что не примирится. Дядя будет бормотать угрозы и жалеть, что прошли те времена, когда на семейном совете приговаривали к смерти провинившееся чадо. Под конец, когда все выдохнутся, пыл иссякнет и будет положено начало длительной вражде, я поступлю по-своему. Во всяком случае, после всех злоключений я научился терпеливо переносить неудачи, сопротивляться и настаивать на своем. Теперь я видел, какой великой силой обладают простые люди. Можно подумать, что это попросту сила косности, что она доказывает лишь безответственность и бездумность, — до известной степени это так. Но вместе с тем эта сила позволяла кинику спокойно переносить бичевание, этой силой были налиты мышцы матросов, она внушала Аманду несокрушимую ненависть к существующим порядкам, она сказывалась в беззаветной преданности Феникса и Гермы. Я радовался, что они со мной, был готов всячески их защищать и отстаивать их достоинство. Я сломлю яростное сопротивление родичей, поглощенных заботами о своем благополучии и преуспеянии, соблюдавших ложные приличия и стремившихся к наживе и к власти над людьми.
Косые закатные лучи расстилались по морю, в небе сгрудились облака, легкие в своей монументальности и слегка позолоченные. Барка проходила мимо разрушенной стены, увитой жимолостью, юноша и девушка лениво разлеглись в пышной траве. Помощник капитана размеренно отбивал такт гребцам. В мягком вечернем свете проплывавшие мимо нас картины обретали скульптурную четкость и какое-то новое очарование, я воспринимал нежные краски, как разлитый в воздухе тонкий аромат. Свет, вечный и изменчивый, подобно времени развертывающийся передо мной безбрежный простор, плавное движение, полнота радости и сознание прелести жизни. Я вдохнул чистый свежий запах волос Гермы. Я был счастлив.
Комментарии автора
Из всех основных персонажей романа один Луций вымышленная фигура. Но мне хочется верить, что стихотворение Марциала Поэту Луцию («Эпиграммы», Книга IV, 55) посвящено моему герою и имеет в виду его позднейшее творчество. Луций предстает перед нами как поэт, выражающий в стихах свою любовь к Испании и воспевающий ее красоты.
Луций, сверстников наших честь и слава,
Ты, кто древнему Каю с отчим Тагом
Не даешь уступать речистым Арпам, —
Пусть рожденный среди твердынь
Аргивских Воспевает в стихах Микены, Фивы
Или славный Родос, а то и Спарты
Сладострастной палестры в память Леды,
Нам же, родом из кельтов и гиберов,
Грубоватые родины названья
В благодарных стихах позволь напомнить
Город Бильбилу, сталью знаменитый,
Что и нориков выше и халибов,
И железом гремящую Платею
На Салоне, хоть мелком, но бурливом
И с водой, закаляющей доспехи;
И Риксам хороводы, и Тутелу,
И попойки у кардуев веселых,
И с гирляндами алых роз Петеру,
Риги — наших отцов театр старинный,
И Силаев, копьем разящих метко,
И озёра Турасии с Тургонтом,
И прозрачные струи Тветониссы,
И священный дубняк под Бурадоном,
Где пройтись и ленивому приятно,
И поля Вативески на откосе,
Где на крепких волах наш Манлий пашет.
Ты, читатель изысканный, смеешься
Этим сельским названьям? Смейся вволю!
Эти села милей мне, чем Бутунты.
Марциал, «Эпиграммы», Книга IV, 55. (Пер. Ф. Петровского)
Кай, или Старый Кай, — название реки в Испании; Арпы же и Бутунты находились в Апулее, где родился Гораций.
Стаций во второй книге своих Сильв, написанной в начале 90-х годов (примерно через тридцать лет после заговора), сообщает, что возникло что-то вроде культа Лукана и праздновался день его рождения; этот культ носил такой же характер, как празднование стоиками памяти Катона и Брута при императорах Юлиях — Клавдиях. Книга заканчивается Одой на день рождения Лукана. Стаций говорит: «Полла Аргентария утверждала, что ею вдохновлена эта ода, когда мы обсуждали, как отпраздновать этот день, Выражая свое преклонение перед великим поэтом, я отказался от привычного для меня гекзаметра, воспевая ему хвалу». Ода написана одиннадцатистопным размером.
После обращения к музам и восхваления Бетики, богатой оливковым маслом, родины Лукана, Сенеки и Галлиона, Стаций рассказывает о том, как муза Каллиопа учила в младенчестве поэта. Ее наставления заканчиваются следующими словами:
А ты — иль дерзкой колесницей Славы
Был вознесен на горние высоты,
Где пребывают лишь великих души,
Презревших прах земной и мрак могилы;
Иль, берегов Элизия достигнув,
Страны блаженных, бродишь в мирных рощах,
Где собрались «Фарсалии» герои
И воспевают гимн тебе во славу,
Подхваченный Помпеем и Катоном;
Иль, тень священная, в величье гордом,
Спустившись в Тартар, издали взираешь,
Как мать Нерона факелом горящим
По бледному лицу тирана хлещет.
Ты, светлый, в некий день богов подземных
Попросишь привести сюда и Поллу.
Пред ней отверзнутся врата — и с мужем
Соединится нежная супруга.
Она не кружится в безумной пляска,
Надев личину, перед ложным богом.
Лишь одного тебя чтит неустанно,
Храня твой образ в тайном храме сердца.
И твоего лица изображенье
В оправе золотой, над сирым ложем
Желанной не приносит ей отрады.
Смерть ненасытная, прочь, прочь отсюда!
Здесь новой жизни видим зарожденье.
Умолкни, скорбь! Лишь сладостные слезы
Ее лицо отныне орошают,
И чтит она умершего, как бога.
Стаций, «Сильвы», книга II (Пер. Е. Бируковой.)
У Марциала есть три эпиграммы (Книга VII, 21–23), явно имеющие в виду это празднование:
Славный сегодняшний день — свидетель рожденья Лукана:
Дал он народу его, дал его, Полла, тебе,
О ненавистный Нерон! Что смерти этой ужасней?.
Если б хоть этого зла ты не посмел совершить!
Памятный день наступил рожденья певца Аполлона:
Благостно, хор Аонид, жертвы ты наши прими.
Бетис, давший земле тебя, о Лукан, свои воды
Ныне достоин смешать с током Кастальской струи.
Феб, появись таким же, каким к воспевшему войны
Ты пришел, чтобы плектр лиры латинской вручить.
В день сей о чем я молю? Постоянно, о, Полла, супруга
Ты почитай, и пусть он чувствует этот почет.
Марциал, «Эпиграммы», Книга VII, 21, 22 и 23. (Пер. Ф. Петровского.)
Вергилий — корифей латинских поэтов.
Марциал снова обращается к Полле в Книге X, 64, приводя строфу из утраченной поэмы Лукана:
Коль попадутся тебе наши книжки, Полла-царица,
Шутки читая мои, лба своего ты не хмурь.
Твой знаменитый певец, Геликона нашего слава,
На пиэрейской трубе ужасы певший войны,
Не устыдился сказать, игривым стихом забавляясь:
«Коль Ганимедом не быть, Котта, на что я гожусь?»
Марциал, «Эпиграммы», Книга X, 64. (Пер. Ф. Петровского)
В Книге I он упоминает Лукана в числе испанских поэтов наряду с Канием, уроженцем Гадеса, Децианом, уроженцем Емериты, и Лицинианом, уроженцем Бильбилы, а в книге XIV, 194 он сообщает, что у поэта имелись враги, клеветавшие на него.
Правда, иные меня совсем не считают поэтом,
Книгопродавец же мой видит поэта во мне.
Марциал, «Эпиграммы», Книга XIV, «Подарки», 194, Лукану. (Пер. Ф. Петровского)
В четырех эпиграммах Марциала встречается имя Поллы, так звали его любовницу, но это во всяком случае не была Полла Аргентария:
С юношей Полла моя подружилась, мне сообщили.
Дружбу их чистой никак не назвать, но они
Чисто делают то, что с нею мы совершали.
Вправе ли я это ей возбранить?
Марциал, «Эпиграммы». (Пер. Е. Бируковой)
К мужу приставила ты сторожей, а сама их не терпишь.
Значит, супруга себе в жены ты, Полла, взяла.
Марциал, «Эпиграммы», Книга X, 69. (Пер. Ф. Петровского)
Полла, зачем ты венки мне из свежих цветов посылаешь?
Я предпочел бы иметь розы, что смяты тобой.
Марциал, «Эпиграммы», Книга XI, 89. (Пер. Ф. Петровского)
Пастою, Полла, скрывать морщины на брюхе стараясь,
Мажешь себе ты живот, но не замажешь мне глаз.
Лучше оставь без прикрас недостаток, быть может, ничтожный:
Ведь затаенный порок кажется большим всегда.
Марциал, «Эпиграммы», Книга III, 42. (Пер. Ф. Петровского)
Перевод: О. Волков
Адам нового мира

«НАСТУПИТ ДЕНЬ, КОГДА ЧЕЛОВЕК БУДЕТ ХОДИТЬ,
КАК НОВЫЙ АДАМ В СОЗДАННОМ ВНОВЬ МИРЕ».
Джордано Бруно.
Часть первая
Возвращение

I. Приезд в Венецию
Чиновник просмотрел свидетельство о здоровье и, хмурясь, вернул его худощавому мужчине с темно-каштановой бородой и живыми глазами.
— Всё в порядке, — сказал он.
Громко кричали лодочники, и люди на пристани, опасаясь, как бы лодка не отплыла без них, поспешили к ней. По крики лодочников объяснялись только тем, что один из них уронил в воду канат. Босоногая, растрёпанная девчонка продавала медовые пряники. Вокруг группы пассажиров шныряли нищие, щеголяя своими язвами, и лодочники время от времени отгоняли их вёслами. Утреннее солнце ярко освещало восточную стену Падуи и скучавшую у городских ворот стражу с небрежно опущенными копьями. В конце пристани сверкали на солнце разбросанные по земле осколки стекла, напоминавшие о происшедшем вчера несчастном случае с каким-то грузом. Карантинный чиновник ковырял в зубах и своим зловонным дыханием отравлял утренний воздух. Худощавый человек отвернулся от него, прижав рукой к бедру полученное свидетельство. Он посмотрел на маслянистые переливы воды под скрипучими досками пристани, вдохнул в себя резкий запах реки. Ноздри его тонкого носа дрогнули, он сощурил глаза и огляделся, словно только сейчас заметив и толпу людей на пристани, и лодочников, крепивших часть полотняного навеса, которая оторвалась и хлопала на ветру, и движение экипажей через городские ворота.
Девчонка с пряниками, лениво бродившая около группы занятых разговором купцов, торопливо подошла к худощавому мужчине, протягивая вперёд свой лоток. Худощавый мужчина, не посмотрев, что она продаёт, достал из кармана два сольдо и бросил на лоток.
— У тебя и грудей-то ещё нет, — сказал он и отошёл.
Огорчённая торговка поплелась за ним, упрашивая его взять пряники:
— Ну пожалуйста, возьмите хоть один.
— Съешь его сама, — ответил он и улыбнулся.
Боязливое и хмурое выражение исчезло с лица девушки; нежный румянец преобразил это лицо, придав ему естественное очарование юности, но затем оно снова стало похоже на унылую маску, снова сгустились на нём тени голода и горя, омрачив взгляд подозрительностью, сразу как-то заострив тонкие черты. Мужчина открыл было рот, собираясь что-то сказать, но потом передумал. Он молчаливым жестом отказался от пряников и зашагал к краю пристани. Здесь он подошёл к группе пассажиров.
Карантинный чиновник пререкался с толстой крестьянкой, крепко прижимавшей к груди корзинку с яйцами. Через ворота с грохотом проезжали телеги крестьян: они везли продукты на рынки, которых в городе было пять. Лошади с прикрытыми мордами провезли фургон вина. С башни карантинного лазарета солдат в кольчуге и алом плаще, перегнувшись, кричал что-то вниз. Лошади на помосте за пристанью бренчали упряжью и ржали.
— Все в лодку! — прокричал весёлый лодочник с взлохмаченной головой, в рубахе и коротких рваных штанах.
Высокий человек в плаще из голубой бумажной материи, с убожеством которого совсем не вязалась исполненная достоинства осанка владельца, подошёл к незнакомцу с каштановой бородой и, отведя его в сторону, с учтивым поклоном сказал:
— Вы, конечно, знаете, что переезд стоит шестнадцать сольдо[161]. — В его чёрной бороде застряли хлебные крошки от завтрака.
— Да, так мне сказали, — ответил тот, глядя на крошки в бороде. — И больше я платить не буду.
Осанистый мужчина махнул пухлой рукой, как бы устраняя невидимое препятствие. Но худощавый продолжал:
— Расстояние от Падуи до Венеции измеряется, по-видимому, двадцатью милями[162] или шестнадцатью сольдо. Какое же из этих измерений истинно? — В голосе его звучала резкая насмешка. — Как видите, я предоставляю вам честь ответить на подлинно исторический вопрос: что есть истца? Буду весьма признателен, если вы мне на него ответите. Меня глубоко интересуют различные точки зрения, в особенности когда дело касается системы измерения. Странно, видите ли, что математика… — Тут он приподнял бархатную шапочку: — Это слово для меня так священно, что, произнося его, я не могу не выразить своего благоговения… Математика предполагает деление объектов, ибо она исчисляет их, и непрерывную связь между ними, так как ряд немыслим без основания, гарантирующего соотношение между его членами. Эту истину я постиг вчера вечером в три четверти седьмого, когда девушка с родинкой в левом углу рта подавала мне салфетку. Прошу вас заметить этот факт, ибо в том, что меня осенила эта идея, сыграли некоторую роль своеобразие и гармоничность форм этой девушки.
Высокий мужчина отпрянул под натиском такого потока слов, но его собеседник наклонился ближе к нему. Его тёмные зрачки расширились и блестели.
— Послушайте, — с беспокойством начал первый, теребя бороду. Он вытащил хлебную крошку, на которую всё время смотрел худощавый, и держал её между большим и указательным пальцами. Худощавого, видимо, что-то смутило. Он заморгал глазами и сказал сердито:
— Я ваших методов не признаю. Я хочу, чтобы мир стал иным.
Он опять заговорил ироническим, любезно-конфиденциальным тоном, но скороговоркой, словно отвечая затверженный урок:
— Я знаю вас и ваши фокусы, с помощью которых вы ловите покупателей. Вы предлагаете рассрочку и повышаете цену. Вы объявляете себя банкротами, укрываетесь в монастыре и, договорившись с должниками об уплате им только незначительной части долга, получаете таким образом огромные барыши. Вы сбиваете цену на товары, чтобы уничтожить своих конкурентов, а затем, монополизовав рынок, повышаете цены. Прежде чем продать шерсть, вы мочите её, чтобы она больше весила…
— Сударь! — с негодованием остановил его высокий. — Я торгую стеклянными изделиями. И ни разу не объявлял себя банкротом.
Худощавый осмотрел его с головы до ног своими живыми карими глазами и опять приподнял шапочку.
— От всего сердца прошу у вас прощения. Видно, я ошибся. Сегодня утром — только в Италии бывают такие утра! — я сильно возбуждён и необычайно смело и безрассудно смешиваю воедино essentia[163] и proprietas personnalis[164], выходя за пределы Аристотелевой логики[165]. Вы поймёте это через триста лет. А сейчас позвольте узнать, по какому делу вы решились обратиться ко мне, так как я уже слышу крик: «Пассажиры, в лодку!»
— Я хотел вам сказать, — сердито ответил торговец стеклом, — что если каждый из нас уплатит на четыре сольдо больше, — так что проезд обойдётся всего по одной лире[166] с человека, — то припрягут ещё одну лошадь, и баржа пойдёт быстрее…
— Четыре сольдо! — воскликнул худощавый. — Как философ, я стремлюсь к крайнему пределу, ищу общий делитель всех видов опыта. Я ищу дух в материи или материю в духе. Я всё ещё отуманен словами. Вон там стоит молодая девушка, для которой два сольдо — это два сольдо. Ответь мне, мудрец в бумазейном плаще…
— Это не бумазея, а байка, — веско возразил купец, отвернув край плаща, чтобы показать его изнанку.
— Классификация вещей меня подавляет, — сказал худощавый, — ибо материя многообразна. Я отвержен миром. Плачьте обо мне!
Затем, когда рассерженный купец отвернулся, собираясь уйти, худощавый философ бросил ему деньги, которые тот просил. Неохотно поблагодарив, купец взял деньги и поспешил к капитану.
Худощавый вошёл в лодку и сел на своё место над люками, предварительно заглянув на нос, чтобы убедиться, что его багаж в сохранности. Здесь уже сидело несколько пассажиров; остальные стали взбираться на палубу только после того, как раздался последний громовой клич полуголых лодочников.
Пассажирами баржи стали пять-шесть венецианских купцов, степенных, одетых во всё чёрное, один немец, студент-медик Падуанского университета, три итальянца, изучавших право, еврей в жёлтой шапке, высохшая, сморщенная старуха, измождённый священник, куртизанка, неумело и грубо накрашенная, крестьянка с корзинкой яиц, которую она заботливо прижимала обеими руками к пышной груди, обтянутой старомодным корсажем, голландский купец, торговавший полотном, и переплётчик из Дании. Последними пришли молодая девушка с матерью, толстощёкий монах-францисканец[167] и два француза: нотариус из Анжера и торговец шёлком из Лиона.
— Сегодня на борту только одна весталка[168], — сказал кто-то из студентов-итальянцев, подзадоривая товарищей. — Это впервые. Я не припомню такого переезда, когда бы их было меньше трёх. Позовите капитана и потребуйте от него объяснений.
— Ничего, я одна сойду за трёх, — сказала куртизанка, визгливо засмеявшись.
Один из венецианских купцов неодобрительно кашлянул. Датчанин усердно записывал что-то в книжку, поставив между колен роговую чернильницу.
— Запишите и это, — обратилась к нему куртизанка, сидевшая напротив. — А заодно и мой адрес.
Переплётчик с недоумением поднял на неё бледно-голубые глаза.
— Я пишу письмо жене, — сказал он невнятно, на своём ломаном итальянском языке. — Какой сегодня день? Простите за беспокойство, но кто из вас помнит, почём в Падуе свинина? Я хочу написать жене. Я запомнил цены повсюду, кроме Падуи.
— Если вы платили дороже восьми сольдо за фунт[169], так с вас содрали лишнее, — отозвалась женщина с корзиной и сразу замолчала, словно застеснявшись звуков собственного голоса в этой чуждой ей компании.
Студент-немец, покачиваясь, прошёл между скамеек, наступил на ноги священнику, молча стерпевшему это, и сел возле человека с каштановой бородой.
— Вы меня простите, — заговорил он хриплым, гортанным голосом и, упёршись руками в колени, наклонился к соседу. — Я случайно слышал, как вы говорили на пристани, что вы философ.
Среди общего говора выделился громкий голос голландского купца:
— В миле от Докема бросили якорь и стали дожидаться прилива. И вдруг с берега слышится сильный шум, лай собак, крики людей, колокольный звон. Это налетели из Гронина испанские пираты и грабили крестьян…
Говоривший заметил, что его все слушают, и откинулся назад, расчёсывая бороду пальцами. А датчанин, к которому он обращался, сказал осторожно:
— В Докеме я не бывал, а вот в Эмдене был один раз и купил там фунт вишен за восемь стиверов[170].
— Мама! — вдруг резко вскрикнула молодая девушка.
— У меня нигде ничего не подложено, — говорила куртизанка студентам своим визгливым голосом, игриво и вызывающе.
— Velle me tangere[171], — вмешиваясь в разговор, сказал худощавый. Куртизанка обратила к нему свои добрые карие глаза, в которых удивление постоянно сменялось замешательством, а замешательство — апатией, сквозившей и в лениво опущенных углах рта.
Худощавый отвернулся.
— Вы философ, — повторил немец, отодвинув конец каната, который мешал ему удобно усесться.
— Это слово теперь употребляют на каждом шагу. Я слыхал, как им величают себя уличные скоморохи, и многие из них, пожалуй, имеют на это больше права, чем профессора в пурпуровых тогах[172]. Например, среди профессоров Оксфордского университета в Англии ставится в заслугу не учёность, а способность накачиваться пивом. С золотыми цепями на шее они влекутся за королевским двором, редко озаряя университеты хотя бы блеском своих пылающих носов.
— Какая горечь в ваших словах! — заметил немец. — Вы, несомненно, великий философ. Ну, а я не буду осуждать пьяниц, я и сам сейчас пьян.
— В таком случае не будем затевать диспута, у вас слишком большое преимущество предо мной, — сказал худощавый, наблюдая в это время за куртизанкой. У неё были светлые вьющиеся волосы; на добром и грустном лице большой безобразный рот зиял, как рана.
— Но я тоже философ, — икнув, возразил студент. — Я анатомировал трупы. А трупы, если не считать того, что они воняют, имеют множество весьма ценных качеств. Одна беда; так как это большей частью бывают трупы жалких бедняков, то желудок сужен до крайности. Просто удивительно, до какой степени может съёжиться желудок, если его обладатель много лет подряд голодает. Вот только вчера у нас в анатомическом зале вскрывали молодую девушку. Очень любопытная картина рака матки, но, поверите ли, мой друг, почти нет желудка. В качестве философа я горячо протестую… Как видите, я пьян. К тому же, я временно отказался от женщин. Я подобен тому человеку, который вышвырнул в окно кота за то, что кот мяукал, тогда он выдрал его за уши, и, вышвырнув, сказал: «Теперь я сам буду ловить мышей». Так и я напился вчера вечером.
— Вместе со мной, — вставил нотариус из Анжера, неожиданно очнувшись от дремоты. Он нагнулся вперёд и, зажмурив один глаз, пытался всмотреться в немца. Слишком перегнувшись, нотариус потерял равновесие и упал бы, если бы его товарищ, шёлкоторговец, вовремя не подхватил его.
Священник сидел с закрытыми глазами, сложив руки на коленях и отвернув от соседей измождённое лицо. Францисканец следил за всем вокруг, улыбаясь с притворным простодушием. Он поднял перчатку, которую уронила куртизанка, и с улыбкой подал ей. Студенты принялись над ним подтрунивать:
— Вы бы лучше её надели. Да, да, наденьте перчатку этой дамы и посмотрите, впору ли она вам. Монаху любая женская перчатка годится. Если она мала, он её растянет для удобства, если велика — он благодарит Бога за скромный дар. «Юбка и ряса всегда льнут друг к другу».
Францисканец улыбнулся молодым людям:
— Подумайте, насколько вы были бы счастливее, если бы веселье ваше было невинным и чистым!
— Мои перчатки надушены амброй[173]. Вы любите этот запах? — с притворной наивностью спросила куртизанка у монаха. Францисканец отвернулся от неё и начал молиться. Купцы вполголоса беседовали о ценах и о случаях банкротства.
Баржа толчком дёрнулась с места, затем медленно и плавно двинулась вперёд.
— Ну, вот мы и поехали, — громко произнёс один из купцов. Но торжественность минуты была нарушена молодой пассажиркой, которая вдруг закричала, что старуха, сидевшая напротив неё, — ведьма. «У неё дурной глаз, она меня хочет сглазить!» Мать пыталась её успокоить, гладя по голове своими большими загрубелыми руками, но обезумевшая от ужаса девушка оттолкнула её. Она вытащила из-за пазухи деревянное распятие, сдвинув при этом косынку, закрывавшую грудь. У девушки были глубокие глаза, обведённые тёмными кругами. Рыдая, она замахнулась распятием на старуху. Та шарахнулась от девушки. Тогда францисканец встал со своего места и пересел к старухе, прямо напротив девушки.
— Тебе нечего бояться, пока у тебя в руках Христос, — сказал он девушке.
Девушка громко всхлипнула, повторяя: «В руках Христос». Затем ей пришла в голову новая безумная идея:
— Смотрите: кровь! Он истекает кровью! Его пронзили копьём в этом месте!
Платье девушки было ей не впору — должно быть, фамильное наследство, переходившее в семье от одной женщины к другой. Её костлявые плечи выступали из него, слишком свободный вырез корсажа отгибался наружу, как чашечка цветка, оставляя на свободе белые цветы её грудей. И сейчас, когда шаль сползла и косынка с шеи упала, грудь обнажилась во всей своей трогательно юной прелести.
— Как это печально! — сказал человек с каштановой бородой.
— Что именно вас печалит? — спросил немец. — Уж не я ли?
— После такого вопроса я должен ответить: да, вы.
Немец с минуту размышлял, потом сказал:
— Меня зовут Герман Грутер. И в кошельке у меня пятьдесят лир. Я буду вас угощать целые сутки, потому что вы мне пришлись по душе. После этого мы с вами расстанемся, ибо у меня больше не будет денег. Как ваше имя?
— Моё имя? Какое значение имеют имена?
Но так как немец настаивал, человек с каштановой бородой продолжал:
— Зовите меня Фелипе-ноланец. Ибо таково моё имя.
— Фелипе, милый Фелипе, чем же я пас опечалил?
— А тем, драгоценный мой осёл, что вы не поняли смысла моего замечания: оно относилось к галактическим выпуклостям безумной юной сибиллы[174], которую мы видим перед собой.
Этим строго научным определением он хотел тактично замаскировать свой намёк на груди девушки. Но вежливость его не достигла цели, так как немец всё испортил: он повернулся и указал пальцем на предмет их разговора.
— Да, — продолжал ноланец, — я имел в виду эти округлости, а опечалился я, глядя на них, по следующим причинам…
Ему помешали докончитьстуденты-итальянцы, которые перекидывались с куртизанкой скабрёзными замечаниями.
— Да, это единственная вещь в мире, которой становится тем больше, чем больше вы ею пользуетесь, — говорила женщина.
— В вашем рассуждении есть пробел, — возразил один из молодых людей, теребя рукой невысокие брыжи своего камзола. Длинный чёрный локон свесился на его красивое, внимательное лицо; в прорезах рукавов алела шёлковая подкладка.
— Ошибка в силлогизме[175], — подхватил другой студент, беспрестанно хихикавший толстяк, у которого воротник весь намок от пота.
— Когда сталкиваются два тезиса, суть которых не совпадает, то получается логический промах, — сказал третий, долговязый, редковолосый, в заплатанных штанах.
— Сорит Венеры[176], — вставил, небрежно щёлкнув пальцами, тот, что был одет получше, видимо, предводитель всей компании, — Inductio ad feminam[177].
Все трое засмеялись.
— Она раньше не была такой, — сказала францисканцу мать девушки. — Но её испортили, и у неё начались припадки. А в последнее время по ночам её всё мучают кошмары.
Ей наконец удалось поправить на дочери шаль и косынку. Девушка сидела неподвижно, не сводя глаз со старухи.
— Будем продолжать наш разговор, — сказал ноланец. — Приготовьтесь услышать логику, более глубокую, чем те силлогистические ухищрения, над которыми только что справедливо смеялись наши распугные приятели, сидящие напротив. Как вы уже успели бесстыдно заметить, соски этой девы совершенны по форме. Они совершенны, ибо идеально соответствуют своему назначению. Вот в этом слове «назначение» — ключ ко всему. Вдолбите это в свою пустую башку. Основное назначение этих грудей — кормить младенцев, а к этому уже присоединяются некоторые другие, менее важные функции, добавленные щедрой матерью-природой. Однако основное употребление, объясняющее их природу и строение, определяющее их форму, а следовательно, и красоту, их causa causans[178] очень быстро лишит их этого чудесного оттенка слоновой кости. Чем ближе к могиле, тем они будут всё больше отвисать, и в конце концов, когда она будет молиться на коленях, её груди будут мести пол, как у женщины, которую я видел однажды в Тулузе, зайдя в церковь.
Вначале ноланец говорил почти шёпотом, но постепенно повышал голос. Кто-то из торговцев услышал слово «могила».
— Все мы умрём, — сказал он, жадно глядя на куртизанку, на её ногу, обтянутую красным шёлковым чулком, на пышные бедра.
— Возможно, — ответил худощавый. — Но всё зависит от того, что называть смертью.
Немец восторженно захлопал в ладоши:
— Какие мы все философы!
Куртизанка расправила потёртую дамасковую юбку.
— Я торгую дублёными ослиными шкурами, — сказал вдруг худощавый громко, с вызовом.
Купцы с изумлением уставились на него и все разом что-то недоверчиво забормотали. Трое молодых людей затеяли игру в карты. Стеклоторговец, с которым у худощавого был разговор на пристани относительно добавочной платы за проезд, теперь неприязненно спросил:
— И хорошо у вас идёт торговля, сударь?
Но беседу снова нарушила больная девушка. Она опять завизжала на старуху, та с трясущейся челюстью забилась в угол.
— Это ведьма! — вопила девушка. — Иисус Христос, спаси меня от неё! — Она замахнулась на старуху распятием. — Христос, сделай, чтобы её сожгли, как ведьму, раньше чем она успеет околдовать меня! Я уже чувствую, как в меня вселяется дьявол. — Она судорожно извивалась, прижимая к груди распятие. — Меня хотят околдовать!
— Ей бы съесть огурец! — растерянно твердила мать девушки. — Солёный огурец!
Монах, бормоча заклинание, которым изгоняют бесов, поднял с пола косынку, снова уроненную девушкой. Девушка со стоном уткнулась лицом в колени матери. Платье её вздёрнулось, открывая ноги без чулок, в красных туфлях с высокими каблуками. Ноги были искусаны блохами. Монах сел подле неё и, вперив глаза в её затылок, где из-под ленты выбивались мелкие кудряшки, тихим, проникновенным голосом стал говорить ей о неисчерпаемой благости Божией. Куртизанка объясняла студентам, отчего она носит непарные подвязки. Купцы толковали между собой о судьбе одного капитана-венецианца, ездившего в Софию. Капитан сошёл с ума после того, как у него от французской болезни провалился нос, и воображал себя львом Святого Марка. «А какой был достойный человек! Раз он ведром размозжил голову матросу, который ему нагрубил». Переплётчик-датчанин с грустными глазами тщетно пытался продать одному из венецианцев экземпляр четырнадцатого тома «Амадиса Гальского»[179], переведённого на датский язык, в переплёте из телячьей кожи, или Часослов в шёлковом вышитом переплёте, с углами из серебряных нитей и галуна, серебряными застёжками и красными шёлковыми закладками.
— А мне нравится эта шёлковая книга, — сказала куртизанка. — Приходите ко мне, и я её куплю у вас. Сейчас у меня при себе нет денег. — Её быстрые глаза обежали всех мужчин. Датчанин с серьёзным видом записал её адрес. Еврей сидел неподвижно в самом тёмном углу.
Герман начал рассказывать о своих злоключениях. Он купил в Праге лошадь за двадцать гульденов[180] и ехал на ней всю дорогу до Падуи, но когда в Падуе он её опять продал, его едва не надули.
Гордый приобретённым житейским опытом, хотя при этом и пострадал его карман, Герман объяснял, как ему следовало поступить. Надо было продать лошадь на одной из остановок недалеко от Падуи, тогда он взял бы за неё приличную цену и мог оставшуюся часть пути проехать в карете. А в Падуе все барышники в сговоре. Они знают, что содержание лошади здесь обходится очень дорого и поэтому обладатель её уже через несколько дней понизит цену. Каждый день к нему подсылали всё новых мнимых покупателей, для того чтобы они торговались с ним впустую; они уверяли его, будто рынок в Падуе забит лошадьми. Скоро Герман пришёл в уныние.
— Проклятые акулы! Но я таки перехитрил этих охотников за лошадьми. Я продал свою лошадёнку за двадцать крон[181] серебром — дороже, чем рассчитывал. Дело в том, что я встретил земляка, который торговал когда-то в вольном городе Данциге[182]. Но всё-таки, если бы я продал её по дороге в Падую, я мог за неё взять на пять-шесть крон дороже.
После своей красноречивой тирады по поводу грудей безумной девушки, человек, назвавший себя Фелипе-ноланцем, как будто утратил то бьющее через край оживление, которым искрились его умные глаза, которое прорывалось в голосе, звучавшем по-ораторски, несмотря на все его усилия говорить тихо, сказывалось это оживление и в беспокойных движениях худого тела, то грациозных, то резко порывистых. Теперь он сидел мрачный и делал вид, что слушает болтливого немца, но внимание его привлекало другое: полустёртый узор на юбке куртизанки; пряжки на туфлях девушки (которая, широко открыв глаза, слушала монаха); глубокие морщины вокруг рта её матери, волосы, росшие из ноздрей священника, который по-прежнему сидел, закрыв глаза и откинув назад голову; тростниковая циновка под ногами. Всё — отдельные детали, несущественные, но, сливаясь с тысячами других мелочей, они образуют целое — десятка два живых человеческих тел, управляемых беспокойными умами. Отрывки горя и надежд переплетались в том целом, что он называл своей жизнью; и было так трудно в них разобраться, а разобравшись, не давать воли отдельным переживаниям, не позволять им разрастаться, подобно раковой опухоли. Так много «души» — это уже болезнь, вроде рака. Обо всём этом думал ноланец.
Они плыли теперь вниз по реке Бренте. Баржа шла легко, так как её несло течением. По временам на берегу, по которому шли лошади, тащившие баржу, виднелись вспаханные поля, окаймлённые вязами, по вязам вились виноградные лозы — обычный ломбардский[183] пейзаж. Беспорядочной кучей толпились убогие крестьянские домишки, полуголые дети играли вокруг навозных куч. Потом замелькали усадьбы богатых купцов Венеции и Падуи. На дальнем берегу спускались до самой воды сады с аллеями и фонтанами, группами плодовых деревьев, образующих беседки, с обширными воляриями, охраняемыми высокими изгородями, с башенками над арками. Висели тёмные, спелые гроздья винограда, айва, персики, яблоки, похожие на румяные и весёлые деревенские лица, цвели маки, алые, как кровь юной девушки. Время от времени мелькали пристани и лодочные сараи, яхты для катанья, разрисованные рыбами и водяными лилиями, украшенные лепными гирляндами роз и фигурами нереид[184]. Пассажирам, выглядывавшим из-под полотняного навеса лодки, казалось, что перед ними мир безграничного благодатного изобилия. Отражённый в зеркале тихого лона реки, бегущей к морю, этот цветущий и благоустроенный мир садов был пределом всех желаний. Но что скрывалось в мелких и злых душах его хозяев? «Отвечай же, Фелипе-ноланец, ты, для кого ни один лебедь не скользит, гордо надувая грудь, в зелёной прозрачности времён, ни одна среброногая дева не сыплет ароматы на гиацинт, полоща прохладную руку в озере твоего тела». — «Мне этого не надо, — отвечал он мысленно сам себе, — мне ничего не надо».
Было уже близко к полудню, и всех пассажиров разморило. Даже девушка, содрогавшаяся с головы до ног всякий раз, как взглядывала на старуху, лежала теперь вялая у матери на коленях, спрятав под косынкой распятие, и тёмные волосы падали ей на страдальческие глаза. А францисканец всё говорил тихим, убедительным голосом о блаженном конце, когда душа её соединится с Христом в брачных покоях на небесах, в безоблачный день, среди никогда не меркнущего сияния золота и лазури.
— А вон там летняя вилла Морозини, — внушительным тоном заметил один из купцов. — У меня не далее, как на прошлой неделе, было деловое свидание с синьором Томазо Морозини. Ах, какой это великодушный человек, как он воодушевлён заботой об общем благе и какая деловая смётка!
Задремавший было немец проснулся оттого, что в нос к нему заползла муха. Он сердито оглядывался, ища, к чему бы придраться.
— Эй, вы, — обратился он к нотариусу, низенькому человечку с выступающей вперёд челюстью, у которого на правом колене лопнула штанина. — Вы из Анжера, не так ли? — И он процитировал поговорку: — «Анжер — город низкий, а колокольни высокие, здесь шлюхи богаты, а учёные бедны».
— Что вы такое говорите? — спросила куртизанка, очнувшись от дремоты.
— Это описание всего нашего мира, не только Анжера, — заметил ноланец.
— А у меня на чулке дыра, — сказала куртизанка.
— Femina reticulata[185], — насмешливо бросил студенте разрезными рукавами.
Девушка опять заметалась, твердя, что в неё забрался дьявол. Еврей сидел, потупив голову и надвинув на глаза жёлтую шапку; он не шевелился, только изредка поглаживал длинной красивой рукой свою жёсткую чёрную бороду. Нотариус из Анжера, онемев от ярости, молчал и только почёсывал нос.
— Смотрите, не ссорьтесь с ломбардцами, — сказал ноланец немцу, заметив, что студенты с интересом следят за ними. — Они под платьем носят кольчугу, и им ничего не стоит заколоть человека.
— Я не боюсь никаких ломбардцев или бомбардцев, — крикнул немец. — К тому же этот малый с противной физиономией не ломбардец, а француз. От него воняет.
— Ах ты, коровий пастух! — завопил нотариус. — Налитая пивом немецкая свинья!
Немец вскочил с места. Но в этот миг лодка дёрнулась, и он упал ничком.
— Мост, добрые господа! — прокричал весёлый оборванец-лодочник, просунув под навес своё обросшее бородой лицо. — Сейчас будем проезжать под мостом.
Немец, которому наконец удалось встать на колени, вызывал нотариуса на дуэль. Вмешались венецианцы. Священник наконец открыл глаза, поднялся и громовым голосом объявил:
— Дуэли запрещены Тридентским собором[186]. Приказываю вам обоим не нарушать порядка.
Нотариус, уже окончательно очнувшись от дремоты, скрипучим голосом возразил:
— Не такой уж я невежда, как вы думаете. Собор обсуждал также вопрос об опасных вольностях, которые позволяют себе монахи, и предложил генералам орденов принять меры к тому, чтобы они проявляли больше скромности и любви к ближнему.
— Я не монах, — сказал священник.
— Не вы, так он. — Нотариус указал на францисканца. — Вы так просто от меня не отделаетесь, я — нотариус, человек, для которого вся низость человеческой природы — открытая книга.
— Оба они ещё пьяны, — заметил ноланец.
— Это верно, — подтвердил немец, оглядывая всех с сияющей улыбкой. — Мы с этим анжерцем пили вместе. Пьёт он замечательно, надо отдать ему справедливость.
— За это я вам всё прощаю, — сказал нотариус. — Прощаю… а что это я ему прощаю?
Он вопросительно посмотрел на всех, но никто уже не помнил, что, собственно, произошло. Один из пожилых венецианцев успел произнести целую речь, пока лодка проходила под мостом.
— Терпеть не могу проезжать под мостами, — заметила куртизанка. — Под ними так сыро и темно. И мне всё кажется, что мост непременно обрушится.
Девушка застонала. Один из студентов уронил на пол карту и выругался вслух, так как карта попала в грязь. А пожилой венецианец всё разглагольствовал.
— Путешественники, приезжающие в Венецию, — говорил он, — должны ценить, что на территории республики им дозволено носить шпаги. Нигде в Италии такие вольности не допускаются.
Нотариус мешал ему говорить, ворчливо твердя, что он должен знать, что именно прощает немцу, иначе он не может его простить.
— Кроме того, — добавил он, — мне всё равно пришлось бы отказаться от дуэли с каким-то поганым немцем, который умеет только рубить шпагой направо и налево. Немецкие правила фехтования — чистейшее варварство. Я их признать не могу. Это всё равно как если бы я позволил моей жене одеваться так, как женщины в Саксонии[187], которые ходят босиком, а юбки для удобства закатывают до талии.
— Ложь! — прорычал немец. — Вы оскорбляете священную женственность германок!
— Спокойствие, братья, спокойствие! — вмешался францисканец. — Из-за чего у вас эта перебранка? Разве великий Божий дар — жизнь — не заключает в себе столько радости, что дни наши должны проходить в благодарственных песнопениях Господу, а не в пагубном гневе и гордыне? Не потому ли среди нас царит нужда, что мы посягаем на то, что принадлежит одному лишь Богу? Разве вы не слышите, как поют птицы, которые мудрее нас?..
— Они в клетках, — промолвила крестьянка с корзиной, снова краснея и пугаясь своей смелости. — Уж как жалко бывает смотреть на певчих птиц в клетке…
Францисканец улыбнулся ей и продолжал:
— Разве есть в жизни нашей цель более достойная, чем славить того, кому поют хвалу соловьи, не зная соперников?
Больная девушка опять исступлённо замахнулась распятием на старуху. Священник, который до тех пор стоял, прислонясь к столбу навеса, сел и подпёр голову руками. Еврей медленными и осторожными движениями достал платок и плюнул в него.
— Мой ход, — сказал студент в красных штанах.
Вдалеке какой-то лодочник покрикивал на лошадей.
— Славить! — фыркнул ноланец, — «Все молитвы кончаются одинаково». — Он побренчал деньгами в кармане, намекая этим на смысл приведённой пословицы. Пассажиры захохотали. Не смеялись только священник, застывший в одной позе, еврей, больная девушка, старуха в углу да крестьянка, которая в эту минуту ела хлеб с варёной свининой. Купцы, сдерживая смех, с важным видом уставились на доски настила, от которых шёл запах смолы и речной тины. Ноланец внезапно стал серьёзен. Девушка, встретясь с ним взглядом, долго смотрела на него, открыв рот, потом перекрестилась. Долговязый студент взял у крестьянки кусок свинины и стал дразнить им еврея. А еврей сидел с упрямо-замкнутым и скорбным лицом, словно отгородившись от мира.
Они добрались до деревни Лиццафузина, где на реке была построена плотина, для того чтобы ил болот, постепенно отлагаясь, не соединил в конце концов Венецию с материком. Лодочники распрягли лошадей, тащивших баржу, и принялись крепить канаты, готовясь перетаскивать баржу из Бренты в болота, начинавшиеся за плотиной. Пассажиры стояли группами, наблюдая, как работает подъёмная машина, или глядя вдаль, туда, где, отделённая от них несколькими милями моря, за лёгкой дымкой тумана блистала Венеция в лучах угасающего дня. Сказочный остров, куда казалось немыслимым доплыть на этой лодке из необструганных брёвен, которая, кряхтя и скрипя, поддавалась усилиям тащившего её крана.
— Вот уж тринадцать лет прошло с тех пор, как я последний раз видел эту картину, — сказал ноланец, обращаясь к одному из купцов. — Тогда здесь свирепствовала чума.
Купец покосился на говорившего, пробормотал молитву святому Рокку и, плюнув, отошёл. А к ноланцу несмело приблизилась нарумяненная и набелённая куртизанка. В ярком дневном свете видно было, что её большой рот не накрашен. Малиновые губы женщины будили острую боль вожделений.
— Я слышала то, что вы говорили. Во время чумы умерла моя мать. Сколько лет тому назад это было?
Он ответил ей, и куртизанка продолжала:
— Нет, значит, это случилось не тогда, а раньше, я была совсем крошкой. Мне было лет пять. А теперь мне двадцать. — Она как будто пыталась проследить полет времени. — Пять лет… пятнадцать лет тому назад… — Она наморщила лоб под слоем белил. Безнадёжно усмехнулась. — Я говорю, что мне двадцать, но на самом деле я не знаю, сколько мне лет. Откуда мне знать? — Она понизила голос до шёпота. — Значит, вы не могли быть моим отцом. Видите, как откровенно я с вами говорю обо всём… Я постоянно стараюсь вспомнить, в каком году было то или иное, но не знаю ничего наверное… Мне нравятся пожилые мужчины…
Он читал на её накрашенном лице робость, простодушие, алчность, сменявшие друг друга. В конце концов осталось выражение наивности и лёгкого удивления, и тогда ноланец улыбнулся ей. Женщину успокоила его улыбка. Он хотел, чтобы она ушла, и в то же время его влекло к ней, к её вульгарному рту на детском лице. Ему говорить не хотелось, а она хотела, но не находила слов.
— Я, наверное, кончу тем, что попаду в какой-нибудь монастырь, — сказала она с усмешкой. — Там заставляют тяжело работать.
Её грудь под накладкой бурно вздымалась, волнуема жаждой сочувствия. Ноланец продолжал в упор смотреть на неё, взгляд его становился всё жёстче, а в женщине постепенно просыпался страх. Она уже готова была сделать всё, что угодно, только бы укрыться от этих глаз. Он понимал, что ей было бы легче, если бы он ударил её, но, если бы даже у него и было такое желание, боль в голове мешала сделать это. Боль, казалось, делала всё тело хрупким, способным разбиться, подобно вазе, в топорных руках этой женщины. Нет, не бить эту женщину хотелось ему, а поддаться слабости и погрузиться в трясину этого безобразного, кроваво-алого рта и удивлённых детских глаз. Он смотрел в глубину того страха, который испытывала женщина, в глубину чего-то неведомого. Она сказала жалобно:
— Я не буду вас звать к себе. — Она сказала это хриплым, дрожащим голосом и растерянно подняла руки к горлу. — Вы бы не пошли… К тому же я больна.
Её глаза умоляли. Ноланец не в силах был улыбнуться ей, он всё ещё вглядывался во что-то неведомое: источник жизни замутился в самой своей глубине. Ноланец коснулся руки женщины.
— Вы хорошая, — сказал он. — Ступайте лучше сразу в монастырь. Это для вас единственный выход.
— Я знаю, — согласилась она всё с тем же тихим и безнадёжным смешком. — Что ж, пойду. — Она искоса метнула на него взгляд. — Даю вам слово.
Он понимал, что она лжёт. И, недоумевая, что побудило её говорить с ним о себе, предвидел неизбежную перемену, уже заметную в её косом взгляде, в её манящем шёпоте.
— А насчёт болезни я пошутила… И ведь есть разные способы… вам нечего бояться. Может быть, всё-таки пойдёте ко мне? Тогда я скорее решусь идти в монастырь. Я чувствую, что вы такой сильный! Я хочу сказать — сильный духом. Пойдёмте ко мне!
Ноланец не отвечал. Он уже попросту забыл об её присутствии. Женщина ушла. А он опять задумался о далёких дворцах Венеции, которые плыли к нему навстречу в свете угасающего дня, словно сквозь туманы расстроенного воображения. Он чувствовал, что устал, он жаждал поскорее найти приют на этом острове, там, впереди, где вода пылала множеством оттенков, в которые даль вплетала зелёные блёстки и розовые перья заката, в этом городе, где мужчины и женщины плели интриги, боролись, плутовали, сжимали друг друга в объятиях, изнемогали в дурмане влажной жары и зловонных болотных испарений. С нежностью думал он о женщинах, у которых пышная масса волос тлела червонным золотом. И вновь, как бой невидимых часов, отмеряющих время, иное, чем то, какое отмеряется днями и ночами, ударил в сердце страх, ледяными струйками пополз по телу, — и ноланец простёр руки ладонями вперёд, словно отгоняя его. «С этим ещё не кончено», — подумал он.
Пассажиры пошли на постоялый двор — все, кроме безумной девушки и её матери, которым не нужно было ехать дальше. Перед постоялым двором стояли кареты богатых путешественников, желавших избежать неудобного переезда в лодке. У дальнего конца плотины выстроился ряд гондол, и гондольеры громко зазывали пассажиров, клятвенно уверяя, что доставят кого угодно в Венецию на много часов раньше, чем баржа. В другие лодки слуги ставили бочонки со свежей речной водой, ибо богатые венецианцы не желали пить солоноватую воду колодцев и цистерн, которой вынуждены были довольствоваться бедняки, и ежедневно посылали на материк за речной водой.
В трактире шумели посетители, требуя, чтобы им сообщили стоимость заказанных блюд раньше, чем их подадут. На вина существовали более или менее твёрдые цены, но о ценах на еду в гостиницах следовало всегда осведомляться заранее, иначе вас могли обмануть.
Громкий всплеск воды, хриплые крики лодочников и весёлый хохот гондольеров возвестили какое-то событие. Это подъёмный кран с неожиданной для всех быстротой опустил лодку.
— Ох, они её уже перебросили! — причитала старуха, вышедшая из того оцепенения ужаса, в которое её привели обвинения безумной девушки. — А я забыла под лавкой мои туфли. Ох, и что я теперь буду делать?
Куртизанка сказала: «Бедняжка!» — и предложила старухе денег, но та не взяла. Монах стоял у окна, завешенного красивыми вышитыми занавесками с плетёным кружевом по краю. Один из венецианцев поднёс ему стакан вина, но францисканец только покачал головой и усмехнулся. Священник ходил взад и вперёд по дорожке перед домом. Немец-студент залпом выпил большой кубок вина и самодовольно подсмеивался над нотариусом, который заснул, лёжа головой на столе в луже вина и выставив напоказ свою острую лысеющую макушку.
Худощавый пассажир с каштановой бородой, доев остатки жареной тыквы со стоявшего перед ним блюда, приказал подать ещё вина и выпил два кубка. Затем он подошёл к окну и стал смотреть на даму, которая сидела развалясь в одном из экипажей. Она была безобразно толста. В то время как ноланец наблюдал за ней, она вышла из кареты. Тотчас подскочил паж с красным шёлковым зонтиком, обшитым серебряной бахромой. Ручка у зонта была слишком длинная, пажу трудно было держать его так, чтобы заслонять от солнца лицо госпожи. И всякий раз как луч солнца скользил по её лицу, она била мальчика веером по глазам.
Худощавый перешёл к тому окну, где стоял францисканец.
— Как жаль, что вы заблуждаетесь, — сказал он, направляясь к дверям.
На выбеленной стене были написаны мелом условия найма лошадей, а пониже — неприличная фраза, уже наполовину стёршаяся. Худощавый опять вернулся к монаху.
— Я не так выразился. Никогда не следует жалеть о том, что ложь есть ложь. Ложь никогда не бывает прекрасна. Но вы не понимаете. Да и где вам понять? — Он вздёрнул губу. — Нет лучшего христианина, чем сводник, ибо он поступает со всеми людьми так, как желал бы, чтобы люди поступали с ним. — С лица монаха всё не сходила улыбка.
Наконец пассажиры снова вернулись на баржу, чтобы ехать в Венецию. Провожаемая руганью гондольеров, баржа двинулась среди тростников, мимо зелёных островков; и уже близко из тумана вод поднималась Венеция, постепенно вырастая перед их глазами, но не теряя воздушности очертаний. День был тихий, безветренный. Один из гребцов свалился со скамьи, и лодка накренилась. Куртизанка вскрикнула, монах перекрестился, предохраняя себя этим не от опасности, а от суетности мирской, прозвучавшей в гортанном крике женщины. Этот крик напомнил ему что-то, мрачной тенью промелькнувшее в его глазах и тотчас исчезнувшее. Старуха ухватилась за край его рясы, бормоча:
— Помолись за меня, святой отец.
— Никакая опасность нам не грозит, — сказал студент-юрист. — Разве вы не слыхали пословицы: «Никогда не потонет та лодка, где есть студенты, монахи и шлюхи». А у нас тут имеются представители всех этих трёх профессий.
— Правда, — подхватила куртизанка своим жеманным детским голоском. — Четыре студента, три священника и я. — Она улыбнулась францисканцу, но он пристыдил её страдальческим спокойствием своей братской приветливости, его ответная улыбка была подобна свече, горящей внутри голого черепа. — Я уйду в монастырь, — сказала женщина тихо, наполовину про себя, и повернулась, чтобы с дикой ненавистью посмотреть на ноланца.
Немец, борясь с дремотой, продолжал насмехаться над мирно спавшим нотариусом:
— Хотел бы я посмотреть, как он будет пить в Касселе. Там пиво крепкое, оно начисто вымывает человеку внутренности. Кассель — мой родной город. Я много болтался по свету. Nihil humani[188]… Странные вещи приходилось мне видеть… Я уже вам рассказывал о лекциях по анатомии. Женщины в моих глазах лишь вместилище требухи, бесконечного множества кишок. Жизнь у меня была тяжёлая…
Один из венецианцев, томимый каким-то чувством разобщённости с миром, глядел вдаль, за нагретую солнцем водную ширь. Он начал рассказывать о чуде, которое недавно произошло во Франции, в церкви Святой Марии в Бурже. («Бурж, знаю, как же, — подхватил шёлкоторговец, — там живёт моя тётушка».) Чудо состояло в том, что на всех покровах и облачениях, даже на плаще проповедника-монаха появились кресты — четырёхугольные, величиной в полкроны… А когда еретики стали высмеивать это чудо… («Да, — вмешался снова шёлкоторговец, кивая головой, — в Бурже есть еретики, но моя тётушка верующая, она готова выцарапать глаза каждому еретику, который ей попадётся».)… кресты появились и на брыжах у многих мирян, даже на платьях женщин.
— Вот видите, женщины не так уж недостойны милости Божьей, — заметила куртизанка, но на неё никто не обращал внимания. Венецианец продолжал рассказывать:
— Изображения чудесных крестов были привезены в Венецию и выставлены напоказ…
— А купить такой крест можно? — спросила куртизанка, но её по-прежнему никто не слушал.
— Это знамение победы, — сказал францисканец, беседовавший со старухой.
— Иду королём! — объявил один из студентов и бросил карту на лавку так размашисто, что она слетела в воду. Между игроками поднялся спор. — Легко доказать, что это был король, — настаивал студент. — Проверьте колоду и вы увидите, какой карты недостаёт.
— Такое же знамение, — продолжал францисканец среди общего шума, — было ниспослано Константину[189], и оно предвещало победу.
— Этот Константин, — угрюмо пояснил священник, окинув всех сердитым взглядом, — дал Святой Церкви власть мирскую, которой множество нечестивцев теперь не признает.
Среди венецианцев поднялся ропот. Этот священник, должно быть, не из Венеции, он, наверное, чужой; его речи напоминают выступления сторонников Папы, таких, как Беллармин[190], против свободы и прав республики.
Ноланец, поджав губы, шепнул датчанину:
— Скажите ему, чтобы он прочитал Валлу[191]. Ничего Константин не давал Церкви. Я уважаю Валлу, это был великий человек. — Голос его замер, словно от усталости, и он закрыл глаза, не слушая датчанина, который воскликнул, от увлечения захлёбываясь словами:
— Да, да, я как раз переплетал экземпляр его сочинения «De voluptate»[192] для одного молодого человека из Эльсинора. «De voluptate et vero bono» — вот как оно называется. Я это хорошо помню потому, что я сломал одну из букв, V, и запасной у меня не было, а заказчик ужас как торопил меня. Из-за спешки я испортил целую пачку листового золота. Да, я всегда буду помнить Лоренцо Валла. Видите, мне даже известно его полное имя…
— «De professione religiosorum dialogus»[193], — отозвался ноланец, всё ещё не открывая глаз. — Мне бы следовало раньше прочесть сочинения Валлы. Великий человек.
Слёзы потекли по его щекам. Датчанин, движимый смутным чувством жалости, склонился над ним так, чтобы другие не увидели этих слёз. А Венеция внезапно вынырнула совсем близко из-за мерцающей дымки ранних сумерек.
II. Приют найден
Она подошла к окну, ступая на цыпочках, хотя никто не мог услышать её шаги, и, приподняв край занавески, выглянула наружу. Ей была видна часть Фреццарии, люди, проходившие в конце улицы, на которой стоял их дом. Она наблюдала за прохожими, как часто делала и раньше. Иногда это бывало очень занятно. Раз она видела даже, как мальчишка, стащив фрукты с лотка, мчался по улице, а вдогонку ему неслись вопли торговца. А как-то после обеда на улице случилась драка — она не любила драк, но всё же стояла и смотрела как заворожённая. А по вечерам её занимали не прохожие, торопливо мелькавшие мимо, а те, кто останавливался на краю освещённого фонарём участка и то выступал из мрака, то опять скрывался в нём: двое мужчин, которые о чём-то шептались, сблизив головы в капюшонах, или мужчина и женщина. Эти минутные зрелища нисколько не удовлетворяли её; никогда нельзя было быть уверенной, видела ли ты это в самом деле или тебе только померещилось. Быть может, потому это и было так увлекательно. Ей хотелось выскользнуть потихоньку из дому и увидеть, что из этого выйдет.
Быть может, оттого она так часто ходила по дому на цыпочках, словно боясь спугнуть какое-то видение. Сегодня она с первого взгляда поняла, что ей предстоит скучный день. Люди на улице выглядели как марионетки, которых приводили в движение интересы, чуждые её мирку, и наблюдать за ними её побуждало только то скучное обстоятельство, что Луиджи должен сейчас вернуться с покупками. По тому участку Фреццарии, который был виден из её окна, проходили всё такие люди, каких и следовало ожидать на одной из главных улиц со множеством лавок. Проходили нагруженные покупками мужчины в длинных чёрных одеяниях (а когда они крадучись пробирались здесь по вечерам к своим возлюбленным и фонарь выхватывал их из мрака, они всегда бывали одеты в короткие испанские плащи). Подмастерья без шапок, чиновники, уличные мальчишки, греческие матросы, носильщики, катившие тачки с дынями или ручные тележки с тюками разных товаров. Из-за угла вышел мужчина с красным платком на голове, выкрикивая: «Кому мазь от чесотки?»
Тита почти перестала наблюдать. К тому же надо было идти вниз и ждать Луиджи. Но она помедлила у окна ещё минуту и, закрыв глаза, прочитала молитву. Когда она снова открыла их, она была вознаграждена.
Сначала она ничего не видела — это оттого, что во время молитвы она крепко зажмурила глаза, чтобы Бог не мог заподозрить её в плутовстве. Она никогда не могла простить одному из жильцов его слов (он умер с год тому назад, ему снёс голову саблей янычар[194] за неуместные насмешки над Дамаском[195]). Этот жилец говорил, что, когда женщина, молясь, закрывает глаза руками, она всегда раздвигает пальцы настолько, чтобы сквозь них можно было всё видеть. Он сказал это не Тите. Он сказал это её матери, что ещё хуже. Тита ушла и плакала в прачечной, твердя: «Я не такая! И ни за что не буду такой, когда вырасту». Не будь в прачечной так грязно, она бы там повесилась.
Так что сейчас, когда Тита, помолясь честно, без всякого жульничества, открыла глаза, она с минуту моргала ресницами, ничего не видя. Затем она увидела внизу, на противоположной стороне улицы (это облегчало наблюдение) женщину, гордо и вызывающе выступавшую на высоких каблуках. Тита крепко сжала губы, но продолжала смотреть с возраставшим вниманием. У женщины под платьем, очевидно, были подложены подушечки, чтобы угодить вкусу венецианцев, которым нравились пышные формы. Только тончайшая вуаль прикрывала её набелённые груди с окрашенными в малиновый цвет сосками. Но Титу интересовал больше всего ряд пуговиц, нашитый на платье сверху донизу. Тите хотелось плюнуть, она чувствовала, что язык её крепко прижат к стиснутым зубам. Назначение этих пуговиц ей было известно: они давали возможность женщине удовлетворять своих посетителей без излишней траты времени на раздевание и без ущерба для платья. Пуговицы были перламутровые, блестящие. Так блестит след улитки на капустном листе. У Титы имелась одна-единственная большая перламутровая пуговица, которую она хранила в шкатулке. 'Try пуговицу она украдкой подобрала на улице, когда шла к обедне. И часто любовалась ею, мечтая, что когда-нибудь непременно купит много таких пуговиц, чтобы нашить на платье. А теперь всё испорчено. Наверное, найденную Титой пуговицу потеряла эта самая женщина, и наверное, случилось это оттого, что она чересчур поспешно расстёгивала платье. Тита чувствовала, что эта женщина — её враг, что это именно она вдвоём с мужчиной мелькнула перед нею видением в лунном свете и часто снилась с тех пор по ночам.
Считая шаги женщины, она прижалась лбом к стеклу. Потом, с внезапной тихой решимостью, на цыпочках отошла от окна. То была не её комната. Но Тита знала, что живший в ней постоялец, приезжий из Праги, уехал на два дня в Падую, а в его комнате ей нравился балдахин над кроватью из чёрного в разводах бархата и белой парчи. Ей хотелось бы поспать в этой постели под сверкающей звёздочками парчой, но она не знала, хватит ли у неё на это смелости. Что, если в полночь неожиданно вернётся жилец и ляжет в постель, не заметив, что там уже лежит она, Тита? «А я притворюсь мужчиной, — подумала она. — Скажу, что меня поместили на ночь в этой комнате, так как хозяин её в отъезде. Но вдруг он узнает мой голос?» — И она промолвила вслух, стараясь изменить голос:
— Я новый постоялец… Такой же приезжий, как и вы…
Словно в ответ, из комнаты наверху донёсся глухой стук, согнавший слабый румянец с нежных щёк Титы. Потолок затрясся. Что это, неужели мать упала с кровати? Тита стояла неподвижно. Ответственность была слишком тяжела. Как будто всё здание навалилось на неё. Она тревожно потрогала себя. Почему бы и нет? Она дрожала, держась за колонку кровати, колени её ослабели. «Бесполезно. Я уже больше не та, что была, — подумала она. — И не могу быть такой». В её хрупком теле бешено билось сердце, гоня кровь, кровь шумела в висках, застилала утомлённые глаза. Казалось, вся кровь из её тела хлынула в голову, оставив ноги бессильными, а в желудке — мучительное ощущение пустоты. Стук донёсся снова, эхом отдаваясь в висках.
Ей не хотелось идти наверх, её удерживали стыд и гнев, и всё же она знала, что если пойдёт, она будет вести себя, как нежнейшая и отзывчивая дочь. И не только внешне — она в самом деле будет испытывать к матери сострадание, но где-то в глубине души будет скрывать этот горький стыд, как мысль о паутине, которую поленилась обмести. Порой думаешь: «Паутина слишком высоко, я её почти обмела». И ходишь, делая вид, будто в самом деле обмела её, исполнила долг, и говоришь самодовольно: «Вот и всё». А там вдруг, много часов спустя, всплывает снова в сознании, что долг не выполнен, паутина разрастается всё шире и шире, рождая пауков, которые наползают на тебя. И ты словно парализована и готова на всё, только бы не возвращаться к старому, только бы не надо было обметать паутину, которую в своё время было так легко обмести. Тогда достаточно было самого ничтожного усилия над собой — и дело было бы сделано. А после того как ты притворялась, будто оно сделано, невозможно идти на попятный, при этом рискуешь оказаться ещё большей притворщицей, — вот что выходит из самого обыкновенного упущения.
Теперь, когда Тита колебалась, идти ли наверх к матери, сойти вниз ей казалось уже невозможным. Она стояла перед окном, вся вытянувшись, широко расставив ноги. Ромбы солнечного света ласково скользили по ней, оплетая неясной сеткой тонкую фигуру в простеньком платье, светло-каштановые волосы, перехваченные на голове одной только лентой. Как огромная западня мира, как воздушная ткань её грёз, солнечная сетка обнимала её тихонько, незаметно, и Тита только чувствовала, что этот свет слепит, что она перед ним беззащитна. «Боже праведный, я больше не буду так делать», — молилась она.
Затем мысли её вернулись к Луиджи, и она пожалела, зачем обычай требует, чтобы всю провизию для дома покупали на рынке мужчины. Если бы она могла делать покупки сама, у неё была бы возможность выходить из дому, принарядившись, ходить по рынкам, торговаться, жизнь для неё стала бы намного интереснее. А сейчас она может только надзирать за Луиджи, ловко выспрашивать его о ценах, в надежде, что поймает его на противоречии и таким образом уличит в небрежности или нечестности. Вот, например, фунт баранины может стоить самое большее пять с половиной сольдо, фунт угрей (нечищеных) — десять сольдо, моллюски — три сольдо сотня, пармезан — десять — пятнадцать сольдо. И ей надо проверить, не купил ли Луиджи вместо пармезана дешёвый сыр по шесть сольдо. Потому что жилец, требовавший пармезан, из Швейцарии и хорошо разбирается в качествах сыра. Затем Тита с испугом вспомнила, что нужно купить восковые свечи, а она забыла вписать их в список. Три фунта… нет, шесть. Это будет стоить двенадцать сольдо. Приятно иметь в доме большие запасы, но надо следить, чтобы продукты не портились. И отчего она постоянно забывает о свечах, ведь это одна из немногих вещей, которые легко хранить? Сердце у Титы ёкнуло. Занавеси из синей и золотистой флорентийской тафты пятнами расплывались перед её глазами, левая ладонь зудела. Она очень гордилась своими обязанностями и ответственностью, но её неотвязно преследовал страх сделать какую-нибудь оплошность. Преследовал и сухой кашель матери по ночам, зловещее лицо нищего с заячьей губой, раздувшийся труп утопленной кошки, который она видела в воде между свай.
Она услыхала голос Луиджи, звавшего её, и, приняв строгий вид, торопливо стала спускаться вниз, спрашивая себя, зачем она понадобилась там?.. Уж не вернулся ли студент из Рима? Он всегда в самые неподходящие моменты совался к ней с неожиданными требованиями и приносил всякие странные вещи, прося сварить их на кухне. Щёки у него были уже дряблые, и, разговаривая, он вертел квадратными большими пальцами и заискивающе пялил на неё близорукие, тесно поставленные глаза. Держать постояльцев — утомительное дело, в особенности для молоденькой девушки, у которой мать душевнобольная и нет других помощников, кроме дерзкого слуги и кухарки, красноглазой толстухи с плоскими жёлтыми руками, распластанными на переднике, как блины.
Но это оказался не студент из Рима. В передней стоял незнакомый мужчина, нетерпеливо похлопывая себя по ляжке бархатной шапочкой, а за ним — мальчишка с небольшим сундуком и какими-то огромными свёртками, обёрнутыми в холст. Тита выпрямилась во весь свой шестнадцатилетний рост и постаралась принять вид настоящей хозяйки. Луиджи — смуглый, с глупым и красивым лицом — громко ворчал что-то. Сегодня он держался наглее обычного. Тита расправила складки вишнёво-красного платья и сделала шаг вперёд. Она казалась себе величавой, ощущала тяжесть в бёдрах, как будто она была затянута в тугой, негнущийся корсет. Она мысленно твердила себе: «Ну вот, Луиджи уже пришёл, а я всё забываю про свечи».
Худощавый незнакомец с каштановой бородой отвесил торжественный поклон: видимо, она произвела на него впечатление. Тите он понравился, несмотря на низкий рост, на некоторую потрёпанность щегольской одежды и чрезмерно напряжённую, даже чуточку комичную выразительность черт. Она не могла определить, к какому кругу людей принадлежит этот незнакомец. Причёска его, видимо, была делом рук дорогого парикмахера, но завитки над ушами небрежно растрёпаны. Будь он моложе, Тита приняла бы его за богатого странствующего студента. Если бы не оттенок некоторого свободомыслия в покрое его платья, она бы подумала, что перед ней нотариус, приехавший в Венецию по делам. Если бы в его одежде заметно было больше заботы о внешности, он бы мог сойти за путешествующего для своего удовольствия французского дворянина. Тита была довольна своей проницательностью. Она не сочла нужным напомнить самой себе, что, определив, кем он не мог быть, она, в сущности, не сумела определить, кем же он был в действительности. Она осмелела, забыла о матери и о воображаемом жёстком корсете, придающем достоинство её осанке.
Незнакомец объяснил, что хотел бы снять у них комнату. На сколько времени? На месяц, а может быть, и дольше. Что ж, свободная комната у них имеется. (Собственно, свободных комнат было пять, а не одна. Тита чуть не сказала ему это, но вовремя спохватилась. Опытные хозяйки так не делают, хотя глупо врать, ведь он узнает правду, когда поселится у них).
— Я приезжал в Венецию лет двенадцать тому назад, — сказал незнакомец и запнулся. — Нет, тринадцать, пожалуй. И тогда я снимал комнату на Фреццарии. Вот я и пришёл опять сюда. В знакомом месте чувствуешь себя как-то уютнее.
— Вы жили в этом доме? — переспросила Тита, не поняв, так как голова её была занята словами «тринадцать лет». И в то же время она мысленно твердила себе: «Если я опять забуду о свечах, то в наказание ущипну себя, стяну свои подвязки так туго, что мне будет больно, вот тогда я в следующий раз не забуду». Облечённая в тугой корсет собственного достоинства, она смотрела на незнакомца как сквозь туман и машинально нащупывала рукой перила лестницы. — Сюда, пожалуйста, — промолвила она, чувствуя, что у неё слегка трясутся колени, прислушиваясь к чьему-то крику на улице, к насвистыванию Луиджи в кухне, к глухому шуму, доносившемуся откуда-то издалека. Чем больше силилась она сосредоточить внимание настоявшем перед ней человеке, тем больше у неё разбегались мысли. Ей так хотелось послушать то, что он говорил, но душа её где-то блуждала. Это пугало Титу.
— Нет, — ответил незнакомец на её вопрос. Голос его звучал всё мягче.
Никогда ещё не слыхивала Тита такого мягкого, такого вкрадчивого голоса; этот голос приводил её чувства в смятение, пугающее и вместе с тем приятное. Она покачивала тонкой рукой, лежавшей на перилах. Незнакомец теперь казался ей моложе, чем на первый взгляд. Она видела морщинки вокруг глаз, но ласковый свет в этих глазах пленял Титу.
— Я не помню, в каком именно доме я жил. Как будто во втором от угла. Хозяин служил в Арсенале[196]. Забыл, как его звали.
— Не знаю, — неопределённо протянула Тита.
Мальчишка-носильщик стукнул о пол сундуком, напоминая таким образом о своём присутствии, и ему велели поставить сундук на свёртки и уходить. Тита снова ощутила прилив чувства собственного достоинства. До того как её покорил ласкающий голос этого мужчины, оно в нужную минуту никогда не изменяло ей, спасая её, когда другие мужчины в коридоре или за дверью приставали к ней. Робость её исчезла. В ней пробудилась хозяйственная энергия, она показала незнакомцу две незанятые комнаты (самые лучшие) и предложила выбрать, какую он хочет. Он выбрал ту, окна которой выходили на Фреццарию. Эта комната была рядом с комнатой Титы, и, хотя он не мог знать этого, Тита была довольна его выбором и почувствовала к нему ещё большее расположение. Ей захотелось излить перед ним душу, попросить совета у этого человека с приятным голосом. Он сперва показался ей чудаком, а теперь она чувствовала, что он добр и ему можно довериться. В его тихом голосе она различала мужские ноты, которые, однако, не внушали ей страха, ласковость, спокойную и проникающую в душу, сокровенную ноту интимности, которая, казалось, предназначалась для неё одной во всём мире.
Она услышала кашель матери — это её рассердило и сразу отрезвило. Тита сразу же вспомнила, что нужно поговорить с новым постояльцем о плате. Ей неприятно было запрашивать слишком много, потому что чутьё ей подсказывало, что этот человек заплатит, сколько бы она ни спросила, хотя он явно небогат. Пользоваться этим было бы нечестно. Настойчивый кашель матери будил в ней холодную злобу, но не к этому человеку. Наоборот, она готова была защитить его от своей матери, которая непременно захочет взять с него лишнее. Ей казалось, что она ясно слышит, как мать одевается наверху, и она поспешила назвать цену — четыре кроны в месяц за постель, бельё и приготовление пищи, не считая продуктов, за которыми он сам должен будет посылать на рынок. Потом она вспомнила, что надо спросить имя нового жильца.
Он сказал после минутного колебания: «Фелипе Бруно». Пристально взглянул на неё и продолжал, со страстной и раздражающей выразительностью подчёркивая каждое слово:
— Все эти годы я скитался вдали от Италии. Мне это было очень тягостно. Всё время хотелось домой. И вот я вернулся.
Он дотронулся до её руки, словно в этой руке воплощалась для него гостеприимная родина. Тита не отодвинулась. Она только посмотрела на свою руку, которой он коснулся, и произнесла: «Но вы ведь не венецианец», гордясь тем, что запомнила его слова. Исчезло ощущение лёгкого отчуждения, опасной пустоты между нею и людьми. У неё потеплело на душе.
— Нет, — ответил он. — Я родом с юга, из Нолы. Вы, наверное, не слыхали о таком городе?
— Нет. — Она важно покачала головой.
— Это недалеко от Неаполя.
— О Неаполе я слыхала, — сказала она с живостью и покраснела. — Ну, ещё бы!
Тита услышала, что мать выходит из своей спальни, и подумала, что щёки у неё, конечно, густо нарумянены. Злоба холодной тяжестью лежала в груди Титы. Она чопорно сложила руки.
Распространяя смешанный запах каких-то лекарственных трав и духов, её мать, длинноносая, костлявая, ястребом налетела на нового жильца и своим хриплым голосом начала задавать вопросы. Тот сохранял учтивый тон, но Тита была уверена, что мать ему не понравилась. «Однако, — подумала она, — он со мной был, пожалуй, не более вежлив, чем с нею. Может быть, он и на меня не обратил никакого внимания?» Она почувствовала разочарование — и снова душа в ней затуманилась, она уже не могла слушать разговор и думала: «У студента из Рима в комнате нет свечи. Что, если он вдруг поздно ночью придёт и спросит у меня свечу, а у меня нет ни одной».
Но человек, назвавший себя Бруно, не был простаком. Оставляя без внимания намёки и жалобы синьоры Виньеро, он повторил, что уже договорился о цене и будет платить в месяц четыре кроны серебром. Синьора Виньеро сказала, что за наём дома платит триста крон в год (только двести, — чуть не поправила её Тита, перехватив взгляд ноланца), что она едва сводит концы с концами. Трудно жить одинокой вдове, которую оставил с юной дочерью без всяких средств один негодный купец, позволивший себе погибнуть во время кораблекрушения по дороге с Крита. Впрочем, если некоторые постояльцы — презренные людишки, только и думающие о том, как бы обидеть бедную, беззащитную вдову, зато попадаются и в высшей степени благородные люди. Мир, несомненно, идёт к гибели, это говорил и один монах-проповедник несколько дней тому назад. Никто теперь не почитает, как бывало, ни власть, ни вдов.
Новый жилец дал хозяйке наговориться и затем сказал, что сегодня для него не нужно ничего готовить, так как он пойдёт навестить друзей. После этого он ушёл в свою комнату, а синьора Виньеро вцепилась жёсткими пальцами в Титу и прижала её к стене.
— Как ты смела за моей спиной спросить с него только четыре кроны? — прошипела она.
— Да ведь столько же платит и синьор Эвзебио.
— Но синьор Эвзебио беден, он — хороший человек и ожидает наследство от богатой тётки.
Синьора Виньеро так стиснула плечо дочери, что ногти впились в тело. Она дышала прямо в лицо девушке, пытаясь заставить её поднять глаза.
— И этот тоже беден, — тихо, но вызывающе возразила Тита. Опустив глаза, она разглядывала свои ноги в домашних туфлях из воловьей кожи. Двигала правой ногой до тех пор, пока не направила пальцы в сторону, где была комната нового жильца. Это как будто создавало между ним и ею какую-то связь. Как будто от её ноги, обутой в изящную туфлю, исходило какое-то таинственное влияние на этого человека, скрывшегося в свою комнату.
— А ты откуда знаешь? По внешности судить нельзя. Есть люди, которые одеваются бедно для того только, чтобы за всё платить дешевле. Тебе следовало сразу позвать меня. Я опытна в обращении с мужчинами, мне известны все их повадки, когда они хотят надуть женщину. Аты — просто дурочка. Ты за моей спиной помогаешь ему добиться своего! Погоди, ты ещё узнаешь мужчин так, как знаю их я. Все они — гады…
Тут Луиджи позвал её снизу, и она выпустила плечо Титы.
— Кроме меня, здесь некому присмотреть за домом. Все вы не даёте мне ни минуты покоя. А я так больна! Погоди, вот умру — тогда пожалеешь о матери! — И она, стуча каблуками, стала сходить с лестницы.
Тита прислонилась спиной к стене и ждала. Закрыв глаза, она ещё ощущала руки матери на своей шее, и ей казалось, что она скользит вниз, на пол, что колени её медленно подгибаются. Последним усилием воли она снова призвала на помощь чувство собственного достоинства, которое только и поддерживало её в этом доме, где она мучилась. Она ощущала своё достоинство как свою защиту и утешение, как жёсткий корсет, сдавливавший живот, поднимавший её маленькие груди. В конце концов, ей нечего бояться. Как только мать опять ляжет в постель, надо будет послать Луиджи за свечами, несмотря на то что он будет ворчать. Но, может быть, мать не ляжет, присутствие нового постояльца может привести её в возбуждённое состояние. Всё это казалось Тите неразрешимой задачей, которая смыкалась вокруг неё, как та броня собственного достоинства, что была и её спасением и её тюрьмой. Тюрьмой, из которой ей не вырваться, но где она в безопасности от нападений.
Она подняла глаза ещё раньше, чем открылась дверь, ожидая, что она откроется. И дверь действительно отворилась, вышел новый постоялец, этот синьор Бруно. Он как будто не удивился тому, что Тита ещё в коридоре.
— Нельзя ли подать мне стакан вина? — спросил он. — Вы можете приписать это к моему счёту.
Тита хотела уйти, но он жестом остановил её. Они стояли и глядели друг на друга. У Титы в эту минуту было покойно на душе. Ей не казалось странным, что они стоят и смотрят друг на друга. Упиваясь новым чувством глубокого удовлетворения, она думала о том, что он очень красив. И в ней росла безмятежная уверенность, что он всё знает о ней.
— Мы будем друзьями, не правда ли? — сказал он.
— Да, — ответила она радостно. Она не задумывалась над смыслом его слов, как это бывало с ней при каждой встрече с другими мужчинами. Смысл их крылся в том чувстве мирного блаженства, которое этот человек вызывал в ней, в интимной ласке его голоса. Она ощущала приятную теплоту в груди. «Если бы он застал меня совсем голой, — подумала она, — мне бы не было стыдно, я бы чувствовала то же самое, что сейчас. А он бы только улыбнулся мне, как улыбается сейчас, и не заметил бы никакой разницы, — а в то же время заметил бы её так, как никто другой». Одно мгновение, колеблясь между разочарованием и какой-то властной потребностью души, которая была сильнее и нового чувства безопасности, и ворвавшегося в него страха, она подумала, что он сейчас начнёт целовать её, и не знала, завершат ли его поцелуи этот момент высшего блаженства, или уничтожат его. Но Бруно только взял её руку в свои и перевернул ладонью кверху. Вгляделся в ладонь и затем, загибая её пальцы один за другим, спросил:
— Как вас зовут?
— Тита, — ответила она шёпотом.
— Мы будем друзьями, — промолвил он снова. Видно было, что он сильно устал. Он теперь казался старше, и настроение Титы изменилось, теперь ей хотелось бы, чтобы он оказался её отцом, которого она совсем не помнила, — остался в памяти только его шумный смех и толстые красные губы среди путаницы волос.
— Я пойду принесу вам вина, — сказала она.
Но он, казалось, не слышал. Стоял, держа её руку в своей, не глядя на неё. Сюда доносилось отдалённое эхо голоса её матери, которая бранилась на кухне. Жирно шлёпалась вниз штукатурка на чердаке, глухо громыхали экипажи на Фреццарии, и где-то близко слышался раздражающий визг несмазанного печатного станка. Тите хотелось сказать Бруно, что она спит в комнате рядом, — этим она словно хотела просить у него зашиты. «Я плохо сплю», — пробормотала она. Бруно всё держал её руку. Она не была уверена, что не сказала нечаянно вслух того, что думала. И горячо надеялась, что этого не случилось. Она представила себе богатую важную даму с мускусным шариком в руке. И вдруг рассердилась, что её задерживают здесь без надобности, тогда как у неё столько дела.
— Благодарю вас, — сказал Бруно отрывисто и, снова улыбнувшись, выпустил её руку. А Тите стало жалко, что он выпустил её.
III. Мочениго
Он задумался о том, получит ли он обещанного ему сокола, с которым можно будет охотиться на материке. Облокотись на попорченную непогодами мраморную балюстраду[197], он склонил красивое, холёное лицо на белые руки, и чёрные волосы упали ему на щёки. Он тряхнул головой, откидывая их назад. В их блестящей чёрной рамке лицо казалось болезненно-бледным. На лбу волосы были подрезаны ровной чёлкой, а сзади спускались на чёрную бархатную куртку, дополнявшую эффект. Он любовно погладил свои чёрные подвязки с розетками из серебряных нитей, потом снова засмотрелся на Большой Канал[198]. В конце дня мимо Кампо-Сан-Самуэле проходило не так много лодок, как утром. Он увидел гондолу, которая несомненно направлялась ко дворцу Мочениго, — и восторженно засвистал, пытаясь угадать, кто из знакомых его господина едет к нему с визитом. Теперь у них редко бывали гости: хозяин не любил тратить деньги на угощение. В этом отношении он был настоящий венецианец: все венецианцы предпочитали встречаться со знакомыми на рынке и на Риальто, а к себе домой никого не приглашали.
Да, гондола остановилась у дворца, и вышедший из неё мужчина о чём-то спрашивал гондольера; очевидно, он приехал в гости к Мочениго. Джанантонио весь трепетал от радостного нетерпения. Наконец-то хоть какое-нибудь событие, даже если окажется, что посетитель приехал по скучному делу. Красивые, капризно надутые губы раскрылись в лёгкой улыбке. Джанантонио, весело отбарабанив рукой какой-то марш по мраморным перилам, побежал вниз. Внизу у дверей стоял наготове Пьетро, пристально глядя из-под щетинистых бровей на незнакомца, который поднимался по лестнице, шагая через две ступени.
— Уходи, Пьетро, — сказал Джанантонио резко, — иначе я нажалуюсь на тебя хозяину.
Пьетро грозно посмотрел на него:
— Нет, это я нажалуюсь на тебя. — Он почесал подбородок и лениво зевнул.
— Что ты ему скажешь, Пьетро? — захныкал Джанантонио, сразу упав духом. Он смотрел на заплату на штанах Пьетро, которые тот разорвал, когда в пьяном виде затеял драку с гондольером, и ему хотелось столкнуть Пьетро с лестницы в Воду. — Тебе нечего сказать обо мне. Что ты скажешь, Пьетро? — Он потёр нос тыльной стороной руки — привычка, от которой Мочениго старался его отучить, но которая возвращалась к нему в минуты волнения.
— Сопляк! — бросил ему Пьетро.
— Вот я скажу хозяину, и тебе будет трёпка, — жалобно сказал Джанантонио.
— Я пошутил, — произнёс Пьетро и повернулся к посетителю.
— Доложите своему господину, что пришёл Джордано Бруно, — сказал тот суровым, повелительным тоном.
Джанантонио выступил вперёд. Зная, какое впечатление производит его красота, он встал так, что солнечный свет падал ему прямо на лицо. Но незнакомец не обратил на него никакого внимания. Джанантонио, прикусив нижнюю губу, искоса взглянул на него, потом повернулся на каблуках и сделал вид, будто смотрит на канал. Незнакомец был худой темноволосый мужчина со спокойной суровостью взгляда и хмурым, истомлённым лицом.
— Пойду наверх, — сказал вдруг Джанантонио, которому надоело притворяться равнодушным. Он помчался в дом разыскивать хозяина. Тот сидел в маленькой библиотеке и читал, держа книгу в наклонном положении, чтобы заслонить глаза от лучей заходившего солнца.
— Приехал! — объявил Джанантонио и, запыхавшись, остановился, с беспокойством замечая, что один из шнурков, стягивавших ворот его куртки, развязался. — Мне лучше, — добавил он застенчиво, — я поел варёного рису и мармеладу. Бартоло говорит, что это полезнее крутых яиц. А воду с железом и кислое красное вино я терпеть не могу. — Он бочком придвинулся ближе. — Напрасно я жаловался… Я уже совсем здоров. А теперь вы мне подарите сокола?
Мочениго, высокий мужчина с развинченными движениями и тупым, угреватым лицом, нахмурил брови.
— Ко мне в комнату изволь входить потише, — процедил он наконец сквозь зубы. — Кто приехал?
— Человек из Франкфурта.
Мочениго вскочил так неуклюже, что уронил книгу. Он ухватился одной рукой за книжную полку, другой старался пригладить растрёпанные волосы, бормоча что-то про себя. Он был весь в чёрном, камзол расстегнут у шеи, так что видно было бельё из грубого полотна, которое ткали в Венеции. Он взял с полки книгу, закрыл глаза и наугад ткнул указательным пальцем в страницу.
— Ну, что тут сказано? — спросил Джанантонио, подойдя ближе и вытягивая шею, чтобы увидеть, что прочёл Мочениго.
— Убирайся прочь, — крикнул Мочениго и швырнул в него книгой, которая угодила мальчику в плечо. Джанантонио с плачем отскочил. Мочениго тихонько закудахтал от смеха: «Бедный мальчик, бедный мальчик!» Он вышел из библиотеки, и Джанантонио, отирая слёзы пальцами, поплёлся за ним.
Посетитель стоял в передней, рассматривая щиты, развешанные по стенам, и доспехи, стоявшие у лестницы. Доспехи сильно нуждались в чистке, не хватало одного наколенника и одного наплечника, кольчуга вся заржавела, а левая поножь[199] погнулась. Лестница была устлана толстыми коврами, и человек, стоявший в полутёмной передней, не слышал шагов Мочениго. Мочениго остановился на повороте лестницы и ухватил Джанантонио за локоть.
— Знаешь, что было сказано в книге? «Timeo Danaos et dona ferentes». — И он перевёл для Джанантонио: — «Я страшусь греков и тогда, когда они приносят дары». Это предостережение.
Джанантонио затаил дыхание: он понял, что Мочениго цитирует строки, выбранные им из книги наугад, с закрытыми глазами. Мочениго постоянно пытался таким образом прочитать свою судьбу в Vergilianae Sortes.
— Ноты ведь ничего не знаешь, — продолжал Мочениго своим резким, брюзгливым голосом и ловко пнул Джанантонио ногой в лодыжку. Тот понимал, что сейчас заплакать нельзя. Он схватился за перила и, подняв к Мочениго своё белое лицо, с умоляющим выражением пробормотал:
— Я больше не буду жаловаться.
— Жаловаться? На что? — спросил Мочениго, наклонив к нему ближе небритую щёку.
— Ни на что. Я больше не буду неблагодарным, — простонал жалобно Джанантонио.
Человек, стоявший внизу, услыхал голоса и поднял глаза. Мочениго сразу же устремился к нему с распростёртыми объятиями и, следуя правилам учтивости, хотел поцеловать гостя в щёку. Но тот отступил назад.
— Добро пожаловать в мой дом, учитель! — произнёс Мочениго. Обескураженный поведением Бруно, он пытался сжать его руки в своих, но ему удалось ухватить только одну. После первой неудачной попытки Мочениго сделал вторую, и ему всё же удалось завладеть обеими руками гостя. Он смотрел на Бруно, близоруко щуря чёрные глаза. Джанантонио выглядывал из-за его спины то с одной, то с другой стороны, пытаясь получше рассмотреть незнакомца.
— Мессер Джованни Мочениго? — спросил тот.
— Да, ваш покорный слуга, — Мочениго выпустил одну руку гостя и, держа его за другую, повёл наверх, потом по галерее на террасу — ту самую, с которой Джанантонио любил смотреть, как вечерние огни мерцают в воде канала. — Вот вы и приехали, — повторил Мочениго несколько раз. Он выпустил руку Бруно, похрустел пальцами и, пригнувшись, заглянул ему в лицо.
— Приехал по вашему приглашению.
— Да, да. Разумеется.
— Ваше великодушное предложение помощи и покровительства укрепило моё решение посетить Венецию.
Что-то явно, было не так. Оба старались говорить сердечно. Но голоса их звучали как-то вяло и тускло, глаза беспокойно смотрели в сторону. Это заметил даже Джанантонио, облокотившийся на край резной мраморной кадки, в которой рос стройный кипарис. Его подозрения усилились. Зачем пришёл этот человек с измождённым и суровым лицом, что ему нужно от Мочениго? Джанантонио мысленно поклялся себе, что он это узнает и, изобличив пришельца, заслужит благодарность своего господина и получит хороший подарок — наилучшего сокола, которого он будет носить на руке.
— Я к вашим услугам, располагайте мною, — сказал Мочениго, снова похрустев пальцами и внимательно вглядываясь в собеседника. Бруно поклонился. «Не может быть, чтобы ему понравился такой урод, — подумал Джанантонио. — Он какой-то весь высохший и так плохо одет».
— Так… Так… — промолвил Мочениго, дёргаясь всем телом, с наигранным волнением. (Джанантонио всё это было хорошо знакомо.) — Это для меня великая радость, великая честь… — Мускулы его щёк дёргались, он широко открыл глаза и сделал театральный жест рукой. — Мы с вами будем творить великие дела. Я читал ваши книги. Dona ferentes. Да, они — великий дар для нас, простых смертных. — Он засмеялся слабым, пискливым смехом, не вязавшимся с его длинной нескладной фигурой. Смех прозвучал неожиданно, глаза Мочениго сверкнули, словно его самого удивили эти звуки, как пение птицы, неожиданно раздавшееся в глухой чаще. Он смущённо оглянулся и придвинулся ближе к Бруно.
— Но, разумеется, в книгах, предназначенных для черни, profanum vulgus, вы можете объясняться лишь при помощи метафор[200] и символов, только намёками касаться истины. — Голос его вдруг резко задребезжал, глаза сузились, и в беседе их стала ещё сильнее ощущаться какая-то натянутость. — А я хочу держать её в руках, эту голую истину, nuda veritas prevalebit.
Джанантонио вышел из-за кипариса, за которым он чувствовал себя в безопасности, и тихонько подошёл к разговаривавшим. Чтобы избавиться от сжимавшей его сердце тревоги, он мысленно давал клятву, что добудет денег и пошлёт старой бабке, как обещал ей, кроме того, поставит в церкви Сан Стефано девять свечей в память умершего отца. Этот вторгшийся в дом незнакомый человек возбуждал в нём бешеную ненависть. «Нам было хорошо без него, — думал он. — А теперь он всё испортит».
— Метафор такое множество, — говорил между тем Мочениго, — но истина, начало, первопричина — одна, не так ли? — Он сухо и отрывисто засмеялся.
— Да, — ответил его собеседник, опять уклоняясь от нетерпеливой руки Мочениго. Он откинулся назад, опираясь спиной о перила, неестественно изогнувшись всем телом. «Только один лёгкий толчок, — подумал Джанантонио, — и он полетел бы вниз». Лицо его, укрытое тенью кипариса, было искажено не то отчаянием, не то яростью.
— Видите, я понимаю, — сказал Мочениго с новым хихиканьем, которое вдруг раскололось на пронзительные звуки.
В разлитой вокруг тишине, тишине полей после второго покоса, плавала песня лодочника, одинокая, как пение птицы в безмолвии долин. Мир как будто отдалялся, казался лёгким и радостным и всё же непостижимым.
— Полумеры, недомолвки, надоело мне всё это, — Мочениго всё надвигался на Бруно, а тот всё больше откидывался назад. «Вот сейчас нужен был бы только малюсенький толчок», — думал Джанантонио.
— Вы дошли до конечных выводов, вкусили молока Девы[201], а?
Мочениго размахивал руками, выпаливал свои вопросы отрывисто, словно в раздражении, но не переставал улыбаться. Улыбка, мрачная, как гримаса боли, как будто прилипла к его жёсткому лицу с глубокими морщинами у носа, с тупым, выдвинутым вперёд подбородком. Он положил руку на рукав Бруно, дёргая его вверх и вниз, и глаза у него стали стеклянные, такие, что Джанантонио задрожал и опять укрылся за кипарисом. «Всё так, как я думал», — сказал себе мысленно Джанантонио чуть не плача. Мочениго дотронулся до щеки Бруно и сухо, недовольно кашлянул:
— Вы должны простить мне эту страстность, учитель. Я увлечён, вознесён в область, недоступную моему разумению. Область, в которой — источник огня… Конечно, я понимаю, вы отрицаете идею Аристотелева пространства. Небесный круг огня не существует. Я выражаюсь иносказательно… А между тем, как я уже вам говорил, этого-то именно я и не люблю. Я хочу постигнуть сразу смысл всего, проникнуть в области, куда ещё никто не проникал… Я говорю путано… Есть столько кругов… Это метафора… Вы один способны меня понять… Я в этом убеждён. Я поделюсь с вами одной из моих идей. Невозможно строить квадратуру круга на окружности. Но в центре… Подумайте. Центр имеет положение, но не имеет формы, он и кругл и квадратен. Мы должны проникнуть в центр. Вы меня понимаете?
— Я об этом писал, — ответил Бруно холодно и рассеянно. — В моём «Сне», напечатанном вместе с «Двумя диалогами» Фабрицио Морденте из Салерно. Вопрос этот не так прост, когда мы переходим от теории к фактам. Видите ли, в расчётах нельзя пренебрегать никаким количеством, как бы мало оно ни было. Я многому научился у моего друга Морденте: я заимствовал у него толкование моей идеи относительности. Понятие минимума относительно в том смысле, что прибор, измеряющий высоту звёзд над землёй, может натолкнуться на минимум, который больше всего диаметра земли. Вам ясно, что я этим хочу сказать?
— Не совсем… — Мочениго теребил рукав своего камзола. — Вы имеете в виду…
— Дело в том, — продолжал Бруно всё тем же холодным тоном, — дело в том, что один и тот же метод рассуждений приложим и к дробям, и к целым числам. По законам физики бесконечное движение назад должно остановиться на каком-то минимуме. Следовательно…
— Да, — с живостью подхватил Мочениго. — По законам физики… вот в том-то и дело. Минимум. Когда мы проникаем в эти неизвестные нам глубины, мы… Да, я начинаю понимать. Из ваших слов сейчас я уже понял больше, чем из всех ваших книг. Но это совпадение противоположностей в центре, в середине… Не правда ли, я уже на верном пути, том пути, который вы так осторожно указываете? Разве не этого мы ищем?
— Когда я писал свои книги, я никогда не задавался целью скрыть истину, — сказал Бруно. Он по-прежнему стоял, всей тяжестью навалившись на перила, словно сражённый ударом. («Он боится, — подумал Джанантонио. — Может быть, мне ещё удастся его победить, он такой некрасивый и старый»). — Но истину найти трудно. И я никогда не преуменьшал этой трудности…
Наступило молчание. Казалось, всё уже сказано. Какой безмолвный договор заключался или расторгался между ними в эту минуту? «Что за всем этим кроется?» — спрашивал себя Джанантонио, пряча от посторонних глаз развязавшийся шнурок. Ему хотелось чем-нибудь привлечь к себе внимание, хотелось, чтобы гость посмотрел на него. Наконец снова заговорил Мочениго — быстро и бессвязно, брызгая слюной:
— Это мне понятно. Мы будем творить великие дела. Кое-что открыл и я, хоть я и жалкий исследователь. Я — именно такой человек, какой вам нужен. Память у меня слабая, но и у меня бывают минуты озарения…
Бруно отвернулся и наклонился через перила. Тело его как-то обмякло, и эта слабость не ускользнула от Джанантонио.
— Да, да, — отозвался он, рассеянно глядя на темнеющую внизу воду. Казалось, он борется с собой, пытаясь взять себя в руки. Мочениго стоял, слегка покачиваясь, и лицо его освещала та улыбка, которой так боялся Джанантонио. Бруно тихо и упрямо сказал:
— Нам надо ближе познакомиться, и тогда увидим… Во всяком случае, сейчас я слишком измучен путешествием. Лучше поговорим обо всём завтра утром.
Оба, видимо, мучительно искали, что сказать, и не находили нужных слов. И Джанантонио, как ни злил его весь этот непонятный разговор, невольно испытывал такое же напряжение. Если бы он способен был найти нужное им слово, он бы его произнёс вслух — так жаль ему было этих двух взрослых людей с их нелепыми фантазиями. У них был какой-то сконфуженный вид, словно они только что хвастали, а потом были изобличены во лжи. В чём тут дело? Джанантонио ничего не понимал.
Заговорил Мочениго, слащаво-заискивающим тоном:
— Я чувствую, что мы с вами уже встречались когда-то давно… Не знаю, что и сказать… Мне кажется, что всё это уже когда-то говорилось между нами. Учитель, мне страшно… — Голос его оборвался от страстного волнения, так что Джанантонио, хорошо его знавший, с любопытством уставился на него.
— Всем нам страшно, — отозвался Бруно тихо. — И тем не менее…
Казалось, он очнулся от той апатии, которая его парализовала всё время, с тех пор как он вошёл в этот дом. Он обернулся и сурово посмотрел на Мочениго, но в этой суровости было что-то дружеское, какой-то оттенок уважения. Джанантонио, не уловив сути разговора, ощутил, однако, эту перемену настроения, как удар. Как будто кто-то провёл холодным пальцем по его позвоночнику. Подозрения снова проснулись в нём, и он неприязненно таращил глаза на худощавого человека, одетого в вишнёвый камзол, щегольской треугольный плащ и висевшие складками штаны, портившие весь эффект.
— Да, — промолвил этот человек с дружеской выразительностью. Между ним и Мочениго как будто исчезло стеснение, его ощущал теперь только один Джанантонио. Он чувствовал, что остаётся не включённым в этот новый дружественный союз, которого он не мог понять, и ему хотелось сказать что-нибудь злобно-ядовитое, хотелось вогнать этому чужаку стилет[202] между худых рёбер. Мочениго бросил на него сердитый взгляд.
— Стул! — приказал он грозно.
Джанантонио бесшумно вышел и воротился со стулом, крытым узорчатым атласом. Гневный взгляд Мочениго сказал ему, что он оплошал: Мочениго терпеть не мог, когда садились на эти крытые атласом стулья. Но Джанантонио в своём возмущении рад был его позлить. Впрочем, стул он выбрал без всякой задней мысли, просто взял первый попавшийся, так как ему хотелось поскорее вернуться на террасу и слушать разговор, который вызывал в нём недоумение, но всё же казался захватывающе интересным.
Мочениго жестом указал на стул:
— Присядьте. Я забыл, что вы, должно быть, сильно утомлены.
— Я бы попросил также стакан вина, — сказал Бруно. — Эта сырость, знаете ли…
— Нет места здоровее Венеции, — словоохотливо возразил Мочениго. — Заметили вы, сколько седобородых старцев встречается на улицах?.. — Он посмотрел на Джанантонио, который тотчас же снова скрылся.
У Джанантонио от злости колотилось сердце, он скрипел зубами. Он охотно угождал Мочениго, своему хозяину, но терпеть не мог прислуживать кому-либо другому. Он отказывался что-либо делать даже для Бартоло, хотя это грозило ему побоями. И Пьерина, экономка, тоже давно оставила попытки командовать им. Сейчас он был возмущён тем, что его заставили прислуживать этому постороннему человеку, ничтожеству, шарлатану, мошеннику, который сумел понравиться его доверчивому господину. Всё время, пока он ходил за вином, мысль его работала, отыскивая способы изобличить этого чужака. И он ревновал Мочениго из-за каждой минуты, которую тот оставался вдвоём с Бруно. Какие планы они обсуждают, какое предательство по отношению к нему, Джанантонио? Он пролил вино на поднос и нетерпеливо вытер его рукавом. Энергичное лицо незнакомца, его большие глаза, которые казались сонными, пока не вспыхнули огнём мысли, стояли в воображении юноши, подобно отрубленной голове предателя. Ему запомнилось только лицо этого человека. И оно плавало перед ним — голова, отделённая от тела, но не желавшая умирать, с глазами, и в смерти горевшими жизнью. У Джанантонио застучали зубы, и он поклялся, что удвоит число свеч, которые по обету хотел поставить в церкви. «Пресвятая Дева, спаси от беды».
Когда он вернулся на террасу, те двое тихо беседовали между собой. Увидев его, они замолчали, и Джанантонио окончательно уверился, что они говорили о нём. Подозрения его усилились, когда Мочениго, запинаясь, словно смущённый его вторжением, возобновил разговор, прерванный в тот момент, когда гость попросил вина.
— Да, нам предопределено работать вместе, — сказал он, сжимая руки. — Так хочет судьба. Вы посвятите меня в свои тайны, а я буду вас поддерживать всеми средствами.
— У меня нет никаких тайн, — возразил Бруно упрямо. — Природа имеет свои тайны, и я надеюсь вырвать их у неё. А у меня тайн нет, если только вы не вздумаете утверждать, что свет — лучшая завеса, а обнажённость — лучшая маска.
Мочениго засмеялся своим сухим, отрывистым смехом:
— А, понимаю. Понимаю.
Бруно перебил его:
— Правда, я ни разу ещё не высказывался до конца. Но вы неверно толкуете мои побуждения. Нерешительность страха — тоже своего рода стадия познания, только несовершенная.
Мочениго привлёк к себе Джанантонио и стал гладить его волосы.
— Я не глупец, Бруно. Не судите обо мне слишком поспешно. Хотя я и не изучил так глубоко, как вы, скрытые силы и взаимную связь вещей, но я не глуп. Быть может, я смогу дополнить ваши выводы. Ведь пригодился же навоз для добывания тепла, необходимого при перегонке в кубах? Если я не ошибаюсь, об этом где-то упоминает Парацельс[203]. Видите, сколько во мне смирения. Я считаю себя навозом по сравнению с вами. — Он пристально взглянул на Джанантонио, и тот опустил голову. — Я, Джованни Мочениго, род которого дал Венеции трёх дожей[204] (одного из них, Луиджи Мочениго, не более как пятнадцать лет тому назад), я, член одной из знатнейших фамилий Венеции, я предоставляю себя в ваше распоряжение. В неограниченное распоряжение. — Он крепче, до боли стиснул плечо Джанантонио. Джанантонио попробовал высвободиться, но Мочениго не пускал его. — Я говорю о своём положении в обществе только для того, чтобы вам стала ясна вся глубина моей преданности. Я не из тех, кто делает промахи. Я бросил коммерцию вовсе не из-за каких-либо неудач, а главным образом оттого, что считал себя призванным для более высоких дел. Попутно я стремлюсь поднять благосостояние моего дома на подобающую высоту. Но, как я уже сказал, я не из тех, кто делает ошибки. Книготорговец Чьотто много говорил мне о вас. Я прочёл ваши сочинения, все, какие мне удалось достать. Я не сомневаюсь в том, что вы — самый учёный человек на свете и способны осуществить всё, о чём пишете.
Он выпустил Джанантонио, хрустнул пальцами и в изнеможении прислонился головой к стене. Красные лучи заходящего солнца придавали его лицу странный розово-жёлтый оттенок, цвет женской пятки тотчас после купанья.
На город сыпалась розовая пыль заката, пронизанная воркованьем голубей. Залитая этим мягким светом, Венеция дышала теплотой брачной постели, опьяняла солёными запахами любви.
Бруно ничего не отвечал. Казалось, он не слушал Мочениго. Джанантонио потирал нывшее плечо, страх его рос с каждой минутой. Внизу кто-то тихо напевал — голос из утраченного мира повседневных явлений. Джанантонио инстинктивно чувствовал, что на его глазах двое людей мучают друг друга, — и никак не мог понять, что происходит, чего каждый из них хочет от другого. Только одно было ясно: Мочениго сам домогается того, чтобы его обманывал этот шарлатан, этот торговец вздорными фантазиями.
Внизу по темнеющим каналам скользили гондолы любителей вечерних прогулок. На них уже расцветали фонари и звучал приглушённый смех.
Наконец Бруно поднял глаза и сказал весело:
— Очень хорошо, мессер Джованни Мочениго. Я к вашим услугам. Научу вас всему, что знаю сам. А пока должен вам сказать, что вино у вас прекрасное.
— Когда же мы приступим?
— Когда хотите.
— Завтра?
— Пускай завтра.
Джанантонио, вторично наполняя стакан гостя, принял грациозную позу и сквозь полуопущенные ресницы устремил взгляд на Бруно. Тот слабо усмехнулся и поднял стакан в знак того, что пьёт за здоровье юноши. Джанантонио покраснел от удовольствия и отошёл.
— Вы поселитесь у меня? — спросил Мочениго серьёзно.
Розовый поток неба обтекал землю. Окно напротив пылало, как сигнал тонущего на западе солнца. Со смешанным чувством облегчения и разочарования Джанантонио услышал, что гость отклоняет приглашение Мочениго. Он сказал, что уже снял комнату вблизи Пьяццы. Кроме того, ему нужно будет на некоторое время отлучиться в Падую.
Во всём остальном он предоставляет себя в распоряжение Мочениго.
— А почему вы выбрали именно Пьяццу? — спросил Мочениго, хмурясь. — Вы переписывались с Андреа Морозини? И зачем вам нужно ехать в Падую?
— Я должен там прочитать несколько лекций, — с весёлой небрежностью ответил Бруно, наблюдая за Джанантонио, который, чувствуя на себе его взгляд, потягивался и делал вид, что любуется закатом.
— Вы можете рассчитывать на мою поддержку, — сказал Мочениго недовольным тоном.
— Я не слишком требователен, — отозвался Бруно. — Его усталость и подавленность как рукой сняло. Разговаривая, он всё время улыбался, весело двигал руками и бровями. Джанантонио, поймав его взгляд, ответно улыбнулся, несмотря на присутствие Мочениго: он подумал, что хорошо было бы войти в доверие к чужаку, а потом выдать его.
— Кроме того, — продолжал Бруно, и в его любезношутливом голосе зазвучали решительные ноты, — у меня имеются и другие причины выступать в качестве лектора.
— Какие? — встрепенулся Мочениго. Но Бруно оставил без внимания и вопрос, и резкую бесцеремонность Мочениго. К удивлению Джанантонио, Мочениго сдержался и сказал, на этот раз кротко: — Я желал бы знать эти причины, чтобы убедиться, так ли уж необходимо вам отказываться от моего гостеприимства.
— Я от него не отказываюсь, — благодушно возразил Бруно, — и воспользуюсь им, как только это будет возможно. Но у меня есть дела, которыми я не могу пренебрегать. Вы своевременно всё узнаете.
— Благодарю вас, — смиренно сказал Мочениго.
— Вот, например, у меня есть ученик, немец Беслер, который должен приехать в Падую. Он переписывает для меня некоторые малоизученные, непонятные сочинения, как, например, «Печати Гермеса и Птолемея».
Мочениго был, видимо, заинтересован: руки его беспокойно двигались, он провёл ими по лицу, потом потёр ляжки и, покачиваясь на каблуках, отступил назад, кусая губы. Он схватился за перила и, глядя в сторону, промолвил:
— Я, кажется, что-то слышал об этой книге.
Бруно подмигнул Джанантонио. У того сильно забилось сердце, но он улыбнулся в ответ — правда, немного поздно: он не был уверен, что улыбка его была замечена. И эта неуверенность мучила его, к тому же он не понимал, что, собственно, означало подмигивание Бруно. Означало ли оно, что Мочениго лжёт, желая показать себя более учёным, чем он был в действительности? Или гость, пользуясь тем, что Мочениго стоял к ним спиной, захотел расположить к себе его, Джанантонио?
Мочениго солгал, Джанантонио угадал верно. Но ложь его была вызвана не тщеславием, а чем-то более глубоким — трепетной жаждой овладеть запретными и недоступными тайнами, и Джанантонио дрожал, ощущал слабость в ногах, он испугался, что опять подступит к горлу тошнота. Грудь его бурно вздымалась. Но это не мешало ему всё время помнить, что платье отлично облегает его фигуру. Он не переставал улыбаться — на случай, если гость опять посмотрит на него. Он шёл навстречу этому тайному союзу, не понимая, какого рода союз ему предлагают, и в то же время жалея, что у него нет кинжала за поясом.
— Альберт Великий[205] хвалит эту книгу в одном из сочинений, — веско сказал Бруно.
— Да, да, — поспешно подхватил Мочениго и вдруг осёкся.
— Я лично не придаю такого рода книгам особого значения, — продолжал Бруно. — Но я хочу знать, что в них сказано, а узнав, проверить. В них, без сомнения, имеется какой-нибудь намёк на истину, нить, за которой имеет смысл следовать, хотя бы цель, к которой она ведёт, ничего не стоила. Ибо на пути к цели мы можем открыть многое. Когда-то, добиваясь любви знатной дамы, которая оказалась вульгарной и строптивой особой, я, чтобы легче проникнуть к ней, соблазнил её служанку и нашёл, что она очаровательная и весьма достойная девушка. Таким образом то, что было для меня лишь средством, стало целью.
— Да, да, — сказал Мочениго. Он тяжело задышал, мельком взглянул на Джанантонио в знак того, что не одобряет таких анекдотов, но в то же время старался показать гостю, что относится в высшей степени серьёзно к их беседе и тем примерам, которые он приводил.
Бруно продолжал:
— Никакая ложь не бывает вполне ложью: ибо составляющие её элементы должны быть почерпнуты откуда-нибудь из действительности. Эти элементы просто неправильно собраны в одно целое.
Человек с шарообразной головой, одетый как слуга, вошёл на террасу, держа себя запросто, без всякой почтительности. Но увидев незнакомого человека, неуклюже поклонился, потом подошёл к Мочениго и шепнул ему что-то на ухо.
— Гони его вон, Бартоло, — сказал Мочениго резко.
Слуга снова поклонился и ушёл, враждебно оглядев гостя. А Мочениго всё ещё раздражённым тоном продолжал:
— Ну, а учение о соответствии… как вы его расцениваете?
— Оно начинается правдой и кончается правдой. Но в промежутке между началом и концом приведены доказательства, которых я ещё не проверял. Разумеется, жизнь едина, ибо жизнь всегда и во всём есть жизнь. Это — исходная точка всего моего мышления. И я одобряю стремление таких людей, как Парацельс и Альберт, использовать природу для человеческих нужд. Природа — жена, а не загадка. Эти алхимики глубже понимают суть вещей, чем учёные мужи в университетах. Они делают Бытие реальностью; они осязают Единое, как человек осязает свою жену, ибо женщина, прошу не забывать, есть воплощение творящего начала, созданного из крайних противоположностей. И это — правильный путь. Но хотя Парацельс и Альберт постигли связь вещей и в логике пошли дальше Аристотеля, они слишком спешат делать выводы. Природу победить не так легко. — Он вдруг сдержал порыв энтузиазма и докончил коротко: — Потом потолкуем обо всём подробнее.
— Нужно постигнуть общее начало вещей, их основную взаимную связь, — сказал Мочениго.
— А в чём она?
— В Боге.
Мочениго выпятил губу. Бруно рассмеялся.
— Мы с вами говорим как философы, а не как богословы. Для нас Богом является Единое, если «Бог» — это просто иное название для Единого. Другими словами — А равно Б, если Б равно А. Но что означает это выражение — «А равно Б»? Что такое А? Как эти знаки становятся живыми действующими силами? Всмотритесь во вселенную — и что вы увидите?
— Бога, — упрямо ответил Мочениго, понижая голос до шёпота.
Его собеседник пренебрежительно усмехнулся:
— Мы ещё не придумали условных терминов. Надо ещё сначала сравнить богов.
Джанантонио в ужасе перекрестился. Бруно заметил это и лукаво улыбнулся.
— Да, все явления находятся во взаимной связи. Поэтому движения наших душ, наш внутренний мир неотделимы от движений материальной субстанции, от той вселенной, что вне нас. Но утверждать, что они тождественны, возвращаться снова к поверхностной атомистической теории[206] — значило бы упустить фактор развития. Я первый из людей на земле постиг истинную сущность этой задачи в полном её объёме. Тем-то и объясняется моё глубокое смирение. — Он взглянул на Мочениго: — Но довольно говорить о смирении. Я согласен с вами, что надо найти путь к динамическому пониманию смысла и характера процессов нашей умственной деятельности, тогда нам станут понятны и процессы органические. Жизнь души и проявления космических сил будут оттенять друг друга, как два узора одной ткани. И мы получим правильное представление о связи между ними. А тогда… — Он вдруг замолчал и в невольном порыве протянул руку к небу, на котором уже слабо мерцали звёзды.
— А тогда, — подхватил Мочениго, облизывая сухие губы, — тогда мы сумеем овладеть истиной, держать её в руках, она будет наша, всё будет наше! — Глаза его сверкали жадностью.
— Да, рано или поздно наступит такой день. Но, может быть, наступит уже не для нас.
— Почему не для нас? — раздражённо огрызнулся Мочениго.
— Да, пожалуй, почему бы и не для нас? —ответил Бруно с тихим смешком, глядя на поражённого ужасом Джанантонио. — С какой стати люди стали бы отрицать за нами заслугу открытия истины, если мы её откроем? Эта честь будет принадлежать нам всегда. Во веки веков.
Джанантонио, надув губы, смотрел поверх тёмной воды, туда, где факелы, горевшие на лодочной пристани по ту сторону Канала, плевались голубыми и зелёными огнями, которые пёстрыми змеями извивались в воде. Мочениго сжал руки и сказал отрывисто: «Благодарю». Бруно выпил вина.
Войдя в свою комнату, Бруно с облегчением подумал о том, что сегодня наконец будет спать голым. Не нужно больше носить нижней одежды, предназначавшейся специально для путешественников, которые желали уберечься от вшей и заражения венерическими болезнями. Он испытывал сильное отвращение к паразитам и носил шёлковое бельё, так как считалось, что в нём вши не заводятся. И действительно, ему удалось в значительной мере от них уберечься.
Он с удовольствием увидел чистую, аккуратно постланную постель. Он жаждал поскорее очутиться в ней. Не понравилось ему только стёганое одеяло блестящего зелёного шёлка — он не любил безвкусной, крикливой роскоши. Одеяла этого не было на кровати, когда он уходил. Бруно не помнил, чем она была тогда покрыта, но он был твёрдо уверен, что не этим безвкусным одеялом, которое, впрочем, легко снять. Он снял его, старательно сложил и, повернувшись, споткнулся о табурет, обитый зелёным сукном, с зелёной же шёлковой бахромой. И табурета этого он тоже не видел здесь раньше. Он на мгновение встревожился, думая, что попал не в ту комнату, и шагнул к дверям, намереваясь кликнуть Луиджи, который в такой поздний час уже, вероятно, забрался в какую-нибудь каморку, куда никакие звуки не доходят. Но затем он решил сперва осмотреться и проверить, принесены ли в эту комнату его вещи.
Да, вот его сундук и пачки непереплетённых книг, которые он надеялся продать в книжные лавки на Фреццарии и Мерчерии. Значит, это его комната. Но, к своей досаде, он обнаружил, что сундук открыт и вещи из него вынуты: грязные сорочки и чулки Лежат на видном месте. Ещё досаднее было то, что и рукописи его вынуты и разложены на резном сундуке. Он торопливо подошёл и начал проверять, в порядке ли они, не потеряны ли и не перепутаны ли листы. Ему попалось при этом на глаза знакомое место, и, перечтя его, он подумал, что написано это недурно. Даже хорошо.
На пороге появилась Тита. Бруно закрыл дверь неплотно, и теперь она отворилась без скрипа. Он не слышал, как вошла Тита, но ощутил её присутствие в комнате, как будто она заслонила собой свет и тень её упала на него. Он ощутил странный жар в крови, подумав о её тонких руках. Тита медленно вошла в комнату. Так медленно, словно ноги её были скованы цепью, заставлявшей её идти мелкими шажками, и она безмолвно просила расковать её. Её смущение было приятно Бруно. Он сразу догадался, что это она принесла сюда одеяло и табурет, и пожалел, зачем снял одеяло и положил на шкаф. Но он чутьём угадал, что говорить об одеяле сейчас было бы бестактно, это помешало бы Тите быть спокойно-дружелюбной, как она хотела. Бруно был уверен, что и она не скажет ничего. Завтра утром надо будет самому постлать постель и покрыть её этим одеялом. Но даже и это решение его не удовлетворяло.
Она показала ему, где стоит ночной горшок, объяснила, как пройти в умывальную, и спросила, не нужно ли ему ещё чего-нибудь? Бруно пощупал рукой набитый шерстью тюфяк и выразил уверенность, что ему здесь будет очень удобно. Он был доволен тем, что не придётся больше спать на пуховиках, хотя в холодные зимние ночи в Англии и Германии следовало быть благодарным тёплой пуховой перине. «Вот теперь я чувствую, что я снова в Италии». Тита слушала с глубокой серьёзностью. Ему же хотелось сказать: «Вы для меня — Италия. Эта дрожащая тень свечи между ваших юных грудей — моя Италия». Но вслух он только попросил Титу распорядиться, чтобы его рукописей больше никто не трогал. Она выслушала и кивнула головой, но вид у неё был такой, словно она всё время прислушивалась к чему-то, чего не слышал Бруно. К соловьиной песне в тёмном саду её замкнутой души? К чьему-то грубому голосу, доносившемуся из спальни матери? Бруно вспомнил, что сказал ему францисканец, когда он сходил с баржи после разговора с куртизанкой: «Господь к вам милостив, у вас доброе сердце». Всё это очень смешно. Но в эту минуту он верил, что он очень добр. «Я никогда не совершал поступка умышленно жестокого. Но какое это оправдание, если многие из моих поступков имели жестокие последствия? Я наблюдал такие жестокие последствия много раз, а ведь я и в мыслях не имел никакого зла. Но зло крылось в моём своеволии. Вот сейчас, в эту минуту, я полон добрых чувств. Если бы я коснулся этой девушки, это было бы как благословение». Тут он вдруг с неудовольствием вспомнил, что завтра надо идти в городской магистрат заявлять о своём приезде. Разрешение жить некоторое время в Венеции будет нетрудно получить, но для этого необходимо сочинить какое-нибудь объяснение своего приезда. Чиновники поймут, что он лжёт, но отнесутся к этому равнодушно. Всё равно, лжёт он или говорит правду, это объяснение — просто формальность, которую следует выполнить. И к чему такое множество формальностей, не имеющих ничего общего с действительными человеческими нуждами, заставляющих человека лгать, унижающих его достоинство? Размышляя об этом, Бруно наблюдал игру света на тонко очерченных щеках Титы.
Она покраснела, и он сказал просто:
— Вы — девушка?
Она опустила голову. Потом посмотрела ему прямо в глаза и сказала: «Да». Глаза у неё были голубые. В этом полумраке они казались тёмными, но Бруно был уверен, что они голубые. До сих пор он так редко обращал внимание на глаза девушек, даже тех, которые вызывали в нём желание. Когда-то он думал, что страстно влюблён в некую Елену, а между тем, когда слезливый сонет в её честь был уже наполовину готов и он захотел воспеть её черты, оказалось, что он не помнит, какого цвета у неё глаза. А сейчас он смотрел в глаза этой девочки, словно впервые увидел в них женскую душу, не скрытую никакими барьерами, во всей её простоте, без всяких прикрас, без ухищрений трусости и сладострастия. «Это я самого себя вижу, — подумал Бруно с трепетом неизъяснимого ужаса, чувствуя лишь одно — что девушка эта имеет право жить. — Я, наконец, вижу пропасть, разделяющую душу от души, и, в сущности, она не шире того ручейка, который я в детстве, бывало, переходил вброд».
Тита не спросила, почему он задал ей тот вопрос и какое право он имел его задать. Между ними протянулась нить душевного удовлетворения. «Вот сейчас я коснусь её груди или губ, — думал Бруно, — и она будет счастлива, что нашёлся такой мужчина, который поздней ночью подошёл к ней лишь затем, чтобы коснуться её обнажённой души, трепещущей в ложбинке между её маленькими грудями, в алости её рта — коснуться в знак единения между нами, в залог необъяснимой близости — и только. Я взываю лишь к этому покою её тела, к этому мгновенному умиротворению, сознанию своего человеческого достоинства, к той полноте проявления своей личности, на которую не посягает никакое тиранство. Я — мужчина, и я желаю тебя, девушка, но, несмотря на это, подхожу к тебе с чувством, которое выше желания. Я хочу, чтобы во всём мире царило счастье, мир и гуманность. Я хочу, чтобы люди познали такую полноту единения, как мы сейчас. Я устал».
У Титы тоже было легко на душе, она забыла обо всех своих горестях, даже о студенте из Болоньи, который ещё сегодня вечером, поймав её на лестнице, приставал к ней, о Луиджи, который грубил ей в кухне, о матери, кашлявшей в тёмной спальне, сжигавшей жизнь свою бесцельно, только ради скверного чада сального огарка.
Бруно наконец заговорил:
— Я бы попросил, чтобы меня не будили рано утром. Я устал.
— Хорошо, — сказала Тита и вышла. С минуту она стояла в коридоре, словно позабыв, куда идти, словно изгнанная из той жизни, которая только и имела для неё значение. Наконец она протянула руку и нащупала дверь своей комнаты. Когда она вошла в эту комнату — обратно в чуждое её душе, но узаконенное существование, она ощутила дрожь, которая, начавшись в кончиках пальцев, пробежала по рукам, пронизала сердце. «Всё приходит и уходит», — подумала она. Ей казалось, что она где-то далеко за пределами этой спальни, и приятная теплота полощется в груди, и вокруг разлит ясный звёздный свет, и ночной прибой омывает берега её тела.
Она подумала: «Мама и в самом деле больна». Что-то сдавило ей горло, она поднесла к нему руку, затем испуганно бросилась вглубь комнаты и встала на колени подле выдвижной кровати, вспоминая руки болонца, кашель матери за перегородкой. Постепенно успокаиваясь, она стала думать о туфлях из посеребрённой кожи, которые ей давно хотелось иметь, и о платье цвета львиной шкуры.
IV. Тита
Большую часть времени он писал. Но каждый день проводил несколько часов во дворце Мочениго. Тита узнала это от Луиджи, которому сказал об этом сам Бруно, давая ему какие-то поручения. Тита расспрашивать не хотела, но изо всех сил старалась втянуть Бруно в разговор. Как-то раз она спросила у него: «Зачем это вы всё время пишете?» А он ответил: «Потому что до сих пор ещё ничего не написано». Титу удивил такой ответ — она знала, что в книжных лавках имеются сотни, тысячи книг, она заглядывала несколько раз и в печатни. Однажды в отсутствие Бруно она вошла в его комнату, чтобы посмотреть, что он пишет, но он запирал свои бумаги в сундук или уносил их с собой в сумке. Впрочем, позднее Тите удалось подобрать клочок бумаги, валявшийся на полу. Она разгладила эту бумажку и прочла то, что было на ней написано. Это стоило ей большого труда — не потому, что почерк у Бруно был плохой, — в этих небрежно набросанных строках чувствовалась рука твёрдая и умелая. Но Тита не привыкла читать написанное от руки.
«Таким образом между любовью и ненавистью нет резкого разделения. Они — одно в единстве чувствующей души. „Люблю“ и „ненавижу“ сливаются с совокупностью жизни и движения. Odi et amo[207]. Тита… Нужна новая логика, которая могла бы обосновать совпадение противоположностей. (Но мы не можем разбить Аристотеля и созданную им абстрактную схоластику[208] простыми нападками на его логику. Следовательно, я опровергаю невежд, мнимых учёных, пустословов вроде Рамуса и Постеля[209]. Чтобы опровергнуть старую логику, мы должны научиться глубже понимать космические процессы и саму жизнь.) Нужны и новые формы жизни, новая диалектическая логика, новое понятие о гуманности. Поэтому я утверждаю… У Титы — серые глаза, серые глаза и тонкие руки. О Тассо[210], ты сказал за меня: „Люблю сильно, надеюсь на малое, не требую ничего“…»
Листок был перепачкан чернилами и, видимо, разорван пополам. Эту оторванную половинку Тита повсюду искала, но так и не нашла.
У неё было такое чувство, словно вместе с этим листком и жизнь её разорвали пополам. Ей осталось только страдание, а другая половина — та, в которой скрывалось объяснение всему и ключ к счастью, безжалостно уничтожена. И ей было непонятно написанное на попавшем к ней в руки клочке бумаги, как непонятна и та часть её жизни, что проходила повседневно перед её глазами. Почему и каким образом её имя затесалось среди каких-то отвлечённых рассуждений — этого она не знала, но тем дороже был ей клочок бумаги, на котором таким странным образом возникал её образ среди слов, имеющих таинственный смысл. У неё не хватало духу бросить бумажку обратно на пол, куда её бросил Бруно. Если он спросит, куда девалась бумажка, можно сказать: «Я её вымела вместе с сором, думая, что бумажка вам не нужна, раз вы её бросили на пол». Тита не выбросила бумажки, а унесла её к себе в комнату. И здесь, укрывшись за занавесями из чёрного и малинового бархата (единственным предметом роскоши в её комнате с тех пор, как она отдала одеяло Бруно), расправила её, бережно сложила и спрятала на груди. Она теперь питала к новому постояльцу глубокое уважение. Она забыла, что вначале считала его просто чудаковатым маленьким человечком с чересчур большой головой. Между тем его присутствие как-то придало ей веры в свои силы, и она в конце концов добилась порядка в доме. Луиджи ворчит — и пусть ворчит! — но беспрекословно делает всё, что ему велят. Мария, кухарка, которая всё больше замыкалась в глухом, молчаливом возмущении, теперь впала в обычный транс набожности. Да и с жильцами стало легче ладить. Болонец больше не делал попыток обнять её в коридоре или заманить к себе в комнату. И Тита чувствовала себя гораздо счастливее. Лишь мысль о матери лежала у неё на душе мрачной тенью, неразрешимой задачей. Ей хотелось рассказать об этом Бруно, но мешал стыд. Она знала — рано или поздно непременно случится что-нибудь и нарушит мир, царивший теперь в доме.
Большой колокол Ла-Троттьера прозвонил полдень, и звон его разнёсся по всей Венеции, как голос стихий, спорящих с человеком, как удар грома в пустоте раскалённого неба. Казалось, заговорил сам зной, тяжело нависший над землёй.
Тита, сдерживая дыхание, прижала левую руку к сердцу, и сердце колотилось под ладонью, словно язык колокола. Она ждала, чтобы затих звон. Он всегда пугал её, она хотела бы жить подальше от колокольни. Этот звон словно обрушивался на дом, разбивал стёкла, рвал стены, как бумагу, растворяя всё в адском шуме. Он, как громадный палец, придавливал маленькое тело Титы.
Когда это кончилось, она услышала шаги Бруно, поднимавшегося по лестнице. Он улыбнулся ей — устало, как показалось Тите. Она вошла вслед за ним в его комнату, чтобы спросить, что купить ему на рынке. (Провизию для Бруно закупал мальчик, которого она наняла для него.)
— Не знаю, — сказал Бруно, проводя рукой по лбу. — Всё равно.
— А я так беспокоилась! Вы ушли из дому, не сказав, что вам купить. Я боялась, что вы вернётесь слишком поздно. Ведь вы обычно по утрам никогда не выходите, — закончила она с упрёком.
— Не выхожу, — согласился Бруно, не объясняя, зачем он сегодня уходил. — Мне следовало вас предупредить. Прикажите купить, что сами найдёте нужным. У меня аппетит плохой.
— Не хотите ли пару перепёлок или дроздов? — стремительно предложила Тита. — Я умею готовить их особым способом. Вернее, не я, — она наморщила брови, как бы подчёркивая свою правдивость и ожидая за неё похвалы, — а Мария, наша кухарка. Знаете, — продолжала она полушутя, полутревожно, — по-моему, она сумасшедшая. То есть, я хочу сказать, голова у неё не совсем в порядке. Она съела мясо, в котором уже завелись черви: говорит, что грех выбрасывать пищу, что Бог этого не любит. Но она замечательно стряпает. И ведь большинство людей кажутся помешанными, то есть немножко тронутыми, правда? Или, может быть, это тот, кому так кажется, — ненормальный? У меня такая путаница в голове! — Говоря это, она сжимала и разжимала свои тонкие пальцы. — А раз Мария выпила вино, в которое нечаянно насыпала соли. И тогда тоже она сказала, что грех выбрасывать на ветер Божий дар. Она всегда это твердит. А я с ней не согласна. — Тита вдруг смутилась. — Но вы не думайте… я всегда очень аккуратно проверяю счета…
Казалось, Бруно знал, о чём она думает: он смотрел на неё так пристально, со смешанным выражением доброты и усталого безразличия. Она подумала: «Вот сейчас я скажу ему то, что у меня на душе, — и тогда уже никогда не смогу больше смотреть ему в глаза». Она поспешно вернулась к первоначальному предмету их разговора:
— Да, я говорила о дроздах. Их отваривают в кастрюле и начиняют латуком. Такое блюдо вам понравится?
— Да, это, наверно, вкусно, — ответил Бруно рассеянно. — Очень вкусно. Я полагаюсь на вас, дитя, приготовьте, что хотите.
— Я не так уж молода. — Она провела руками по корсажу, задерживая дыхание, пока не почувствовала, что груди у неё поднялись, стали большие, тревожащие своей беззащитностью. Но Бруно не замечал её кокетства. И это было одной из причин, побуждавших её всё больше и больше кокетничать с ним.
— Я полагаюсь на вас, — повторил он и закрыл глаза.
— И с грибами дрозды тоже вкусны, — сказала Тита быстро и возбуждённо. — Грибы сначала отваривают с двумя ломтиками хлеба, потом тушат в масле. И получается очень хорошая начинка. Но, может быть, вы боитесь отравиться? Я знала одну девочку, которая отравилась грибами. Луиджи говорит, что крестьяне иногда нарочно кладут между хороших грибов ядовитые, из мести за то, что им приходится так тяжело работать за гроши. Но что пользы им было бы вымещать это на мне?
Она наклонила голову к плечу. Но Бруно по-прежнему не смотрел на неё.
— И один священник из церкви Проповедников тоже умер оттого, что поел грибов. Пришёл в исповедальню — и вдруг застонал и упал со стула. Как хорошо, что это не я исповедовалась у него тогда!
— Хорошо, поедим грибов, — сказал Бруно тоном, прекращавшим разговор. Но Тита не уходила, стояла, глядя на него, заложив одну ногу за щиколотку другой и опираясь рукой на столик у дверей.
— Что вас так заботит? — спросила она. — Ваша работа? — Она невольно сделала пренебрежительный жест рукой, словно отметая что-то. И тут же испугалась, что зашла слишком далеко.
— Нет, не работа, — ответил Бруно медленно и покачал головой. — Вернее, не одна работа. У меня здесь есть ученик, и он меня немного утомляет. Упрямая голова. Он умён и некоторые вещи понимает очень хорошо, но ходит в шорах, как деревенский мул. Он ищет кратчайшего пути к мудрости, и не к одной только мудрости. — Он пожал плечами и замолчал, не то в отчаянии, что у него такой ученик, не то (как опасалась Тита) потому, что находил невозможным говорить о таких вещах с необразованной девушкой.
— Зачем же вы с ним возитесь? — спросила она, стараясь говорить как можно рассудительнее, своим самым низким голосом. — Такой учёный человек, как вы, всегда найдёт других учеников.
— Я не придаю значения его недостаткам, — возразил Бруно с улыбкой, которой только и ждала Тита. Её всякий раз поражала красота его лица, когда он улыбался этой тихой улыбкой. Не то было, когда он смеялся. Тогда лицо у него собиралось во множество морщинок, которые как будто рассекали его на мелкие кусочки, и видно было, что сбоку у него недостаёт зубов. — Напротив, мне даже полезно исправлять его, потому что, в сущности, у меня те же недостатки.
Тита слушала серьёзно, ей хотелось возразить, что у него нет недостатков, но она боялась услышать в ответ, что ей этого не понять. Она ощущала на ногах туго стянутые подвязки. И каким-то образом это заставляло её чувствовать себя целомудренно обнажённой и свободной.
— Я тоже слишком тороплюсь с выводами, вот в чём дело, — продолжал Бруно серьёзно, без тени высокомерия и снисходительности. Тита, очарованная, сняла руку со столика и придвинулась ближе, как наполовину приручённая птица опасливо подбирается к брошенным ей крошкам пирога. Сегодня над ней властвовали подвязки, всё время приятно напоминая ей о ногах. В подвязках не было никакой надобности, так как Тита не носила чулок, но они символизировали нечто, ей самой непонятное. Что-то вроде связывавшего её обета.
— Да, понимаю, — ответила она Бруно.
— Я расчистил и подготовил почву. — Он погладил бороду. — И уже предвижу вывод, вижу органическое единство всей жизни. Но ещё не выяснена связь между явлениями, разные детали и всё определяющее начало. Например, что пользы иметь на борту севшего на мель корабля отличный канат, если его нельзя привязать к канату, который бросают вам с берега? Необходимо оба каната связать вместе — иначе не удастся никого вытащить на сушу.
— А почему же вы не можете соединить оба конца, найти среднее звено? — спросила Тита, складывая руки, в убеждении, что наконец-то она может помочь ему. — Средние звенья…
Бруно ответил не сразу. Он поерошил волосы и рассмеялся.
— Мы на мели — то есть, я хочу сказать, весь мир на мели. Моя метафора верна лишь наполовину. Она всё объясняет. Но корабль, и скалы, и бурное море, и цветущая земля — всё это одно, это части одной и той же драмы. Когда оба каната свяжут вместе, картина изменится, резко изменится. Я буду иметь власть над бурей. Я, брат бури и бушующего моря, смогу в полной мере использовать своё родство со стихиями. Родство, которое я наконец осознал! — воскликнул он громко и, подойдя к окну, с треском распахнул его. Он несколько раз жадно глотнул воздух и с грустной усмешкой повернулся к Тите: — У меня настоящая ненависть к душным закрытым помещениям. Ну так вот, теперь вы понимаете, что задача эта не из простых.
— Да, не из простых. — Ей не хотелось повторять его слова, но другие не приходили в голову.
— Видите ли, этот ученик мне нужен, — продолжал Бруно шутливым тоном. — Я вижу в нём свои собственные недостатки как бы сквозь увеличительное стекло. И когда я на него сержусь, я напоминаю себе об этом.
Он сел за стол и сказал устало:
— С тех пор как я снова ступил на землю Италии, я становлюсь с каждым днём всё смиреннее. Иногда это меня пугает.
Тите хотелось повторить то, что говорил о смирении один священник. Она была почти убеждена, что добрым христианам полагается быть смиренными. Но так как она всё же не была в этом абсолютно уверена, то решила уклониться от разговора на эту тему. И повторила фразу, которая, по её мнению, выказывала её ум в полном блеске:
— Так вы не надеетесь когда-нибудь найти те звенья, которые должны быть посередине? — Она степенно помолчала. — А я верю, что вы их найдёте.
Бруно иронически посмотрел на неё.
— О, они, конечно, существуют. Просто я ещё не сумел разглядеть их. — Сказав это, он отвернулся, словно желая скрыть выражение своего лица. Тита подметила, что он закусил губу. — Всё это только слова, дитя моё, — промолвил он наконец. — Мне неизвестно, что движет вещами. Нет, впрочем, известно. Они движутся сами собой. Но фраза эта мне теперь ничего не разъясняет. Она была просто подспорьем, помогла мне освободиться от идиотского догматизма.
Тита сдвинула брови:
— Если вы всего этого не можете понять, то уж, конечно, никто не поймёт. — Она подошла ближе, но Бруно встал и отступил назад.
— Как здоровье вашей матери?
Тита потупила голову.
— Она вас спрашивала.
— В таком случае я схожу к ней, пока вы приготовите мне поесть.
— Она спит.
— Нет, я слышал кашель, когда проходил мимо её комнаты.
Тита вышла. Бруно снова пожал плечами. Потом снял брыжи, которые носил вокруг шеи. Их истрёпанные края, очевидно разорванные в последней стирке, вызвали в нём чувство досады, и он бросил их в сторону, вспомнив при этом прачку, которую видел как-то на реке в окрестностях Падуи — молодую, цветущую и весёлую. Обнажённая до пояса, она тёрла бельё в воде гладким камнем, а груди её качались в такт быстрым движениям рук. Вспомнив это, Бруно шагнул к тому месту, куда бросил брыжи, схватил их и разорвал в клочья; накрахмаленная материя трещала и сопротивлялась, но он безжалостно рвал её. «Больше не буду носить этой дурацкой штуки, — подумал он. — Лучше надевать какой-нибудь шарф». Затем в своём коричневом камзоле без брыжей он прошёл по коридору к комнате синьоры Виньеро и постучал в дверь.
— Войдите, — крикнула больная замирающим, сладким голосом. Бруно открыл дверь и увидел синьору Виньеро, которая сидела в постели, откинувшись на подушку в кружевной наволочке, под балдахином из чёрной тафты и жёлтого атласа, обшитым шёлковой бахромой, чёрной с жёлтым. Жёлтый цвет подчёркивал мертвенную бледность жуткого, измождённого лица с ярко нарумяненными щеками и горящими глазами — глазами дикого зверя, который задыхается в своей берлоге. «Зачем я пришёл сюда? — подумал Бруно. — С каких это пор я превратился в смиренного францисканца? Я теряю твёрдость».
И он посмотрел женщине прямо в лицо, в котором было что-то неуловимо отталкивающее. Жидкие локоны свисали на потный лоб, покрытый слипшимися комками белил. Бруно стоял на клетчатом коврике, заложив руки за спину.
— Как великодушно с вашей стороны навестить бедную страдалицу, — сказала женщина, — страдалицу, прелести которой давно увяли. — Она слабо хихикнула, пошарила под подушкой и, вытащив небольшой веер, с судорожной кокетливостью стала им обмахиваться. — Не стоит уверять меня, что это не так. Я вижу вас насквозь. Вы — бесстыдник. Бесстыдник, — повторила она игриво. — Все мужчины — бесстыдники. Я их отлично изучила. А всё же, маэстро Бруно, при вас у меня так легко на душе. Когда вы подле меня и я закрываю глаза, я вижу свечи, горящие на алтаре и избавляющие меня от мук чистилища. Меня ведь не за что отправлять в ад, я всегда только покорялась судьбе, я — несчастная женщина, и Пресвятая Матерь Божия меня поймёт, потому что страдания женщины может понять только женщина. Где их понять Господу Богу, говорю я себе, лёжа здесь. Он ведь не женщина. Пускай он создал женщину, но создал-то он её иной, чем он сам? Вы бы всё это разъяснили мне, маэстро Бруно, и если такие мысли — грех, то мне нужно будет исповедаться. Странные у меня бывают мысли. Иногда мне думается, что вы бы могли быть моим духовником, отпустить мне грехи.
— Да, — отозвался Бруно тихо.
— Отчего это так? — спросила она голосом, неожиданно ясным, серебряно-звонким, как у ребёнка. — Отчего это вы моей душе приносите такой покой, а сами не покойны?
Бруно молчал и думал: «Надо опять приняться за изучение математики».
Женщина в постели продолжала говорить. Её тело, от тяжести которого в тюфяке образовалось углубление, было едва заметно под одеялом, когда она лежала вытянувшись. Казалось, от неё оставались лишь увядший бюст да измождённое лицо, жалкий осколок разбитой жизни, судорожно барахтавшийся в трясине разложения, в которую он попал. Синьора Виньеро болтала — и прожитые годы вставали перед ней, качались перед глазами, как флаги суетного тщеславия. И казалось, что первый слабый крик торжества истощит её дыхание и погрузит её наконец в белую трясину смерти, где она исчезнет навеки.
Подобно брошенному камню, разбивающему гладь озера, монотонный голос этой женщины ворвался в душу Бруно. И зыбь побежала по озеру, стремясь за пределы его, ряд убегающих кругов без общего центра; круг завихрился в спираль, и центр перемещался так быстро, что никакая окружность не могла удержать его. Крайняя кривая разогнулась в прямую, перешла в бесконечную непрерывность, и то была уже не прямая, не кривая, а — время, пространство, сила. Было лишь его тело, голодное, терзаемое видениями, да влекущее, пугающее неведомое в бренном теле первой попавшейся женщины, и в то же время — сеть вечности, вечное движение звёзд, лужа крови и слизи, бессмертная геометрия времени и пространства, все мыслимые формы красоты и силы, созданные жизненной необходимостью их субстанции, совпадение противоположностей в едином…
Накрашенная женщина взяла его за руку.
— Да, вы страдали, синьора, — сказал он мягко.
Он слышал не голос чувства, а голос зла, которым пропитан мир, как пропитана гнилым запахом болот эта Венеция, венец человеческого искусства, благородный город зловония, выстроенный на воде, надёжной как суша.
— Июль и август — месяцы лихорадки, — продолжал он. — Когда я в прошлый раз приезжал сюда…
Ему не хотелось продолжать, но синьора ждала. Он видел в своём воображении розовый куст у решётки сада его дяди в Неаполе. Розовый лепесток, схваченный невидимой нитью паутины, кружится на ветру. Казалось, этот лепесток один, без чьей-либо помощи борется с ветром, но он держался лишь до тех пор, пока не оборвалась невидимая, хрупкая нить. В летнее утро, тридцать лет тому назад…
В дымной кухне стоял раздражающий чад какого-то подгоревшего кушанья. Мария, упёршись руками в бока, бормотала имена святых. Увидев Титу, она тотчас воскликнула:
— Этот уксус годится разве только для того, чтобы камни шлифовать.
— Что подгорело? — осведомилась Тита. Мария не обратила никакого внимания на се вопрос и продолжала ругать уксус.
— Что такое с уксусом, Луиджи? — спросила Тита. К ней вернулась прежняя беспомощность и дурные предчувствия. Она сдвинула вместе колени, ей хотелось бежать наверх, в комнату матери.
Луиджи увёртливым жестом поднял плечи, как бы желая сказать, что он тут ни при чём.
— Уксус хороший. Он стоит вдвое больше того, что я заплатил за него. Она уксус выпила, а в бутылки налила воды.
— Ах ты, богохульник! — закричала Мария, от гнева трясясь жирным, бесформенным телом и размахивая руками.
— Ишь, руками машет, как ветряная мельница, — насмехался Луиджи, извиваясь от смеха всем своим гибким телом. — Знаете, зачем у неё такие широкие рукава? Чтобы прятать туда всё, что она ворует. Точь-в-точь поп в рясе…
Тита не знала, что сказать. Заботы и огорчения снова нахлынули на неё, такие же мучительные, — нет, мучительнее прежнего. Никогда ещё не чувствовала она себя до такой степени беспомощной. Опять у неё возникло ощущение, точно она затянута в тугой корсет, но теперь это ощущение не бодрило, а как-то парализовало и сковывало её.
— Мне всё равно, что ты говоришь обо мне! — крикнула Мария. Её седоватые волосы выбились из узла на затылке. — Это пустяки. Я — только прах. Я — червь. Но не смей при мне оскорблять священников!
— Луиджи, ты же знаешь, что её это расстраивает, — сказала Тита, делая усилие встряхнуться. Мария схватила со стола черпак и, размахивая им, нечаянно сбросила на пол связку лука, висевшую на гвозде, вбитом в балку.
— Я ему голову размозжу, — завопила она.
— Оставь её в покое, Луиджи, — сказала Тита нерешительно.
Луиджи перестал ухмыляться. Он свирепо нахмурился и заорал:
— А я её трогаю, что ли? Это вы ей скажите, чтобы она меня оставила в покое. Она всё время пристаёт ко мне, чтобы я пошёл исповедаться. А я ходил только в четверг на прошлой неделе. Она постоянно твердит, что, когда я не хожу к обедне, я оскверняю мясо и оно портится. А я такой же добрый христианин, как она. Лучше не бывает. У меня нет ни единого греха на душе, клянусь Святым Рокко.
Брюзжа про себя, он принялся опять поворачивать на вертеле каплуна, с которого стекало сало в подставленную кастрюлю.
— Поливай его хорошенько, — сказала Тита, чтобы придать себе уверенности. Так как Луиджи ничего не ответил, она спросила, купил ли он всё, что заказал болонец.
— Хватит с него и того, что есть, — буркнул Луиджи.
— Нет, — возразила Тита, стараясь припомнить заказы всех постояльцев.
— Я купил для него вот этого каплуна, немного сушёной говядины, два лавровых листа и щепотку перца, — пренебрежительно отчеканил Луиджи.
— Нет, он должен получить всё то, что заказал и за что заплатил, — сказала Тита, пытаясь собрать мысли. Она заметила, что на столе у Марии лежит кучка чёрной соли и рядом большая голова сахару. Кулинарные таланты Марии умерялись одним её недостатком — странным употреблением соли. За ней нужно было следить.
— Не пора ли вынимать рашпер с моллюсками? — напомнила ей Тита.
Мария фыркнула и сбросила на пол сито, чтобы показать свою независимость. Луиджи насвистывал с тем самоуверенным видом, который больше всего на свете злил Титу. Мария отошла к другому столу и начала нарезать для салата дикий цикорий[211] и мяту. Адвокат из Феррары[212] — привередник: уверяет, что латук и салатный цикорий ему надоели.
Тита чувствовала, что нужно чем-нибудь заняться. Она не могла вспомнить, зачем пришла на кухню. Взяла со стола оловянную сковороду и медную крышку от кастрюли и отнесла их на полку. У дверей стояла бельевая корзина. Она строго запретила Луиджи оставлять в кухне грязное бельё, но сейчас у неё не хватило духу сделать ему замечание. Зная, что он будет смеяться над ней, потому что видит её слабоволие, она всё же вынесла корзину за дверь и — штука за штукой — намочила всё бельё в лохани. Медленно прижимала его ко дну палкой, стёртой от частого пребывания в горячей воде. Наблюдала, как бельё надувалось, а потом падало на дно, следила за пузырьками, выскакивавшими по краям. В их доме приходится постоянно стирать. Больше всего хлопот доставляют три голландца. Они очень неаккуратно обращаются с салфетками, скатертями, полотенцами. Так как по уговору хозяйка обязана снабжать их чистым бельём, то голландцы — Тита была в этом убеждена — нарочно пачкали бельё, чтобы получить как можно больше за свои деньги. А если не включать стирку в общую плату, то постояльцы уйдут к другой хозяйке.
Внезапно вспомнив что-то, она бросила в лохань последние салфетки, не пытаясь больше припомнить, кто из жильцов пролил красное вино и сделал на скатерти это сердцевидное пятно, и вошла обратно в кухню.
— Ты купил десять листов писчей бумаги для синьора Бруно? — строго спросила она у Луиджи.
— Нет, забыл.
Тита ужасно рассердилась.
— Как ты смел забыть? Сейчас же сходи и купи.
— Но я ещё не поел. И мне нужно помогать Марии. Я не могу идти.
— Сейчас же ступай! — топнула она ногой. Если она уступит — она пропала. Луиджи, злобно поглядывая на неё, медленно отёр руки об зад засаленных штанов и оскалил жёлтые зубы. — Ступай! — повторила она спокойно, сознавая, что укротила его. Луиджи, бормоча что-то под нос, снял с гвоздя шапку. Мария толкла перец в ступке.
— Я не знаю, где деньги.
— Возьми пять сольдо из тех денег, что лежат на полке. Остальные деньги разыщи, когда вернёшься, иначе придётся вычесть их из твоего жалованья.
Луиджи, проходя, толкнул Марию. Она огрызнулась:
— Убирайся с глаз моих, акула!
Луиджи отступил, мысленно подыскивая какое-нибудь обидное замечание, которое бы её особенно уязвило.
— А ты слыхала когда-нибудь историю Местрского кузнеца — того, что перед смертью отказался от причастия? — сказал он весело, раздувая ноздри. — Приходит священник с дарами, а кузнец и говорит ему: «Пускай дьявол жрёт меня без приправы, таким, как я есть, без соли и масла». — Мария с грохотом передвигала горшки. — И надеюсь, — прокричал Луиджи в заключение, — надеюсь, что ты умрёшь так же, как этот кузнец, и нечистый, слопав тебя, заболеет расстройством желудка.
Мария в бешенстве швырнула в него котелком и солонкой, в которую только что насыпала соли. Луиджи проворно выскочил за дверь. Котелок свалил с полки горшок, а соль из солонки разлетелась по всему полу. Мария с ужасом смотрела на соль.
— Я всю её соберу, — сказала она, крестясь. — Соберу всю до последней крупинки и просею сквозь кисею. Мне невмоготу видеть, как добро пропадает даром. Не терплю мотовства. Это — неблагодарность милосердному Господу Богу. Он сейчас глядит на меня с небес и говорит: «Мария, не поддавайся дьяволу. Будь хорошей, Мария. Не расточай, не зарься ни на что. Собери соль, Мария».
— Хорошо, но сначала приготовьте обед.
Каждый жилец отдельно покупал для себя провизию, но ели все за общим столом. Тита гордилась этим столом орехового дерева с резьбой, с тремя опускными полами, столом, за которым свободно размещались двенадцать человек. Разговоры этих людей очень скоро надоели Бруно. Среди них был француз, у которого имелась в запасе только одна-единственная тема — запоры и сравнительные достоинства двух средств от запора — коринфского изюма и варёных дамасских слив. Он собирался скоро ехать морем в Константинополь и утверждал, что благоразумный путешественник должен начать очищать желудок по меньшей мере на неделю раньше, а во время переезда есть только то, что не вызывает морской болезни, и в малых количествах — солёную говядину, сушёные бычьи языки, бисквит, вымоченный в вине, кориандры[213]. Он носил в кармане мешочек с дягилем[214], гвоздикой, розмарином и сушёными лимонными корками и во время обеда постоянно нюхал их.
Кроме него, за столом присутствовал неизменно ухмылявшийся болонец, который всё время сводил разговор на женщин. О каком бы городе ни упомянули, он непременно вставлял какую-нибудь ходячую пошлость насчёт женщин. Мантуанцы, например, любят только девушек, умеющих танцевать, и в Мантуе каждая потаскушка — отличная плясунья. В Витербо любой мужчина продаст свою любовницу за серебряную монету. В Кремоне только девушка, играющая на каком-нибудь инструменте, может рассчитывать, что её полюбит мужчина. И так далее.
Один из датчан, невероятный обжора, не мог равнодушно смотреть, как другие едят не то, что он. Он донимал всех обедающих расспросами о блюдах, которые им подавали, об их стоимости, способе приготовления и вкусе.
Как-то раз Бруно предложил ему на вилке кусок рыбы, и датчанин принял подачку, рассыпаясь в выражениях благодарности, совершенно не заметив насмешки, и съел рыбу, громко чмокая губами. Впрочем, несмотря на всё это, здесь было лучше, чем на постоялых дворах в Германии, где останавливался Бруно и где все ели из одного горшка, без вилок.
Второй датчанин болел перемежающейся лихорадкой, и его пичкали наркотиками и потогонными. Его соотечественники рассказывали, как они наваливали на него целую гору одеял, чтобы вызвать спасительное потение, и рассуждали о различных лекарствах. Француз утверждал, что больному следует поставить несколько мушек к плечам, для того чтобы снизить температуру. Не участвовавший в этих дебатах Бруно всякий раз, очнувшись от задумчивости, встречал устремлённый на него взгляд феррарского адвоката — взгляд пристальный, прямой, в котором, однако, не было ничего недоброжелательного. Раз они заговорили о литературе, и Бруно нашёл, что адвокат — человек начитанный, с хорошим вкусом. Он ощутил вдруг горячую радость, радость утоления духовного голода. Но затем, глядя в лицо адвокату, понял, что эта радость пройдёт, что её сменит мертвящая горечь утраты. Что же он, Бруно, представляет собой в действительности? Кто он — человек с неистощимым богатством чувств и мыслей, которыми охотно делится с другими, или человек, в котором запас этот иссякает уже после недолгого общения, убогая душа с жалкими вожделениями и мелочным тщеславием? Бруно с огорчением задумался над сущностью своих отношений с другими людьми. Сначала — захватывающее сознание общности интересов и вкусов, ненасытная потребность делиться мыслями. Затем — разочарование, когда начинаешь находить в человеке всё больше и больше недостатков и умалять его достоинства. Постепенно сужается круг общих интересов, открываешь в другом и недоброжелательность и нелепые претензии… И всё же жизнь должна и может стать такой, чтобы в ней была возможна настоящая товарищеская близость между людьми.
Под гнётом этих мыслей Бруно утратил было радость общения с новым человеком. Но адвокат снова возбудил его внимание, упомянув о поэте Тассо.
— Так вы с ним знакомы? — спросил Бруно, узнав, что Тассо ещё жив. — Он — один из немногих людей, с которыми мне всегда хотелось познакомиться.
— Это знакомство не доставило бы вам удовольствия, — заметил адвокат. И, наклонясь ближе, рассказал, как встретил Тассо в придорожной харчевне, в компании одного только пьяного лакея. По поведению Тассо видно было, что он сумасшедший: он ссорился с хозяином из-за какой-то мелочи в счёте и вопил, что его выслеживают враги. Видно было, что он до последней степени опустился. Жаль, что Винченцо Гонзаго увёз его из Мантуи. Когда это было? Три или четыре года тому назад. Да, разумеется, жаль, что его выпустили из убежища Святой Анны. Там за ним был хороший уход, с ним обращались ласково, исполняли все его желания.
— И долго он там пробыл? — спросил Бруно, расплескав вино из своего бокала.
— Лет семь, кажется.
Бруно вздрогнул: быть запертым в таком месте… Хуже ничего не может быть. Тассо…
Он чувствовал себя во власти тёмного любопытства, пугавшего его. Он не хотел продолжать этот разговор о Тассо и всё же продолжал его:
— В какой же форме проявляется его безумие? До меня, конечно, доходили разные слухи. Но я не встречал до вас ни одного человека, который собственными глазами видел Тассо.
— Насколько я могу судить, он одержим страхом, что у него есть враги, которые его преследуют и хотят отравить.
— Кто же эти враги?
— Другие поэты, главным образом — Гварини[215], и… — Адвокат пригнулся ещё ближе к собеседнику и зашептал: — И Святая Инквизиция. Он, видимо, думает, что она следит за ним. Это, конечно, вздорная фантазия.
— Но страх его чем-нибудь да объясняется, — возразил Бруно резко, повёртывая в пальцах тонкую ножку бокала и наблюдая, как красное пятно от пролитого вина расползается по скатерти.
— Нет, — ответил адвокат. — Это — одна из его безумных фантазий. Вы, верно, знаете, что он раз во время разговора с герцогиней Урбино кинулся с ножом на слугу. Это было года четыре тому назад, после первого представления его «Аминты» при дворе. Я имел честь присутствовать на этом представлении…
Бруно заставлял себя слушать адвоката, который продолжал толковать об «Аминте». Но его уже раздражал слегка шепелявый голос этого человека, его манера закатывать глаза. Какое лицемерие с его стороны болтать о поэтичной любви Аминты к целомудренной нимфе[216] Сильвии. «Тассо сам целых два месяца учил актёров, любимцев нашего герцога, знаменитых Джелози». Кому нужна эта пустая литературная болтовня? Какое значение имеет теперь то блестящее представление для Тассо, которого выгнали на улицу безумные призраки страха, для Тассо, голодного и бездомного, безутешно несчастного, Тассо, который столько лет провёл в заточении?
Адвокат напевал сквозь зубы мотив одного из интермеццо[217] в «Contra l’Onore».
— Мне лично эта пьеса больше нравится в том виде, в каком её ставят после второго представления в Урбино. Постановка Палестрины[218] просто восхитительна…
Бруно вдруг понял, что песня, которую сейчас напевал адвокат, имела когда-то на него, Бруно, большое влияние. Сам того не заметив, он высказал в своём сочинении «Изгнание Торжествующего Зверя» ряд мыслей, рождённых в его уме этими строфами Тассо. Да, влияние Лукреция[219] и чувства, вызванные в его душе чтением «Аминты», привели его к созданию картины золотого века[220]. Странная смесь, а ещё более странно то, что он до настоящей минуты не сознавал этого. И отчего осознание этого пугало? Ему захотелось встать и уйти, но что-то словно парализовало его. Пришла новая мысль.
— Я только что вспомнил… В моих книгах есть фраза: «Земля мне мать, а солнце — отец». Это, разумеется, мысль не новая. Но её оформил вмоём мозгу Тассо. Я вспоминаю его строки:
Фиалки с розами в один венок сплетать,
Отец их Солнце, а Земля их мать.
— Да, странно… Не понимаю, отчего… А вы не знаете, где теперь Тассо? Может быть, я бы мог чем-нибудь помочь ему?
Но адвокат оставил без ответа вопрос Бруно. С воодушевлением, которого в нём до сих пор не замечалось, он сказал:
— Эти строки — из одной его канцонетты[221], в которой он воспевает Феррарскую гору. Приезжайте к нам в Феррару и увидите, сколько там цветов весной!
Он продолжал уже спокойнее, с прежним взглядом, прямым и твёрдым, как сталь:
— Цветы — моя слабость…
Бруно видел, что адвокат уже сожалеет о своём приглашении, обращённом к чужеземцу.
— Вряд ли мне удастся побывать в Ферраре, — сказал он. — Я думаю переехать в Рим.
Адвокат с явным облегчением повторил приглашение. Он сказал, что Академия в Ферраре каждые три месяца устраивает большой концерт. Почему бы Бруно не побывать на одном из этих концертов?
— Вы убедитесь, что наши мастера много выше мантуанских, у которых пренелепые понятия относительно постановки голоса и жестов, сопровождающих пение. Музыкальный критик в Ферраре — мой большой приятель.
Бруно не отвечал. И адвокат, испытующе поглядев на него, замкнулся в обиженном молчании.
V. Шарлатан
Войдя в комнату Бруно, Тита увидела, что он сидит, опустив голову на руки. Она вдруг испугалась, не открыл ли он, что она утаила клочок его рукописи. Тита ломала голову, придумывая, что бы ещё поставить к Бруно в комнату, чтобы там было уютнее. В комнате француза висел довольно красивый ковёр; она решила взять его оттуда под предлогом починки и повесить в комнате Бруно. Он будет очень хорош на той стене, которая после полудня ярко освещена солнцем: в расцветке ковра есть розовые и голубые тона.
Войдя, Тита сказала:
— Я посылала Луиджи купить для вас бумагу. Но он забыл.
Бруно неопределённо махнул рукой. Потом произнёс словно про себя:
— К сожалению, мне придётся уехать от вас. Как вам известно, я снял комнату только на один месяц.
Это было как раз то, чего ожидала Тита, — и её охватил ужас перед неотвратимостью судьбы. Что она может сделать?
— Очень жаль, что комната вам не подходит, — промолвила она, борясь с желанием сказать ему, что, если он останется, она повесит у него в комнате ковёр. Разгоравшийся в ней гнев помогал ей держаться с достоинством. Теперь она наконец с горечью почувствовала, что способна сама управляться со своими делами. Она больше не нуждается в поддержке мужчины.
— Мне ни в какой комнате не будет хорошо, — сказал он угрюмо. — Я — изгнанник.
Его тон возмущал Титу. Слабость, которую она в нём угадывала, придавала ей уверенности в собственных силах. Однако, когда она заговорила, голос её выдавал боль. И она сказала не то, что хотела. Она возразила ему:
— Да, но изгнанник, вернувшийся домой.
— У меня нет ни дома, ни родины, — отвечал Бруно и процитировал место из своей книги: — «Я — академик несуществующей Академии, и нет у меня коллег среди преподобных Отцов Невежества». — Говоря это, он не смотрел на Титу. Он думал о своём брате, который убил человека, вспомнил его побелевшее от ужаса лицо, скрюченные пальцы и его голос: «Фелипе, хоть ты не отступайся от меня». И затем свой страх: «Ты привлёк ко мне внимание людей, а ведь ты знал, что за мной охотятся».
Оба пристально глядели друг другу в глаза. Если бы знать, где теперь брат, жив ли он ещё?
— Вы никогда не любили ни одной женщины, — сказала Тита тоном обвинителя. В своём негодовании она воображала, что открыла причину не только его страданий, но и своих собственных.
— Не любил, — согласился Бруно, довольный её замечанием. — Впрочем… один раз я готов был полюбить… Но она меня отвергла.
— Мне думается, вы лжёте, — возразила Тита с презрением.
Её слова не рассердили Бруно, и, словно испытывая потребность оправдаться, он продолжал:
— Как мог такой человек, как я, человек вне общества, без денег, без надежд, жениться на женщине, которая… которая…
— Вот, я так и знала, что вы лжёте, — перебила его Тита тонким, срывающимся голосом.
Бруно встал и отошёл к окну. Он потрогал руками край стола, словно измеряя его, потом сделал то же самое с подоконником. Каким образом измерять вещи? «Морденте, — подумал он, — убедил меня, что в математике нельзя пренебрегать никаким числом, как бы мало оно ни было». Он стоял у окна, смотрел на залитые солнцем черепицы соседней крыши. «Мысль не может быть точнее того аппарата, которым она пользуется. Этот вывод следует из того, что я отверг идеи Платона[222]. Но если свести всё к органическому минимуму, как тогда объяснить созидание, совершенство, развитие, не вводя иерархии в духе Плотина[223]?»
Он угадывал муку, которую испытывала девушка, стоявшая за его спиной. Эта чужая боль давила на него так ощутимо, что, казалось, тело Титы прильнуло к его телу.
Боль была непонятная и чуждая ему, — и тем не менее ему казалось, что это она заставляла его мысль работать, толкала к выяснению мучившего его вопроса о соотношении между формой, материей и энергией.
— Вы правы, — сказал он, не оглядываясь. — Я солгал. — Он старался говорить безучастно, обычным тоном. Больше всего на свете ему хотелось выпутаться из этого положения, дать понять девушке, что ему нет места в её жизни. Ему казалось, что если он сумеет внушить это Тите, если сумеет благополучно вернуть её в ту колею, из которой он, видимо, выбил её, — он освободится от гнёта мучившей его задачи, блестяще разрешит её и исключит из круга своих мыслей.
Тита подошла ближе и остановилась за его спиной. Гнетущее чувство, которое испытывал Бруно, усилилось до такой степени, что он как будто уже ощущал, как прижимается к его лопаткам девичья грудь. Только сейчас он впервые подумал о том, что Тита выше его ростом.
— Но вам всё же больно вспоминать её, — шепнула Тита.
— Да… Но, в сущности, я не знал её. Как же я мог её любить? Нельзя любить человека, если не знаешь его. — Он остановился, со страхом ожидая ответа Титы; но она молчала. И он заговорил снова: — Иногда мне казалось, что меня обманывают, что я сам себя обманываю. Оттого, что никому не удавалось по-настоящему встряхнуть меня. Кто знает? Будь у меня деньги, я бы, вероятно, купил себе виллу за городом и женился на первой попавшейся красивой и благовоспитанной женщине. Мне бы хотелось, чтобы это была женщина очень холодная и образованная.
— А я… — начала Тита и умолкла. Бруно знал, что она хотела сказать: «Я не холодная и не образованная». Но из жалости сделал вид, что не слышит. Всё же он не мог удержаться от продолжения разговора, потому что хотел чем-нибудь оттолкнуть девушку.
— Что, по-вашему, чувствует такой человек, как я, при виде прекрасных дам, когда они выходят из своих карет и лица их припудрены лунным светом? Как вы не понимаете, что любой из них стоит пощекотать мне ладонь — и я готов лечь с ней в постель? В моей жизни было два-три таких случая… «Припудрены лунным светом»… Это — из поэмы, которую я когда-то написал. Я не всегда выражаюсь так поэтично. То есть не стараюсь так говорить. — Его ирония растворилась в боли. — Но зачем вы спрашиваете меня о таких вещах?
Тита не отвечала. Он обернулся и зашагал по комнате.
— Поэзия… да! Хорошо сказал кто-то: «Если бы музы распяли Христа — и то они не могли бы подвергаться большим гонениям, чем сейчас». Впрочем, поэты, это вы верно сказали, большей частью лгут. Я же за свою жизнь высказал две-три истины. Чёрт возьми, бывают часы, когда я склонён серьёзно заняться алхимией. Найду драконью кровь, райское молоко. Отчего бы нет? Люди творили и не такие чудеса. Подумайте сами: мы — хищные звери, пресмыкаемся на земле и питаемся падалью, — а между тем мы способны воспарить на такую высоту, что проникли в тайны звёзд. — В голосе его зазвучали мягкие, ласкающие ноты. — Но больше всего ослепляет и поражает меня не трансцендентность или имманентность[224] Бога, а дивный блеск женской наготы. Здесь мой разум бессилен. — Он посмотрел на Титу с вызовом и вместе с добродушной насмешкой, создававшей между ними некоторое расстояние.
— Вы переезжаете от нас из-за моей матери? — произнесла вдруг Тита.
— Да, — ответил поражённый Бруно.
— Спасибо за то, что вы не солгали. Я понимаю, почему вы уезжаете, — сказала Тита смиренно, всё с той же покорностью судьбе.
Эта безропотность понравилась Бруно, но всё же нельзя было оставлять дела в таком положении, как сейчас.
— Не только поэтому. Мне необходимо съездить во Франкфурт, присмотреть за печатанием моих книг. И в Падуе надо побывать. Кроме того, мой здешний ученик всё время настаивает, чтобы я жил у него, и мне неудобно будет отказать ему сейчас, если я не уеду из Венеции, или потом, по возвращении. К тому же люди начинают поговаривать о том, что я в Венеции. Вы видите, — добавил он с шутливой важностью, — что я человек известный. Я — великий человек.
— Я это знаю, — отозвалась Тита, принимая его слова за чистую монету. И, вопреки всем доводам рассудка, Бруно почувствовал, что она действительно лучше всех других знает, в чём его величие. Но тотчас же в нём проснулось смирение, уверенность, что он вовсе не великий человек. Он только искусный фразёр, фокусник, жонглирующий чужими мыслями. Он умеет подхватывать идеи других людей и начинять их отголосками божественного и символами живой истины и штурмовыми сигналами действительности. Но сам он вряд ли верит в собственные силы. Однако… то, что создано чужим гением, — только жалкий, сухой скелет, а его идеи облечены плотью и кровью. Как же это так? Он, использовавший чужие идеи, оказывается самым оригинальным из всех философов? Сердце его кричало: «Я знаю, знаю, что это так». Но вера в него этой девушки действовала на него отрезвляюще. Эта вера была внушена ей женским увлечением, и, понимая это, Бруно видел яснее собственное тщеславие. Такое же чувство возбуждал в нём Мочениго, но по другим причинам. Мочениго вызывал в нём желание сбить с него спесь — настроение, опасное у такого человека, как он, Бруно. «Твёрдая почва под ногами — вот что мне нужно», — думал Бруно. Потом пришли другие мысли: «Не ошибся ли я в новых математиках? Действительно ли они на верной дороге? Найдено ли ими единственно правильное решение вопроса о пределе точности, о несовершенстве приборов? Найден ли единственный способ выяснить соотношение между мыслью и её материальной основой? Ибо, если соотношение выяснено и будет динамически прогрессивно — значит достигнуто подлинное совершенство. Ошибка Платона в том, что он допускает существование совершённого аппарата, чистой идеи…»
Встала в памяти, словно освещённая вспышкой неяркого тёплого света, мать с её тёмно-рыжими волосами. До конца был пройден путь благодатного лета, лицо её пылало первыми нежными красками осени. Она шила, время от времени откусывая зубами нитку, и в углах её рта застряли обрывки ниток. Ему хотелось сказать ей об этом, попросить, чтобы она вытерла рот, и в то же время хотелось, чтобы она поцеловала его. Он рос застенчивым мальчиком и всегда делал вид, будто ему неприятны поцелуи матери, поэтому она почти совсем перестала его целовать. Но иногда, среди хлопот по хозяйству, она, проходя мимо сына, говорила: «Родной мой Фелипе», — и обнимала его. Теплота этих объятий теперь казалась ему такой же беспредельной, как ласковая тишина летнего дня, незаметно переходящего в осень, когда яблоки рдеют румянцем, говорящим об их сочности. В этой благоуханной тишине он слышал, казалось, шаркающий звук башмаков отца на каменных ступенях.
Сквозь туман этих видений проступило лицо Титы, на котором не было ни кровинки. Её нижняя губа дрожала, тонкие руки словно отражали невидимый удар. Почему он не может полюбить её, жениться и, наконец, зажить оседло? Она его любит, — во всяком случае, её легко до этого довести. Она была бы преданной женой, угождала бы ему. Он приплыл бы наконец к давно желанной пристани, ступил бы на твёрдую землю. Но ведь он стыдился бы перед знакомыми такой жены.
— Пожалуйста, не уезжайте от нас! — простонала Тита и опустилась на пол.
Бруно поднял её и ощутил при этом, какое у неё хрупкое и всё же упругое тело.
— Если вы уедете, всё будет для меня кончено! — сказала Тита.
Он видел, что в ней назревает новый приступ отчаяния, и готов был сделать что угодно, только бы предупредить его. Он винил себя в том, что увлёк её.
— Не понимаю почему, — сказала она разбитым голосом, — но при вас всё идёт хорошо. — Она пыталась улыбнуться, но губы её только покривились. — Помните, что вы говорили о канатах? Вы и сами не знаете, как это верно. — Её голос ослабел и звучал испуганно. — Моя мать — сумасшедшая. — Она закрыла лицо руками.
— Нет, — возразил Бруно неуверенно. — Она просто больна. Ну, и, быть может, в данный момент у неё и голова немного не в порядке. В её возрасте это довольно обычное явление. Для тела наступает в определённое время критический период.
— Не пытайтесь меня утешить, — сказала Тита сквозь закрывавшие лицо пальцы. Голос у неё был какой-то беззвучный. И хотя Бруно с облегчением решил, что всё её поведение — только поза, оно усиливало его тревогу, его желание бежать отсюда.
— Я думала, что вы мне поможете, потому что вы добрее других, — продолжала Тита. — Но потом поняла, что помогает мне только ваша правдивость. Даже тогда, когда вы ничего не говорили. Помогает что-то такое, что я в вас чутьём угадала. Вот и всё. — Она бессильно уронила руки на колени и большими глазами посмотрела на Бруно. — Я знаю, чего хотела мать. — И она начала всхлипывать без слёз. Тело её как-то обмякло.
Боясь, как бы с ней не было истерики, Бруно сел подле неё и стал тихонько укачивать её в объятиях.
— Это пустяки. Это не имеет значения. И во всяком случае, я не сейчас ещё уеду от вас.
— Нет, вы должны уехать. — Она стала вырываться. Бруно выпустил её и встал. Тита продолжала: — Теперь уж мать от вас не отстанет, я знаю. — Она прерывисто дышала, и в голосе её звучала странная, замирающая нота таинственности. — Сядьте опять сюда, — продолжала она всё тем же неестественным тоном. Бруно сел рядом с нею. Она помедлила, словно в нерешимости, потом прижалась к нему и закрыла глаза: — Обнимите меня крепко, и я вам всё расскажу.
— Не надо. Не говорите мне ничего такого, о чём вы потом пожалеете.
— Я не пожалею…
— Ну, не волнуйтесь же, прошу вас. — Чтобы её успокоить, он пытался снова качать её в объятиях, но Тита сопротивлялась.
— Вот как, теперь вы хотите от меня отделаться. Вы говорили, говорили, а теперь, когда наступила моя очередь говорить, вы хотите сбежать. Не лгите мне. Я должна рассказать вам. — Она с отчаянием ударила себя в грудь. — Слушайте. — Она опустила голову и заговорила быстро, резко: — Это началось с год тому назад. А до того все мы были очень счастливы. Или это мне только теперь так кажется? Я, во всяком случае, была тогда счастлива. Потом мама стала какая-то странная. Она перевела меня в комнату рядом, а раньше я всегда спала в её комнате. По ночам я слышала шум в её спальне, и мне хотелось увидеть, что там творится. Вот я и проделала дыру в перегородке под картиной, на которой изображено Святое Семейство. В дереве был сучок, и я его выковыряла ножом. Я знала, что с той стороны дыра будет незаметна: как раз на этом месте у мамы в комнате висит маленькая резная рака с мощами. Мне всё было видно сквозь резьбу. Раз, когда мамы не было дома, я ещё немножко отодвинула раку от дырки. И по вечерам, когда я ложилась в постель, я подсматривала, что делается в спальне. Иногда я так зябла, — она вздрогнула, — приходилось всё время стоять на кровати, прижавшись к стене. Раз кровать подо мной заскользила, и я упала: у меня кровать на колёсиках. Я тогда испугалась, как бы мать не узнала, но она ничего не заметила. — Тита снова содрогнулась. — Держите меня крепче.
— Вы не имеете права рассказывать мне все эти вещи, — сказал Бруно. Но ему хотелось слушать дальше, узнать все подробности.
— Она постоянно по ночам принимала у себя жильцов… И свечу всегда оставляла гореть, как будто знала, что я подглядываю, и хотела, чтобы я всё видела. Раз мужчина потушил свечу, но она заставила его опять зажечь её. И всё время глаза у неё открыты. Это так ужасно! Было бы не так противно, если бы она закрывала глаза. Один раз какой-то приезжий миланец пришёл к ней пьяный и украл все деньги, которые она хранила под кроватью в старых башмаках. Потом она начала притворяться больной, пока и в самом деле от этого не заболела… Так мне кажется.
— Зачем вы мне рассказываете это? Я обо всём догадался сам.
— Мне хотелось рассказать вам об отверстии в стене. Вы догадываетесь, что я видела? Нет, я уверена, что о некоторых вещах вы ни за что не догадаетесь.
— Вы во всём этом ничуть не виноваты. Вам не в чем себя упрекать.
Он чувствовал, что непременно должен её оправдать, иначе каким-то образом вина падёт и на него. Если он сумеет убедить Титу, что она ни в чём не виновата, то он решит вопрос об их отношениях. И в то же время ему хотелось точнее узнать от неё, что она видела. Вряд ли он услышал бы что-либо для себя новое, но в устах этой девственницы такие описания звучали бы особенно бесстыдно. Ощутив такое желание, Бруно на миг ужаснулся своей порочности и с трудом подавил его в себе — подавил всё, кроме нежности к этой девушке.
— Постарайтесь забыть всё это. Вряд ли можно вас осуждать за желание узнать, что происходит с вашей матерью. Не ваша вина, что вы стали невольной свидетельницей её позора. — Он мысленно искал для неё какой-нибудь выход. — Нет ли у вас родственников — скажем, какой-нибудь тётки, которая могла бы приехать на время и позаботиться о вас?
Тита его не слушала.
— Нет, как вы не понимаете! — перебила она, всплеснув руками. — Ведь я продолжала всё время подсматривать: не то, чтобы заглянула в отверстие раз или два. После первого раза я дала себе клятву никогда больше не смотреть. Но я слышала звуки… Одну ночь я пролежала, ни разу не заглянув туда. Я чуть не умерла, так мне хотелось смотреть, но я всё время боролась с собой.
— Бедная девочка! — Он погладил её по голове. — Это нехорошо. Неужели же у вас нет кого-нибудь, кто…
Но Тита стряхнула его руку.
— Это всё больше притягивало меня, и мне уже хотелось, чтобы поскорее наступил вечер и можно было лечь в постель, а если у матери никого не было, я чуть не плакала от разочарования. Если бы вы знали, как у меня болела голова! Как будто череп треснул на макушке. Да и теперь всё так же. Нет, нет, — вскрикнула она, отталкивая утешающие руки Бруно. — Я должна вам всё сказать. Я надеялась, что она и вас тоже позовёт. Я хотела увидеть вас так, как других. — Она хихикнула. — Теперь вы знаете сами, какая я испорченная.
— Зачем вы рассказали это мне? — спросил Бруно, силясь сохранить нетронутой ту нежную жалость, которая минуту назад затопляла его сердце и умертвила бесов, разжигавших в нём кровь.
— Оттого что я скверная, скверная, скверная, скверная!..
— Ну полно, полно, — уговаривал он её, снова баюкая в объятиях. — Не надо говорить так. Кто я такой, чтобы вы каялись передо мной? — Он был так увлечён собственными словами, самоуничижением, отрадным чувством внутреннего довольства, что бесы снова незаметно завозились в его крови. Любопытство взяло верх над всем. — Что вы при этом чувствовали? — спросил он и подумал: «Ведь я теперь как раз пишу о любви, и мне надо всё знать об этом. Мы, мужчины, в сущности так мало знаем о переживаниях женщины. Женщины большей частью притворяются. Они редко говорят нам правду о своих физических ощущениях, о том, что они думают в то время, как мы целуем их».
Тита заговорила медленно, запинаясь, горячим и вкрадчивым шёпотом:
— Нет, это не то, что вы думаете. Я ни за что не позволила бы мужчине дотронуться до меня, я дала обет Иисусу Христу и Пресвятой Деве. И каждую ночь я клялась, что сдержу обет, для того чтобы они простили мне подглядывание. Это будет моим наказанием, моей епитимьёй[225]. Если бы даже я и захотела, я теперь не могла бы полюбить мужчину. Мне бы хотелось иметь сестру, мы спали бы вместе. Или быть замужем, но чтобы мужу не нужно было от меня ничего — только целовать меня и держать в объятиях.
Она вскочила с места, глаза её сверкали.
— Видите, вы заставили меня сказать то, чего говорить не следовало. На этот раз вы задали вопрос. Из-за вас я себя ненавижу. Вы — хуже их всех, вы жестокий и скрытный зверь!
Бруно вздрогнул, отшатнулся от неё. Она увидела в его глазах слёзы и ещё больше рассердилась. Бруно встал и, обняв её, крепко прижимал к себе до тех пор, пока она не перестала вырываться. Голова её откинулась назад, рот открылся с лёгким вздохом. Он видел влажный блеск зубов и изгиб её верхней губы, тонкие ноздри, густую тень ресниц на щеках, резкую линию дуг под тонкими бровями. Он поцеловал её — только из страха. Из страха обидеть её. Только это одно и было важно — как бы снова не причинить ей боли. Тита задрожала. Он поцеловал её вторично, в шею.
— Ещё, — шепнула она, — ещё. — Потом спросила: — Вы любите меня?
— Да, — сказал он, и когда тело девушки безвольно повисло у него на руках, он почувствовал, что нарумяненный призрак матери утратил свою власть над ней. Он сказал себе: «Я лгу, и это может повлечь за собой только жестокость. Так кончается моя попытка пожалеть человека. Как с матерью, так и с дочерью». Он подумал это и, тотчас устыдившись своей мысли, не смел взглянуть в чистые глаза Титы. — Приходи ко мне сегодня ночью, — сказал он, боясь сказать что-либо иное. Ибо всё иное выдало бы его колебания и больно ранило бы Титу. А он хотел теперь только одного — оттянуть час, когда она будет страдать из-за него.
Она кивнула головой, чопорно сжав губы. Потом сказала низким, гортанным голосом:
— Я бы хотела, чтобы моя мать умерла. — И, прижав ладони к заплаканным глазам, вышла из комнаты, вспоминая по дороге, что нужно купить ещё приправы к салату.
Бруно привык к одиноким скитаниям в чужих краях, но никогда ещё он не чувствовал себя таким одиноким, как здесь, в этой стране, где он наконец снова услышал родную речь. До сих пор его всегда воодушевляла цель, маячившая впереди. Теперь же, когда он возвратился в Италию, это чувство начинало терять свою остроту.
В нём всё ещё жила настойчивая потребность искать и находить, но пропала уверенность, что надо продолжать скитания и тогда он придёт к тому, чего искал. Ведь, в сущности, он всегда стремился только к знанию, — к знанию и единению с людьми в процессе исканий. А теперь, когда он опять вернулся в родную Италию, что-то умерло в нём. Если умерло одно, — убеждал он сам себя, — значит, на смену уже готово родиться что-то новое. Быть может, те законы диалектической связи между явлениями, выявить которые он всегда горячо надеялся? В его последних книгах, кажется, наконец дано конкретное обоснование его идей, открывающих неисчерпаемые новые возможности. А между тем сейчас он ощущал полное душевное опустошение. Всё, написанное им, казалось Бруно сухим и скучным, вымученным и неубедительным. Это ощущение бесплодности после восторженной веры в неисчерпаемость своих сил особенно угнетало Бруно. Словно нарочно, чтобы издеваться над ним, пришли на память некоторые фразы из его сочинений: «Да, инстинктивное стремление к совершенству для нас естественно, оно присуще человеческой природе. Мы не приемлем ничего того, что изолировано, случайно, незаконченно, ни с чем не связано, несовершенно. Нам нужно, чтобы всё было всеобще, совершенно, вечно и целесообразно».
Беда в том, что понятие о совершенстве для него изменилось. Теперь он жаждал человеческого совершенства, а в мире, где всё изменяется, оно состоит в наилучшем приспособлении человека к изменяющимся условиям. Когда же люди будут так же совершенны, как совершенны пчёлы? Тогда у них появится инстинкт всеобщего единения. Тогда необходимость и свобода будут одно.
Мысли выгнали Бруно из дому, и он отправился бродить по улицам, сознательно не позволив себе сесть за перо и бумагу, так как для него было мучением оставаться таким образом лицом к лицу со своим бессилием, со смятением угнетённой души. Но ведь, с другой стороны, в работе была его единственная надежда на спасение. Ему казалось, что, если бы он сейчас помчался опять к себе в комнату, он бы радостно схватился за перо и писал, писал, не отрываясь. Но в то же время он понимал, что, если вернётся домой, будет то же, что было в последний раз, когда он сидел, уставившись на чистый лист бумаги и обводя кончиком ногтя узор водяного знака на ней.
Он прошёл мимо маленькой пристани, где стояли лодки, нагруженные дынями. Дыни сбрасывались грудами прямо на пристань, и какие-то люди считали, взвешивали, обнюхивали их. Что-то хрипло выкрикивал уличный разносчик. Бруно заметил на земле клочок печатной бумаги и машинально поднял его. Он никогда не мог равнодушно пройти мимо какого-нибудь печатного слова, не прочтя его. Он прочёл заголовок «De pulchro et amore libri»[226], а под ним — несколько латинских строк: «Телом не жирна и не костлява, а сочна», Succulenta — хорошее слово. «Цвет лица не серый, не тусклый, а с преобладанием белых и розовых тонов; косы — длинные, золотистые; уши маленькие и круглые, симметрично расположенные».
Бруно решил, что это из трактата, написанного неким Агостино Нифо. Он видел экземпляр этой книги в Неаполе, где Нифо был преподавателем философии, но не читал её. Может быть, когда-нибудь ещё удастся её прочесть. Каким образом страница из книги Нифо попала на улицу Венеции? Этой книги давно уже нет в продаже. Бруно вдруг ужасно захотелось знать, кто в эту минуту читает его собственные книги. Впервые ощутил он свою связь со всеми теми, кто читал или будет читать его сочинения. Глубокая и отрадная уверенность в своих силах проснулась в нём. Он забыл о глодавших его сомнениях, о страхе умственного бесплодия. Он спрятал за пазуху найденный листок, чтобы показать его потом кому-нибудь, кто способен оценить учёность Бруно, сумевшего угадать автора этих строк.
В таком настроении он, стоя в стороне, наблюдал, как шествовала мимо какая-то знатная дама в сопровождении двух старух, видимо, дуэний[227]. На даме было платье алого шёлка, затканное золотом, туго перехваченное под грудью. Высокий стоячий воротник заканчивался небольшим рюшем у самого подбородка: мода, не принятая в Венеции, где обычно грудь у женщины прикрыта только легчайшей вуалью, подвязана, чтобы больше выступала, и набелена. Платье этой дамы было с открытыми внизу висячими рукавами и шлейфом, который несла одна из старух. Так как каблуки её были невероятно высоки, дама шагала медленно, неуклюже переваливаясь, с трудом поднимая ноги и громко стуча ими по мостовой. Чтобы не терять равновесия, она тяжело опиралась на плечо второй старухи. Та едва была в силах поддерживать грузное тело своей госпожи: это видно было по напряжённому выражению её глаз, по неровному дыханию и походке, старуха с трудом передвигала ноги. Однако она ещё нашла в себе мужество бросить свирепонеодобрительный взгляд на Бруно, откровенно рассматривавшего её госпожу. «Эта разодетая кукла хорошо охраняется, — подумал он. — А каблуки, наверное, порядком её утомляют, напрягая неразвитые мускулы её жирных ног». Он плюнул и пошёл дальше, с презрением думая о мужчинах, которые женятся на женщинах, не доверяя им, а потом запрещают жене держать в доме мужскую прислугу в уверенности, что жена развратит кого угодно. Затем он вспомнил о том чувстве стыда за себя, которое вызвала в нём Тита своим рассказом. И его довольство собой снова улетучилось. Он понял теперь, почему мужчинам нравится подозревать порочность в женщинах, избранных ими для продолжения рода. «У меня никогда не будет ребёнка, — подумал он. — Но, может быть, какая-нибудь женщина, с которой он жил, и родила от него? Как знать?» Все эти мысли угнетали. От испытанного им не так давно подъёма духа не осталось и следа.
Хотелось кипучей жизни, чего-нибудь настолько важного и значительного, чтобы, занявшись им, он забыл о себе. Улицы опять начинали оживать, но на Риальто всё ещё не было ни одного торговца. От одиннадцати часов до полудня был час самой бойкой торговли, а затем перерыв до пяти, когда все снова собирались на площади. Бруно шёл вперёд, не замечая, что толпа редеет, и направляясь к Риальто, потому что он помнил, что это — самое оживлённое место в Венеции. Но вот, внезапно очнувшись и поглядев вокруг, он увидел, что уже пришёл к рынку. Рассеянно уставился на стены обширного здания: кирпичная кладка, как и у большинства дворцов.
Что ему, собственно, нужно здесь, во всех этих переходах и галереях? Внимание его привлекли звуки чьего-то голоса — видимо, говорил англичанин, безбожно коверкая французский язык. Неподалёку от Бруно стоял человек могучего сложения, в разрезном камзоле, с высокими, плохо накрахмаленными брыжами из голландского полотна, но с итальянской вышивкой. Итальянцы, по наблюдениям Бруно, не умели как следует крахмалить бельё, поэтому здесь все носили невысокие брыжи. Англичанин громко разговаривал со своим спутником, весёлым и подвижным французом в плаще из английского сукна, в бархатных штанах и кожаных чулках. На поясе у него висела шпага в кожаных ножнах.
— Что ни говорите, а наша Биржа красивее. Здесь, может быть, здание больше, но с нашим — никакого сравнения. То же самое я вам скажу, например, насчёт этой хвалёной Нотр-Дам[228] в Париже. Улицы неплохие, дома все на один лад, но они не шире нашей Чипсайд…
Бруно пытался дослушать до конца, но какие-то прохожие заслонили от него говорившего. Минуту-другую он бродил без цели меж ювелирных лавок. Если бы у него были деньги, он купил бы какое-нибудь украшение, хотя бы только для того, чтобы натешить им глаза, а потом бросить его в сточную канаву или отдать первому попавшемуся ребёнку. Венецианцы славились умением оправлять драгоценные камни. Бруно уважал искусство человеческих рук и изобретательность мозга, но его возмущало употребление, которое делали из продуктов человеческого труда. Что, кроме отвращения, могла вызывать в нём жадность торгашей, которые под знаменем Христовым несли в Америку бесчеловечную жажду убийства, а оттуда привозили сифилис, грозивший опустошить Европу? Сифилис и золото. А ведь Венеция — один из центров мировой торговли. Может быть, поэтому он чувствует себя здесь так скверно. Впрочем, сегодня в кипучей суёте пристани он почерпнул новое воодушевление. В ней было что-то притягивающее, но это «что-то» не поддавалось анализу и поэтому не давало пищи для размышлений.
Он вышел из ряда ювелирных лавок, решив пройти к бойням, которые помещались в бывшем дворце одного предателя, имущество которого было конфисковано. Здесь были выставлены ободранные туши и стояло зловоние — тот запах крови, что доводил людей до презренной лжи, от которой они звереют ещё больше, ибо всякая ложь якобы во спасение на самом деле только раздражает людей. Бруно разговорился с одним из служащих бойни и узнал от него, что здесь за неделю режут до пятисот быков, двести пятьдесят телят и огромное количество козлят. Отсюда он прошёл на рыбный рынок и полюбовался грудами различных съедобных моллюсков, сердцевиков, гребешков, устриц и рыб — линей, щук, палтуса. Угрей обдирали заживо. Неподалёку от Бруно какой-то хорошо одетый мужчина торговался у лотка с продавцом, предлагая два сольдо за фунт рыбы и уверяя, что она не совсем свежая. А торговец требовал четыре сольдо.
Бруно бродил по рынку, ко всему безучастный, пока не пришёл к новому мосту на Риальто. Какой-то комиссионер, заметив рассеянно-безучастный взгляд Бруно и его костюм, в покрое которого было что-то иноземное, пристал к нему и начал объяснять, что мост строился целых три года и обошёлся в двести пятьдесят тысяч дукатов[229]. Он построен из истрийского камня.
— Обратите внимание на его единственную арку, — говорил гид, сопровождая свою речь красноречивыми жестами. — Это — чудо строительного искусства. С каждой стороны по тридцать шесть ступеней вверх, — сосчитайте сами, если не верите, — а слева и справа от этих лестниц по двенадцать лавчонок под свинцовыми навесами.
Из-за туч вдруг выглянуло солнце и ярко осветило эти крыши, как бы подтверждая слова гида. Тот, воодушевившись, стал показывать Бруно фигуры святых:
— Вот Пресвятая Дева. А это — архангел Гавриил[230]. А вон там — два покровителя нашего города, святой Марк и святой Феодор. Наверху — дворец[231], который теперь отведён голландским купцам. Не пожелает ли синьор чем-нибудь освежиться? А что освежает лучше, чем женщина, молодая, но уже приятно-полная и почти девственная, настолько, насколько этого можно ожидать в нашем жарком климате. Синьор не желает хотя бы улыбнуться моим скромным шуткам?
Бруно дал ему несколько сольдо и прогнал его. Тот отошёл, вертя в руках шапку, перемежая бранью льстивые выражения благодарности. Бруно не двигался с места, глядя на арку моста, на миг очарованный совершеннейшей гармонией её формы.
Что же теперь — идти на площадь Святого Марка и предаваться там размышлениям о несоответствии между благородством сооружений и неблагородством их строителей? Нет, строители не виноваты, что их труд использован для низменных целей. Бруно надоело наблюдать торговцев, вдыхать запах пряностей и перца, доносящийся из дверей складов. Казалось, он противопоставляет свои одинокие стремления всему потоку человеческих усилий. Но это невозможно. В чём же оправдание его стремлений, где суждено им найти отклик? Не у плутующих торгашей, не у сладкоречивых священников, не у загнанных крестьян. И всё же цель его жизни должна быть всеобъемлющей, иначе эта жизнь не стоит ничего. Она зародилась каким-то образом в чреслах Гойана Бруно, крепкотелого солдата с острым языком, и Фролиссы Саволини, женщины с кроткими глазами и пышной грудью. О ней не скажешь, что она появилась ниоткуда. Жизнь Бруно родилась от совокупления этих двух простодушных людей и, когда придёт время, вернётся снова в лоно общей жизни.
Бруно решил пойти посмотреть на скоморохов.
На улице, которая проходит между западным порталом собора Святого Марка и церковью Святого Джеминиана, уже собрались скоморохи на своём обычном месте для дневных представлений. Здесь было воздвигнуто с полдюжины подмостков, и на них выступали в своих ролях маститые фокусники. А остальные, попроще, толпились подле ворот Дворца дожей, прыгая, жестикулируя и громко горланя.
Бруно остановился у первой эстрады. Все участники представления уже собрались на ней: здесь было три музыканта, две женщины в масках, два клоуна и сам великий шарлатан. На эстраду внесли сундук, поставили его в глубине сцены и открыли. Обе женщины принялись вынимать из него разные предметы, главным образом бутылки и аптечные склянки. Великий шарлатан, который в афишах именовался «Гермес-чудотворец, единственный целитель живой водой», величаво расхаживал по эстраде в алом плаще, расшитом чёрными и золотыми астрологическими знаками, и в остроконечной шапке. Музыканты (один из них играл на флейте, другой — на офарионе, лютне с проволочными струнами, третий — на барабане и литаврах), сбившись в кучу, шептались, пробовали инструменты и ни на кого не обращали внимания. Клоуны в уродливых комедийных масках прыгали по эстраде и лягали друг друга.
Женщины, чьи глаза в прорезях чёрных шёлковых масок казались щелями, полными прозрачной и зыбкой тайны, начали расставлять бутылки на складном столике. Их чёрные корсажи были низко вырезаны и оставляли открытой грудь, юбки из какой-то прозрачной тёмной кисеи доходили только до колен. Главный шарлатан, мужчина низкого роста, но с величественными манерами, сделал знак музыкантам. Музыканты заиграли, и время от времени женщины бросали работу и подпевали им. Их голоса, раздаваясь всякий раз неожиданно, странно волновали Бруно. Потом женщины стали плясать — так, что юбки вихрем раздувались вокруг них. Но плясали они неуклюже и без увлечения, и Бруно предпочитал на них не смотреть. Он наблюдал за Гермесом-чудотворцем, который стоял тут же, ожидая, когда наступит его очередь. Но вот музыка умолкла, и женщины закружились в последний раз, с особенным азартом раздувая юбки. Тогда Гермес-чудотворец торжественно вышел вперёд, опёрся рукой на шаткий столик и начал свою речь.
— Друзья мои, — прогудел он громко, — все, без различия пола, радуйтесь, ибо Гермес-чудотворец пришёл освободить вас. Есть лишь один вид рабства, который равняет всех: мы все — рабы нашего кишечника. Что толку сидеть на троне, если вы не можете с удовольствием сидеть на стульчаке? Друзья мои, я знал одного короля, для которого сидеть на троне было мукой. Что же его мучило — измена, долги Фуггерам[232] или какие-нибудь другие несчастья, которые часто бывают уделом принцев? Нет, дорогие друзья мои: он страдал геморроем. И что бы вы думали? Не успела, как говорится, дохлая собака три раза хвостом вильнуть, как этот король уже ел из моих рук. И что он ел? Разумеется, мои знаменитые на весь мир пилюли. Он просыпался по ночам и со слезами молил дать ему хоть одну пилюлю…
— А какой это король? — прокричал кто-то из толпы.
— Ну конечно, король Эфиопии, — отвечал Гермес-чудотворец. — Одна из вот этих весёлых дев, которых вы здесь видите, подарена мне его королевским величеством после того, как ей вытатуировали на теле фамильный герб короля. Подойди сюда, Клеопатра!
Тоненькая брюнетка выступила вперёд.
— Вот эта дева! — объявил Гермес. — Она не может показать герб публике по причинам, слишком ясным для всех вас. Объяснять их не приходится. — Девушка перекувырнулась. — Те из вас, у кого зоркие глаза, несомненно успели заметить герб, — продолжал Гермес. — Быстрота — превосходная тактика, как открыл миру один египетский пёс, который, боясь крокодилов, пил из реки на бегу. Те, кто не сумел рассмотреть эфиопский геральдический герб, изображение Льва Иуды с гривой и все остальные, пускай приобретут немного моей чудодейственной глазной примочки, тогда они в следующий раз будут лучше видеть.
Так он болтал, перескакивая от одной темы к другой, пока клоуны гонялись друг за другом по эстраде. Он перечислял все случаи чудесных исцелений его лекарствами, отпускал непристойные шутки, восхвалял Венецию, таинственно намекал на какие-то рецепты, сообщённые ему одним индусом, которому он спас жизнь в Цейлоне, и, наконец, скомандовал, чтобы ему принесли его змею. Клеопатра принесла плетёную корзинку. Он взял её в одну руку, а другой вытащил из неё пятнистую змею, которая обвилась вокруг его руки и плеча. Он начал рассказывать зрителям об имеющихся у него чудодейственных противоядиях против всех видов отравы, а в это время змея (как казалось зрителям) вонзала жало в его руку, лицо, шею.
— Эта змея, которую зовут Пиппа, не далее как на прошлой неделе умертвила человека. Предлагаю любому из здесь присутствующих сделать то, что я сейчас сделал, и избежать смерти. Пиппа — прямой потомок той змеи, которая на острове Мальта прыгнула из огня на Святого Павла, но не причинила ему вреда. Заметьте, она из породы змей, которые одних убивают, а других не трогают, — это чрезвычайно умный вид змей. Святой Павел остался невредим. И, как видите, я тоже.
Бруно пошёл дальше. На соседней эстраде фокусник, обнажив руку, колол её ножом так, что из руки текла кровь и капала на дощатый пол. Затем он пускал в ход целебную мазь, которой торговал, и предлагал зрителям найти на мгновенно зажившей руке хотя бы след порезов. Дальше девушка в костюме цыганки продавала листики с напечатанными на них любовными песнями и неприличными гравюрами на дереве. На следующей эстраде какие-то мужчины показывали фокусы. Один с мартышкой на плече, с лицом трупа, в пёстром, чёрном с белым костюме и высокой шляпе с перьями, держал речь к публике:
— Я вас избавлю от тех сладеньких помоев, которыми вас пичкают ваши постоянные врачи, от лекарей-шарлатанов, которые полагают, что всё искусство Галена[233] заключается во впрыскиваниях мальвового отвара[234]. Очищайте свой кишечник в каждое полнолуние, а не только через каждые десять дней. Из всех прогностиков я самый знаменитый. Не слушайте мотающих бородами астрологов, которые говорят вам, что пятна на луне — это кольцевая язва, а не жёлтый лишай. У меня имеются на этот счёт достоверные сведения.
У девушки, стоявшей в толпе рядом с Бруно, из-за края платья выглядывало полотно, которым она обмотала себя в несколько рядов, чтобы казаться толще. Она обернулась и засмеялась прямо в лицо Бруно — открыто и непринуждённо. Ему хотелось ответить ей тем же, но, смутно взволнованный, он отошёл к соседней эстраде. Здесь слепой, аккомпанируя себе двумя костями, которыми он постукивал одна о другую, пел грубо-непристойные куплеты, импровизируя их тут же на темы, подсказанные слушателями. В перерывах между куплетами он продавал бутылки с лекарствами от подагры, простуды, нежеланного зачатия, от меланхолии и запоров. «Человек — нечистое и больное животное, — подумал Бруно, — иначе не процветали бы повсюду эти субъекты, живущие за счёт его немощей». Пищеварение, конечно, важный вопрос. Но можно ли его разрешить отдельно от остальных задач улучшения человеческого существования? Слепой запрашивал десять сольдо за бутылку, а продавал остатки своего запаса по четыре.
Идя сюда, Бруно надеялся отвлечься от себя, но ему это не удавалось. Он чувствовал, что замыкается всё глубже в одиночество, всё дальше и дальше уходит во внутренние покои своей души, и одна за другой захлопываются за ним двери отчаяния, отделяя его от мира. Ему пришли на память слова Парацельса из его «Opus Paramirum», но они теперь не ободрили его, как бывало. Как часто он твердил их среди треволнений жизни, твердил, как обет:
«Я жил в божественном и в природе, как грозный властелин света. Как же мог я не казаться странным тем, кто прячется от солнца?»
Теперь эти слова казались пустым хвастовством, самоутешением человека, которому отказано в полноте жизни. Как могли они некогда будить в нём чувство высокого и чистого единения, веру в то, что на его стороне — всё вечное, все истоки неугасимой и непрерывно обновляющейся жизни?
Ему вспомнилось то, что он видел вчера на площади Святого Мартина. Двух мужчин публично пытали на дыбе. Руки у них были связаны за спиной. Конец ремня, свисавший с блока, также обвязали вокруг их рук. Палачи вздёрнули вверх на блоке обоих, и они закачались высоко в воздухе, испытывая страшные мучения, когда им вывёртывали суставы. Кровь так сильно приливала к лицу и рукам истязуемых, что они стали темно-вишнёвого цвета и, казалось, готовы были лопнуть от натуги. Так оба висели, конвульсивно извиваясь всем телом и слабо двигая ногами, когда пытались подтянуться вверх и ослабить страшное напряжение плечевых мускулов.
Бруно, много странствовавший по свету, привык к зрелищам зверской жестокости. Он видел ряды виселиц вдоль больших дорог, на них качались трупы крестьян, казнённых за воровство, до которого их довёл голод; клочья человеческого мяса, воняющего на солнце весною, на ярком фоне зацветающих каштанов. Видел, как сторожа разгоняли детей, игравших черепами перед зданием Лондонской биржи, как там же стегали кнутами людей, осуждённых за бродяжничество, превращая их спины в кровавую кашу; видел, как несчастных проституток раздевали донага и секли, а потом гнали в Брайдуэлл щипать пеньку. Он видел много раз, как вешали и секли людей. И всё же муки этих двух венецианцев на дыбе вызвали в его душе такую боль, как будто он в первый раз увидел воочию бездонную жестокость мира, в котором он жил.
Он спросил у одного из зрителей, что сделали эти люди. Спрошенный не знал. Может быть, они украли что-нибудь у своих хозяев или говорили дурно о каких-нибудь видных сановниках. «Уж наверное в чём-нибудь да провинились, так что пусть пеняют на себя». Вот какой ответ услышал Бруно. А люди висели перед ним с истерзанными, трещавшими суставами, корчась от боли и в то же время стараясь не корчиться, потому что каждое движение только усиливало боль, а лица их налились тёмной кровью от ужаса и смертной муки. Да, он читал в их лицах ужас. Больнее всего их ранило открытие, что люди так жестоки. Быть может, позднее эта истина исчезнет из их сознания, быть может, и сами они будут жестоки. Но в этот момент острой муки они глядели в лицо правде, отрешившись от всего, бесповоротно осудив мир. То был день Страшного Суда — и никто не догадывался об этом. Ни один из толпившихся здесь зрителей не знал, что страдальцы судили их по неумолимому закону правды, судили и вынесли приговор. И вот эти осуждённые, у которых постоянно было на устах имя Христа, — они-то и распинали Христа снова и снова, если вообще можно верить в Христа. Несомненно только одно: введя поклонение образу мученика, люди увековечили и злое желание мучить беззащитных. Греки в своём стремлении к гармонии ставили перед глазами беременной женщины прекрасные статуи, для того чтобы новая жизнь рождалась такой же прекрасной, как то, что созерцала будущая мать, чтобы действие и созерцание могли слиться воедино в плоти будущего. А люди, доведённые до отчаяния собственной скверной, поставили перед глазами стонущего в родовых муках мира образ истерзанного тела. Взирая на него, чувствуешь, что твои собственные руки и тело искалечены жестоким миром, в который ты стучишься с тщетной, отчаянной настойчивостью. Ибо как одному понять, пока не поймут все? Какое может быть единение, если человек — не участник исторического процесса, ведущего к высшей органической свободе? «Я ничем не отличаюсь от других людей, — говорил себе Бруно. — А между тем я чувствую себя на необитаемом острове. Неужели я должен вернуться к Христу только для того, чтобы иметь право отречься от него, чтобы через меня и всё человечество получило право его отвергнуть, право на более счастливую и полную жизнь?»
Потом он подумал: «Я начинаю уставать от иронии, я вижу перед собой столько обнажённых грудей, что губы мои жаждут молока. Только молока, не более».
VI. Без выхода
Кто-то толкнул его. Сердито обернувшись, Бруно увидел немецкого студента, с которым разговаривал на барже, когда они плыли из Падуи в Венецию.
— Я так и думал, что это вы, — сказал студент. — Помните, месяц тому назад вы меня спасли, когда я тонул?
— Ничего подобного не было, — возразил Бруно, невольно улыбнувшись. — Но я вас не забыл.
— Нет, вы меня спасли от чего-то, я очень хорошо помню. Кажется, лодка тонула или что-то в этом роде. Или я с кем-то подрался. Во всяком случае несомненно то, что я чуть не утонул. Гондола погрузилась в воду, оттого что мы все разом прыгнули в неё. И к тому же у нас в желудке было слишком много вина, оно делало нас тяжелее… Ведь я, кажется, поклялся вам, что мы напьёмся вместе?
— Без сомнения, я не первый, кому вы давали такую клятву. — Бруно не знал, как ему быть — оставаться в обществе этого добродушного глупца или ускользнуть от него в толпу.
— А я ищу, где тут на колокольне торчит голова одного монаха, — сказал студент конфиденциальным тоном. — Говорят, он казнён за то, что сделал брюхатыми девяносто девять монахинь. Ему обещали помилование, если он сумеет довести их число до сотни, но на сотой он споткнулся, бедняга. Я думаю, ему нарочно подсунули самую безобразную девку, какая когда-либо остригала свои кудри и спасала душу в монастыре.
— Тише. Вы попадёте в беду, — предостерёг немца Бруно, кладя ему руку на плечо.
— Я хочу разыскать эту колокольню и помолиться перед ней, — упорствовал студент, ухмыляясь всем своим широким лицом. — Я заразился идолопоклонством, которое распространено в ваших краях. Но я не стану поклоняться святым Вавилона[235], этой колыбели разврата. Я склоню колени перед достойным монахом, который сделал всё, что может сделать мужчина, и больше сделать не мог. Жаль, что я не знаю его имени.
— Так вы всё это время были в Венеции? — спросил Бруно, зевая. Неподалёку от них стояли два купца, и ему хотелось послушать, о чём они толкуют между собой. Речь шла как будто о войне в России[236]: два брата, царствовавшие в Москве, поссорились, великий татарский хан сделал набег на Россию, но был разбит и потерял восемьдесят тысяч человек. Упоминали о каком-то молдавском князе с караваном в сто повозок и двенадцать верблюдов, нагруженных золотом и драгоценными камнями. По-видимому, караван этого князя проходил где-то вблизи Турции, так как купцы говорили, что Великий Турок, услыхав о его богатстве, подстроил так, чтобы его удавили. Но этот человек с каким-то заморским именем «Питер» узнал о заговоре и успел бежать со всем своим добром. Странные на свете происходят вещи. А здесь в Италии сидят люди, которые всем этим управляют, — высохшие Люди в чёрных рясах, застёгнутых до горла. Даже их юные сыновья одеваются так же, как они. Хотя они рясой только прикрывают дорогие меха, вышитые кафтаны, полотняное нижнее бельё, и считают нужным соблюдать внешнее ханжество, какая бы греховная суетность ни разбирала их под этой рясой.
— Так, так, — неопределённо сказал студент, икнув. Затем он приложил ладонь к уху. — Слышите шум? Думаете, это вода шумит, всасываясь в сваи, или рыгают полчища монахов? Или купцы чмокают губами, сидя над своими торговыми книгами, или девушки жадно сосут апельсины? Нет, эти тихие, сочные звуки, преследующие вас в Венеции, отличающие се от всех городов на свете, — звуки постоянных и повсеместных возлияний Киприде[237] при участии её жриц. Поверьте, я знаю, о чём говорю. Я вычислил точно. В этом городе вод живёт двадцать тысяч трясогузок, всегда готовых к услугам каждого мужчины. И налоги, которые они платят Сенату, идут на содержание десятка государственных галер… Вы спрашиваете, как я проводил время в Венеции? Выжидал и собирал все эти сведения. А теперь мы с вами напьёмся.
— Да вы и так уже пьяны.
— Ничего, я начну сначала.
Они вошли в первый попавшийся кабачок. Студент, имени его Бруно не помнил, потребовал вина. У столов мальчики с корзинками предлагали пряники и сладости. Посетители макали пряники в вино и ели.
— Красного! — скомандовал студент. — Только красное вино и стоит пить. Кто пьёт белое, у того и моча белая, а от красного у человека появляется румянец на лице. — Он ущипнул розовую щёку мальчика, протягивавшего им свою корзинку. — Ну и скупой же, мелочный народишко эти ваши венецианцы! По утрам вы встретите здесь в трактире богатых синьоров. Я наблюдал за ними. Они съедают дешёвый завтрак — несколько кусочков хлеба с вином — и больше ничего не едят до обеда. Но и падуанцы не лучше, те ужинают грошовой порцией рыбы. Ни те, ни другие никогда не угостят никого в ресторане. Они предпочитают встречаться и разговаривать под аркадами. Если они вас приглашают к обеду — это только формальность. При этом от вас ожидают, что вы откажетесь под предлогом, будто вы уже приглашены в другое место. Если же вы примете приглашение и явитесь в дом, вы на несколько недель выведете из строя их хозяйство и приобретёте репутацию нахала. Дам из общества вы не встретите нигде, разве только на какой-нибудь свадьбе или на крещении еврея. Вообще же порядочным женщинам разрешается выходить из дому только вечером для прогулки в гондоле — и то, разумеется, под усиленным конвоем. За всё время моего пребывания в Венеции мне пришлось разговаривать только с теми двадцатью тысячами жриц Венеры, о которых я уже упоминал. Впрочем, здесь наталкиваешься на множество любопытных вещей. Вот, например, совсем близко отсюда, вниз по каналу, находится приют для незаконных детей проституток. Нельзя сказать, чтобы таких детей было много, принимая во внимание, что все двадцать тысяч девок постоянно в ходу. Вам, как коллеге-латинисту, обладающему чутьём стиля, я могу привести цитату: nudantes nates nundinaticias. Лучшие плотники оставляют наименьшее количество обрезков. Чёрт возьми, у меня пересохло в глотке! Должно быть, погода виновата.
За вином дурное настроение Бруно рассеялось. В шумной болтовне студента, по крайней мере, чувствовалось неприятие мира, торгующего своей совестью. Бруно наклонился к нему.
— Мне не даёт покоя один вопрос, — начал он. — На языке философии его, пожалуй, можно формулировать как вопрос о соотношении между материей и оживляющим её началом, которое я называю мировой душой, заимствуя этот термин у неоплатоников[238]. Задача состоит вот в чём… — Смочив палец в вине, он чертил на столе треугольники. Студент слушал с глубокомысленным видом. — Одухотворение материи предполагает её оформление. Если жизнь есть единство действия — а это самая заветная моя мысль — значит, материя сама себя оформляет. Мы только словесно отличаем понятие материи от понятия формы. Аристотель был не прав, утверждая, что форма приходит к материи извне. Но ошибались и эпикурейцы[239] и атомисты, сводя образование материи к столкновению случайных атомов… На чём я остановился? — Он залпом выпил вино.
Комната медленно закружилась перед его глазами. Бруно подумал: «Не может быть, чтобы вино сразу так сильно подействовало на меня. Это — усталость и жара». Он пытался собрать мысли. Он чувствовал, что снова очень близок к открытию той истины, в которой только и заключался для него весь смысл жизни.
— Понимаете… Если мы будем исходить из животворящего начала, «мировой души», значит, вся материя одушевлена… Мы не умеем ещё по-настоящему объяснить образование материи… Мы возвращаемся при этом обратно к избитой мысли о Боге. Я пытался сочетать две теории: все вещи предопределяются мировой душой, всякая материя одинаково духовна, лишь дух обладает творческой силой, ничто не ново под солнцем, а с другой стороны — материальная форма, как результат столкновения органических сил, тождество противоположностей, постоянное появление чего-то нового, нового единства… Я не умею примирить эти две точки зрения. Они меня раздирают на части.
Студент слушал внимательно.
— Я не понимаю, — сказал он со вздохом. — Жизнь — курьёзная штука…
Бруно сделал новую попытку. На него давил гнёт неотвязных мыслей, казалось, он не в силах и руку поднять со стола.
— Но тут-то и начинается странность. Логически исходя из идеи духа, идеи телеологического творения и априорной трансцендентности[240], я прихожу к пустоте. Алогический путь от идеи материи, чистейшей самопроизвольности и абсолютной закономерности приводит меня к свободе, к жизненному единству, сочетающему в себе желание с необходимостью.
— В таком случае идите вторым путём, — сказал студент, понижая голос. — Я еретик, мне на всё наплевать. Но сейчас я готов умереть за вас!
— Беда в том, что я не могу найти диалектики всего этого. Когда я пробую выявить образование формы, различные её фазы, я невольно возвращаюсь к учению неоплатоников о категориях. Не знаю, каким другим путём избежать ошибок атомистической теории.
— Вы меня извините, — промолвил студент с такой простотой и искренностью, что Бруно простил ему непонимание. Уверенность в близости к окончательному разрешению задачи, окрылявшая Бруно всё время, пока он говорил, теперь исчезла. Но он не отчаивался. Снова выпил вина, затем продолжил:
— Я хочу вам сказать… Хотя это, собственно, не имеет прямого отношения ни к моим философским концепциям, ни к эмоциональным переживаниям… Я занимался анализом любви, полового чувства. Я хочу объективно подойти к этому вопросу, но только засушиваю себя и всё дальше отхожу от жизни. Однако намерения у меня разумные. Я хочу анатомировать то дивное вожделение, которое мы унижаем словом «любовь», словом, под которым скрывается подчас злоба или собственническая жадность ревности. А это вожделение можно превратить в музыку, звенящую как хрусталь.
Как бы в ответ на его слова, сверху донеслись звуки лютни, несколько звенящих нот. Бруно хотел сказать: «Пойдёмте наверх», но вместо этого промолвил:
— А вы мне нравитесь, Герман, — сейчас, когда он больше не делал усилий припомнить имя этого человека, оно вдруг всплыло в его памяти, — потому что вы сознаёте, что вы — зверь.
— Я зверь, — согласился Герман. — Но я — царственный зверь. Лев падалью не питается. Вот как говорит об этом мой любимый поэт. — Он стукнул кулаком по столу и стал читать нараспев по-латыни заключительные стансы «Исповеди» Архипоэта[241]:
Овечки не обидит царь зверей,
И не боимся мы его когтей.
Примите льва закон, властители людей.
Нет в жизни сладости — так горечь глубже в ней.
— «Нет в жизни сладости, так горечь глубже в ней», — повторил Бруно. — Как странно бывает услышать чужие мысли, прозвучавшие вдруг эхом далёкого прошлого. Мы, в сущности, не понимаем жизни других людей… И точно так же я не могу разобраться в сложности наших впечатлений. Как я уже вам говорил, меня мучит не выношенная ещё мною гипотеза, которую я окрестил «Мировой душой». Эти терзания проявляются в том, что я засушиваю всё и пытаюсь подходить к страсти с хладнокровием анатома. Но скрытое под этим отчаяние становится таким высокомерным, что оно может выразиться лишь в смирении. Одна боль питает другую. Я хочу страданий, чтобы доказать, что сумею победить их. Я решил превзойти Христа, эту единственную в истории значительную личность, которая меня ни капельки не интересует. Я хочу восторга дерзаний, боевых песен, беспристрастного могущества знаний. В повседневной жизни я ничем не отличаюсь от любого монаха-картезианца[242], своё презрение к миру я выражаю в том, что веду жизнь истинно христианскую: ибо мир поклоняется Христу и вместе с тем денно и нощно издевается над ним, я же считаю так называемую христианскую мораль несомненно пагубной, ибо она калечит и насилует человеческую природу.
— Расскажите мне, что вы писали о женщинах, — попросил Герман.
— Пол — вовсе не та мерзость, которая представляется больному воображению святош. Пол — это то же самое, что волнение морских глубин, стихийные явления природы. Он — мгновенное слияние человека с единством органического мира. Он — высшее выражение закона притяжения и отталкивания, закона совпадения противоположностей, которым держится Вселенная. Рождение едино в мире — и, любя женщину, мы даём жизнь звёздам и замешиваем огненную субстанцию солнца, мы создаём поэму или плуг, бороздящий мать-землю для посева, вертящееся колесо, колесо поколений, колесо Фортуны[243], богини рождения, корабль, что качает нас посреди океана, ружьё, выпаливающее свой приговор — жизнь или смерть… все виды и формы познания. Понимаете, всё приходит сюда, к своему истоку, на всё кладёт печать пол. Ибо здесь мы соприкасаемся с творящим началом, которое вечно светит нам сквозь пространства, проникает в нас глубже и глубже…
— Я непременно хочу прочитать вашу книгу, когда она будет напечатана.
— Глупый человек, этого в моей книге нет. Это родилось во мне сейчас, под влиянием божественной минуты братского общения… истина, которую я никогда не смогу написать… К тому же, если даже допустить, что всё мною сказанное — правда, оно в жизни ничего не разрешает.
— Я вам назову одну из проблем, которых оно не разрешает, — сказал Герман, наваливаясь грудью на стол. — Это — язва, которую учёные называют «териома». В падуанской больнице я видел женщину с такой язвой. Она появляется на другой язве, она багрово-чёрная и смердит. Из неё течёт гной, тело в этом месте омертвевает, но зудит. Язва кровоточит, вызывает лихорадку и разрастается. Потом она переходит в то, что мы, медики, называем «разъедающей язвой», потому что она разъедает тело до кости, превращает его в липкую кашу, похожую на грязь, с невыносимым запахом. — Студент поднял на Бруно свои ярко-голубые глаза. — Вы ведь не воображаете, что я слишком чувствителен, а?
— Чем вызывается такая болезнь?
— Скверными условиями жизни, плохим питанием. Одним словом — нищетой.
Бруно опять залпом опорожнил свой стакан, подняв его сначала, как для заздравного тоста.
— За кого вы пьёте? — спросил Герман.
— За антихриста.
Наступило молчание, в которое через некоторое время опять брызнули сверху звуки лютни.
— Давайте свистнем какой-нибудь послушной девчонке, — предложил Герман.
— Нет, пока не надо, — возразил Бруно. — Я ещё не кончил говорить о себе. Я хочу познакомить вас с дальнейшими последствиями моей философской дилеммы. В доме, где я поселился, есть одна старуха, полупомешанная. Я вообразил, что жалею её. Жалел-то я, собственно, её дочь, а к этому примешалось ещё и любопытство и самодовольство, оттого что на меня взирают с молитвенным обожанием. Мне захотелось вмешаться в жизнь других людей, подчинить их своему влиянию. Я не подумал о том, что они будут переживать, когда я захочу уехать. Понимаете, я покинул Нолу, когда мне было одиннадцать лет, и с тех пор у меня нет дома. Самым счастливым для меня было время, которое я прожил в Лондоне в семье Кастельно. Он был в то время французским послом, а я служил у него секретарём. Его жена и дочь очень хорошо ко мне относились… Может быть, вторгшись в жизнь этих несчастных женщин, моих квартирных хозяек, я только бессознательно искал семейного уюта, а может быть, я мстил за отсутствие его в моей жизни. Как бы там ни было, я заварил изрядную кашу.
— Поделом вам! — вставил Герман.
— В объяснение всего этого я должен сказать, что некоторые вещи, происходящие в моей жизни, я стал замечать только недавно. Я всегда жил образами, созданными другими людьми, несмотря на то что я скиталец, несмотря на то, что я величайший из философов, живших на земле со времён египтян. Я всегда принимал идею цветка, но не замечал ярких мазков живых цветов. И тем не менее я презираю абстрактные идеи. Для меня существовала только Женственность, а теперь я желаю обыкновенных живых женщин. Я не воспринимал окружающего во всей его полноте, остроте индивидуальных особенностей, запахов, очертаний — и теперь я хочу воспринять всё это. Эта потребность росла во мне всё время, с тех пор как я окончательно постиг пустоту Идеи. Слыхали вы когда-нибудь об Антисфене[244]?
— Нет.
— Я так и думал. Он никому не известен. Вы должны понять, что я изменяю всё направление мысли и морали, существовавшее почти две тысячи лет. Я замыслил нечто очень серьёзное… Ах, если бы до нас дошли сочинения Зенона[245] и Антисфена!.. Ну, да ничего… Имейте в виду, что старуха пыталась прельстить меня. Я сам поощрил её тем, что оказывал ей самое целомудренное внимание. В том-то и заключается постыдная сторона всей этой истории. Мне просто было интересно увидеть, как она будет вести себя. Я думал, что тем дело и кончится.
— А чем оно кончилось?
— Меня удручает не моё моральное падение: мне жаль её дочери. Она — серьёзная девушка… Немного костлявая… Она разыгрывает роль перед самой собой и боится греха. Теперь я взвалил на себя всю ответственность. Ей безусловно следовало бы уйти в монастырь. Я ясно вижу, что с ней будет, если она не уйдёт в монастырь. — Он усмехнулся. — Знаете, я и той женщине на барже советовал постричься в монахини. Я начинаю совершенно уподобляться Святому Иерониму… Боюсь, что эта девушка, если падёт, то падёт низко. Говорил я вам, что она намерена спать со мной сегодня ночью?
— Не помню. Вы, кажется, сказали, что она костлява?
— Между прочим, я люблю её. Завтра я уеду в Падую.
— А сегодня ночью?
Бруно опустил голову, потом отхлебнул из стакана и сказал с весёлой беспечностью:
— А сегодня мы с вами сходим к женщинам. Быть может, вся беда в том, что я в последнее время был воздержан. Сегодня в первый раз за много лет… Но знаете, я не мог бы просто купить женщину. Мне понадобилось бы копаться в её душе — и вы видите, к чему это приводит.
— А она в самом деле очень костлява? — осведомился Герман меланхолическим тоном. — Вы не дадите мне её адрес? Если я войду в темноте, не зажигая свечи, она, может быть, примет меня за вас. У меня сердце нежнее, чем у вас. От вашего рассказа мне хочется плакать.
— Да вы же вдвое выше меня, — возразил Бруно. — Впрочем, если хотите, можете попробовать.
На один безумный миг план Германа показался ему великолепным выходом… Выходом из чего? Он закрыл глаза и сказал холодным, чётким голосом:
— Отец мой умер. Пятнадцать лет я не видел его, и вот месяц тому назад узнал о его смерти.
Он снова поник головой. И из всех воспоминаний тех детских лет в Ноле только одно ожило в нём в эту минуту — запах спалённых волос, когда Веста, жена Альбенцио, завивалась щипцами, и её манера при этом качать головой.
Шум внизу у лестницы усилился. Очнувшись от сонного оцепенения этого вечера без ласк, она подошла к дверям и посмотрела вниз. Лампа в нише освещала только полированные извилины перил, но женщина узнала громкий голос внизу и крикнула: «Впустите его». Потом, так как её не услышали, она повторила громче: «Пускай идёт наверх», поправила на шее тёплый жемчуг, отбросила складки юбок и выставила ногу вперёд — так, чтобы видна была лодыжка.
— Да он пьян, госпожа, — донёсся снизу грубый голос. — И привёл с собой ещё кого-то.
— Пускай оба идут наверх, — сказала женщина ровным, размеренным голосом. — И не шумите.
Она полюбовалась своей обтянутой шёлком лодыжкой, жался, что никто не увидит её в этой позе, ибо она не была намерена дожидаться посетителей на площадке. Здесь, в этом маленьком освещённом гроте над погруженной во мрак лестницей, она казалась себе заключённой среди бесчисленных зеркал, славивших её красоту. Мрак колебался, звеня своими эбеновыми зеркалами, сверкая подступавшими всё ближе колдовскими глазами, в то время как мужчины поднимались по лестнице к ней наверх. Мрак душил её, опутывая облаком чёрного шёлка. Она спаслась бегством обратно в свою комнату, где Иисус с картины в золотой раме благосклонно взирал вниз, на широкую постель. Спорящие голоса настигали её, щекотали, как прикосновение к телу колючей мужской бороды.
Спотыкающиеся шаги и сердитые голоса приблизились, дверь, только что закрытая ею, с силой распахнулась. Но к этому времени женщина успела уже сесть на кровать. Её платье из Дамаска, обшитое золотой бахромой, расстилалось вокруг неё, как стихия наслаждения, и казалось, что розы Дамаска цветут на её щеках, в тёмной меди волос, в тёплых золотистых зрачках, ещё светившихся испугом, который она выдумала для собственного удовольствия, и тревогой более глубокой, о которой она не подозревала. Мужчины, остановившись у дверей, видели перед собой пышную фигуру, перетянутую шестью золотыми шнурами, каждый в два дюйма шириной[246], — женщина предстала их ослеплённым взорам, словно защищённая золотой решёткой, издевавшейся над их тощим карманом.
— А она поёт? — спросил Бруно, понизив голос, словно говоря о каком-то чуде, о морской сирене в клетке. Женщина задвигалась, и он увидел край её красной камлотовой нижней юбки, также обшитой золотой бахромой. Мелькнул шёлковый чулок телесного цвета. Запах её духов разжигал кровь. Бруно видел качающиеся серьги и медно-рыжие волосы, уложенные в обычную причёску венецианок — два рога над лбом, а остальная масса волос завита и зачёсана назад. Видел жемчуга на шее, золотую цепочку с большим красным камнем, её лицо, обрамлённое высоким воротником из накрахмаленных кружев, открытую полную грудь, тугой корсаж. Ему пришло на память выражение Аретино[247]: «Поэт — ваятель чувств».
— Это синьора Лукреция Фракастро, — сказал Герман и икнул.
— А кто ваш приятель? — спросила Лукреция своим мягким, заискивающим голосом.
Бруно выступил вперёд.
— Я отвечу вам сам. У меня много имён, но ни одно не объяснит вам, кто я такой. Проще будет сказать со всей скромностью, что я — величайший из людей во всём мире.
— И это совершённая правда, — восторженно подхватил Герман. — Он великий человек! И я тоже рассчитываю когда-нибудь стать великим.
— А чем вы замечательны, синьор со множеством имён? — спросила Лукреция, ласково усмехаясь.
— Я — первый человек, который до конца постиг устройство Вселенной, — сказал Бруно. Волосы упали ему на лоб, он отбросил их назад и при этом покачнулся. — Не хочу хвастать, но факты отрицать невозможно. В моих сочинениях я писал о себе так: «Ноланец — гражданин всего мира, ибо для истинного философа всякая страна — отечество. Ноланец — сын матери-земли и отца-солнца. Оттого что он любит мир слишком великой любовью, его удел — терпеть ненависть, проклятия, гонения, быть отверженным в этом мире. Но до самой своей смерти, перевоплощения, изменения да не будет он нерадивым и праздным в жизни».
— И как же устроена Вселенная? — спросила женщина без всякого недоверия в голосе, всё так же ласково усмехаясь.
— Я объясню вам это в двух словах. — Бруно сделал порывистое движение и опять пошатнулся. Герман, который тем временем уселся в кожаное кресло, захлопал в ладоши. Бруно отвесил ему поклон и повернулся к куртизанке: — То, чему учат все школы, университеты, лютеранские и католические священники, философы-эзотерики[248] и прочие и прочие, — оказывается полнейшей и бесчестной ложью. Кое-кто из древних был близок к истине, и великий Коперник[249] навёл меня на правильную мысль, которую я теперь и отстаиваю. Звёзды — это Солнца. Их бесконечное множество. Земля вращается вокруг Солнца, а Луна — вокруг Земли. На остальных бесчисленных планетах, которые вращаются вокруг бесчисленных солнц, несомненно, живут другие породы людей, то есть существа с достаточно развитым умом, чтобы постигать связь между причиной и следствием.
Лукреция пристально посмотрела на него.
— Вы бы лучше не говорили таких вещей. — Она нахмурила брови и бросила взгляд на закрытую дверь. — Вас убьют.
— Им необходимо убить меня, — отозвался Бруно ровным голосом. — Ведь говорил же я: ноланец любит мир так глубоко, что он отдаст за него на распятие не сына, а себя самого. Я пришёл в мир свидетельствовать истину.
— Вас убьют, — повторила женщина беспомощно и укоризненно.
— Вы умная, — сказал он, подходя ближе. — Мне до смерти надоели хнычущие бабы, Напрасно я бы стал искать обновления жизни в объятиях неоперившейся девственницы. Я хочу говорить с вами. Я ещё многое расскажу вам о себе. Я один способен примирить враждующие между собой секты безумцев, которые превращают в ад наш чудесный мир. Я могу низложить и Христа и Магомета и поставить на их место прекрасногрудую Природу. Раздорам и ненависти, скрытым во всех религиозных кодексах морали, я противопоставлю простую правду всеобщего братства. Я могу преобразить идеи добра и зла, как дневной свет преображает неверные тени сумерек. Вооружённый знанием, приобретённым на практике и на практике проверенным, я смогу наконец осуществить мечту об единстве людей.
— Отныне у него есть ученик, — воскликнул студент. — Это я, бедный Герман.
— У вас должно быть много сторонников, если вы хотите всего этого добиться, — заметила Лукреция с прежним выражением доброжелательного интереса.
Бруно расхохотался:
— У меня только я один.
— И бедный Герман, — настойчиво напомнил студент.
— Впрочем, нельзя сказать, чтобы у меня не было никакой поддержки, — продолжал Бруно. — Вот, например, Генрих IV[250], французский король. Я возлагаю на него некоторые надежды. Это человек в моём вкусе. Он ровно ни во что не ставит все поганые секты сумасбродов, этот бич, христиан, у которых всегда наготове подходящий текст Священного Писания, чтобы оправдать всё, что есть гнусного в них самих. Этих суеверных скотов, которые оскверняют нашу прекрасную землю. Мыс Генрихом сумеем покорить мир и утвердиться в нём.
— Вы богохульствуете, — сказала боязливо Лукреция, изменяя своей напускной безмятежности. И, не чувствуя себя больше в безопасности, повернулась к картине, изображавшей толстого младенца Христа на руках у матери. Картина висела над кроватью, под балдахином из чёрного и малинового бархата, расшитого золотой парчой, с бахромой малинового шёлка с золотом.
Герман зевнул.
— Он окаянный грешник, это несомненно. Но какое это имеет значение? Люди поднимают слишком много шума из-за вечных мук на том свете. Я лично верую в предопределение.
— Кальвин[251] показал нам, к чему может привести абстрактная логика, — отозвался Бруно. — А жаль, что ада не существует. Он бы пригодился для таких людей, как Кальвин.
Служанка бесшумно принесла поднос с вином и поспешно удалилась. Мужчины начали пить и опять затеяли дружеский спор. Потом Герман задремал. Лукреция не сводила с Бруно широко раскрытых, испуганных глаз. Вначале она приняла его за самого обыкновенного пьяного хвастуна. Но потом он внушил ей мысль, что за его напыщенными фразами скрывается нечто серьёзное. Как знать, может быть, это какой-нибудь политический шпион на жалованье у Франции. Лукреция спрашивала себя, не следует ли ей пересказать своему духовнику его богохульные речи. Но затем решила не делать этого. Опасно впутываться в такое дело, как обвинение в ереси. Даже тот, кто только слушал слова еретика, уже компрометирован в глазах Святой Инквизиции. Духовник Лукреции был добродушный старый священник, который гладил её всякий раз по голове и бормотал: «Что поделаешь, жить же надо, жить же надо…» Лукреция всегда сердилась, когда при ней рассказывали о женщинах, совращённых священниками во время исповеди. Её духовник только гладил её, — а делал он это потому, что он такой добрый, ласковый старичок. Но когда дело шло о ереси, она даже ему боялась довериться.
Она опять внимательно уставилась на Бруно, удивляясь про себя безрассудству мужчин, которые под влиянием праведного гнева навлекали добровольно гибель на свою голову ради каких-то фантазий, ради слова, мысли.
— Но кто же вы всё-таки? — спросила она наконец. — Чего вы хотите?
Герман клевал носом. Крикливо-нарядная комната в мерцании свечей казалась призрачной.
— Окно надо бы закрыть, — заметила Лукреция, но не кликнула служанку. Она прилегла на малиновое шёлковое одеяло, и боясь этого человека и вместе с тем желая его.
— Я Джордано Бруно, — ответил он тихим, суровым голосом. — Друг покойного короля французского Генриха III[252], подлинного ценителя искусства. — Он достал из-под камзола тонкую книжку и подошёл к Лукреции. — Вот смотрите. — Непослушными пальцами перелистал несколько страниц, выбранился от нетерпения и наконец отыскал заглавный лист «Jordanus Brunus Nolanus de Umbris Idearum cum privilegio regis. 1582»[253]. Он опять стал перелистывать страницы, пока не отыскал три главы о мнемонике[254]. — Вот взгляните! «Посвящается Генриху Третьему».
Волосы опять свесились ему на лицо. Лукреция ощутила его горячее дыхание, кислый запах вина, но не отодвинулась. Она надеялась, что наступает желанная минута. Но Бруно рассеянно дотронулся до местечка между её грудями и, отступив назад, продолжал торжественно:
— Джордано Бруно. Также друг королевы Елизаветы Английской[255], девственницы поневоле. Я много раз беседовал с нею, и со знаменитым, ныне покойным, сэром Филиппом Сиднеем, умным, но прыщавым мужчиной, и с недавно умершим герцогом Виттенбергским, который, хотя и был лютеранин, но обладал философским умом, и с герцогом Юлием Брауншвейгским, которому я посвятил надгробное слово, вызвавшее всеобщее одобрение. Много у меня таких знакомств. Сейчас я помышляю о том, чтобы приняться за Папу. Говорят, новый Папа не так уж непреклонен. Ведь он на себе испытал превратности судьбы, участь бездомного изгнанника. Судя по некоторым признакам, он стоит выше предрассудков, обычных у людей его круга. Весть о смерти Папы Григория[256] отчасти расстроила мои планы. Но, обдумав всё, я пришёл к заключению, что, в сущности, эта перемена для меня — промысел Божий. Я поеду в Рим и спасу католическую церковь от разложения, которое началось в ней. Я использую её организацию, чтобы создать необходимую основу всемирного братства, а внутреннюю сущность её изменю так, чтобы она впредь держалась не пороком, неправдой и алчностью, а дружным единением и разумной справедливостью.
«Он пьян, — подумала Лукреция, — и попросту жалкий болтун. Но он мне нравится». Ей хотелось умерить его опасную дерзость, привлечь его к своим ногам. Забыв о страхе, она залюбовалась изгибом своего правого бедра на одеяле. Она сжала зубы и смотрела на «болтуна» сквозь полуопущенные ресницы. Она чувствовала, что готова кричать, если он сейчас не подойдёт к ней. Тело её трепетало, ожидая взгляда его рассеянных горящих глаз, как удара бичом. «Он ниже и слабее меня, — думала она, — я бы могла пригнуть его к земле». Она облизала пересохшие, вспухшие губы. Бруно чем-то напомнил ей Лакопо, который скоро войдёт, тяжело ступая, сутуля широкие плечи, а когда улыбнётся, видно будет, что у него недостаёт переднего зуба, и, войдя, он вдруг схватит её за плечо. Она снова поглядела на Бруно. Да, он в самом деле верит в то, что говорит. Он — сумасшедший. Она пыталась расстегнуть застёжку жемчужного ожерелья, чтобы, сняв, незаметно сунуть его под матрац.
— Ну… — произнесла она, и снова страстное волнение подняло её груди. Она была довольна присутствием Германа, храпевшего в кресле. По крайней мере, она не будет убита. В то же время ей хотелось, чтобы с ней произошло что-нибудь страшное.
Бруно встретился с нею глазами.
— У меня нет денег, — сказал он.
Она почувствовала облегчение. Её страх перед Бруно исчез. Она боялась теперь только одного — что войдёт Лакопо. Она дрожала, напряжённо и мучительно ожидая, что будет.
— Это ничего, — ответила она чуть слышно.
Он понял её слова только по движению губ. Снова мир заволокло туманом — и всё же Бруно почему-то не торопился. Он задал ей один вопрос, и она, ответив, сказала:
— Поскорее. — Затем, устыдившись своего нетерпения, добавила: — Боюсь, как бы он не проснулся. — Но Бруно уже вышел. Он постоял внизу, словно качаясь над краем тёмной бездны, слушая шум льющейся воды. Вернувшись в комнату, он увидел, что женщина роется в сумке Германа. Звенели деньги. Он шагнул к двери.
— Поди сюда, — сказала она тихо и хрипло. Бруно не обратил внимания на её зов. Услышал, что она бежит за ним. У двери она схватила его за рукав: — Я взяла только то, что принадлежит мне. Он мне должен эти деньги. Пойдём в постель, милый.
Он не улыбнулся. Он вдыхал запах её духов и пытался вспомнить их название. Она прижалась к нему:
— Я непременно хочу, чтобы ты… Я скажу тебе, почему… Я в тебя влюбилась…
Бруно спокойно и методически начал отрывать её пальцы от своего рукава.
— Я устрою так, что тебя убьют, — сказала она неожиданно грубым, резким голосом.
Бруно упёрся рукой в её шею и с силой оттолкнул её от себя. Он засмеялся и, выйдя из комнаты, стал спускаться вниз по тёмной лестнице.
Тита дожидалась его, сидя на ступеньках, освещённая дрожащим огоньком свечи. Он чуть не задохнулся от свирепого желания ударить её, но не сказал ничего. Только зло усмехнулся и стал подниматься наверх. Тита смиренно пошла за ним. Они вошли в его комнату. Её бледное лицо и широко раскрытые, неподвижные, как у слепой, глаза раздражали Бруно.
— Видите, л напился, — сказал он грубо. Она ничего не ответила. Он понял, что эта девушка настолько одержима тем, чему она посвятила себя, что ничто другое для неё не существует. Это его испугало. — Я пьян, — повторил он неуверенно.
На этот раз Тита его услышала.
— Всё равно, — отозвалась она, стоя неподвижно, с опущенными вдоль тела руками.
— Нет, это далеко не всё равно, — возразил он, и на миг сквозь пьяный угар пробилась мысль. — Впрочем, вы правы, и это тоже не имеет значения. — Он снял камзол, дёргая шнурки, рывком стащил штаны, застрял головой в вороте шёлковой рубахи. Тита и не шевельнулась, чтобы ему помочь. Она выскользнула из платья, надетого прямо на тело, улеглась и ждала.
— На мне больше ничего и не было, — сказала она шёпотом. — Я ждала тут, пока все не легли спать. Потом я сошла вниз и села на ступеньках. Мне было так страшно… ведь кто-нибудь мог меня застать там.
Бледность и решительное выражение, эта вдохновенность жрицы, выполняющей священный ритуал, так изменили её лицо, что, бросив на неё беглый взгляд, Бруно едва узнал её.
— Ну, вот и исполнилось ваше желание, — сказал он, ложась рядом с ней и натягивая на себя простыню. — Я хочу спать. Со мной вы в полнейшей безопасности. Я вас не трону.
Она заплакала:
— Я сама не понимала, что говорю.
— Вы и теперь не понимаете.
Он ощущал великолепную уверенность в себе. Лежать так всю ночь и вести этот бесцельный разговор — что могло быть приятнее? Страстное возмущение кипело в нём.
— Пожалуйста, не сердитесь на меня…
— Ну конечно нет. Усните. А перед сном помолитесь, если вы привыкли это делать.
Тита с минуту лежала молча, потом всхлипнула и придвинулась совсем близко.
— Вы меня больше не любите?
— Люблю, разумеется. Я пришёл сюда прямо от одной знакомой, у которой был в гостях. Это куртизанка… Лукреция… забыл, как дальше.
Тита отшатнулась от него, вскочила с постели.
— Покойной ночи, моя маленькая девственница, — сказал Бруно.
Её длинное, тонкое тело сверкало белизной в свете свечи, которую она забыла потушить. Только сейчас, когда волосы её были распущены, Бруно заметил, какие они длинные. Она плакала, ощупью, как слепая, разыскивая своё платье. А Бруно любовался грациозными движениями её тела, как будто это было зрелище, танец, который будет длиться вечно. Когда Тита наконец нашла платье и неловкими движениями попыталась надеть его, но, не сумев, выбежала из комнаты с платьем в руках, Бруно стало жаль, что это кончилось. Ему хотелось ещё немного полюбоваться её движениями. Впрочем, ему очень хотелось спать.
VII. В Падуе
Приятно было бродить по улицам Падуи. Чуть не на каждой улице встречались сводчатые арки, иногда только на одной стороне, иногда на обеих. Арки эти были высотой футов[257] в двенадцать, шириной — в пять. Каждая поддерживалась тремя колоннами из нетёсаного камня. На улицах Падуи прохожие могли не бояться, что промочат ноги; разве только на какой-нибудь оживлённой улице, запруженной народом, вы рисковали, что вас столкнут с тротуара в глубокую грязь узкой мостовой. Крытые сводчатые галереи, соединявшие между собой дома, придавали городу своеобразный вид. Здесь совершенно не замечалось разнообразия архитектуры, как во Флоренции или Венеции. Те немногие декоративные украшения, какие встречались у зданий, не шли далее первого этажа, и фасад обычно украшали только группы небольших окон — от двух до пяти. Новые течения в архитектуре последнего столетия мало отразились на Падуе. Только упростилась форма амбразур[258], верхняя часть окон расширилась, и готические, стремящиеся в небо стрелы перешли в классическую сладостную округлость линий, мирно возвращающихся к земле.
Бруно шёл по узкому извилистому переулку, едва ли замечая грязь. Три девушки в покрывалах, закрывавших голову, грудь и спину, прошли мимо него под безмолвной охраной старухи. Из-за угла вышел мужчина в чёрном одеянии, видимо, только что из церкви, так как он всё время демонстративно вытаскивал из-за ворота какие-то образки на тесёмке и набожно целовал их. Бруно перешёл через улицу и направился вниз по Виа Портелло к воротам. Ворота как будто приветствовали его, это был голос из прошлого, ободряющее напоминание о том, что были некогда времена иные, чем нынешние, христианские: это чувствовалось в стиле Римской триумфальной арки с двойными колоннами и чрезмерным обилием украшений. Она была слишком тяжеловесна по замыслу, больше похожа на туннель, чем на арку, знаменующую собой освобождение. Но Бруно арка нравилась. «Было время, когда людей, при всём их несовершенстве, объединяло стремление к достойной и справедливой цели, — подумал Бруно. — Такое время опять наступит и даст более надёжные результаты, ибо знания людей будут основательнее. А в этом есть и моя заслуга».
Он прошёл по мосту на другой берег. Здесь начиналась дорога в Венецию. Проезжали туда и обратно крестьянские телеги, с грохотом промчалась карета, обитая зелёной кожей, подбрасывая на подушках сидевшую в ней высохшую разряженнуюстаруху. В Венецию… Почему он вздохнул? Что оставалось в Венеции такого, к чему влеклись его мысли? Девушка, которой он никогда больше не увидит, потому что с его стороны было преступлением вторгаться в её жизнь? Надоедливый аристократ, пристававший к нему с глупыми вопросами, хотя временами он и проявлял поразительное проникновение в истину. «Тита, конечно, уже успела забыть меня, — упрямо твердил себе Бруно. — А Мочениго будет возиться с перегонным кубом или снова займётся коммерцией».
Однако у него было такое чувство, словно он что-то оставил незаконченным. Это его не удивляло. Был ли в его жизни хоть один законченный эпизод? Всегда скитания и треволнения, всегда не хватало денег, не хватало и времени на чтение, на творчество. И всё-таки он много читал и успел написать свои книги, а теперь он был снова в Италии и надеялся на завершение своих исканий. Оттого-то, верно, незаконченный эпизод в Венеции глодал его мозг и душу, тогда как прежде ему всегда бывало легко рвать с людьми и искать новых связей и возможностей.
В то время как он стоял у дороги, мимо проезжала верхом компания дворян, направляясь, вероятно, в какое-нибудь загородное имение поохотиться. Среди них было несколько дам, одетых так же, как и мужчины, отличавшихся от них только головным убором да тем, что камзолы у них были с перехватом под грудью и в талии. На них были шаровары для верховой езды, по испанской моде открытые на коленях, из атласа или шёлка телесного цвета, сидели они на своих лошадях и мулах ловко и непринуждённо. Разрезные рукава камзолов были подбиты шёлком ярких цветов; тонкие шёлковые чулки на стройных ногах придавали кожаным сапогам со шпорами особую выразительность, и Бруно невольно испытывал чувственное волнение, глядя на эти изящные, маленькие ножки, которые способны до крови вонзать шпоры в бока лошади, ножки, равнодушные к страданиям животного. Он заметил коралловые пуговицы на камзоле ближайшей к нему дамы, небольшой рюш вокруг шеи, длинные перчатки из какой-то мягкой серой кожи. Это была миниатюрная женщина, весьма элегантно одетая, с непокрытой кудрявой головой. Дама сидела на высокой и сильной лошади, и это ещё подчёркивало её миниатюрность. Она болтала с двумя дамами, ехавшими рядом; на одной была фетровая шляпа с пером, на другой — золотая сетка. Маленькая дама, улыбаясь, обернулась и бросила рассеянный взгляд вокруг. У неё было овальное лицо, такого типа лица рисовал Луини[259]. Ей попался на глаза стоявший у дороги Бруно, и сразу же что-то заморозило улыбку. Лицо дамы приняло надменно-безучастное выражение. Она не нахмурилась, она и бровью не повела, она просто взглядом уничтожила этого человека и лёгкой рысью проехала мимо, наклонясь вперёд, свободно сидя в отполированном седле. Бруно видел теперь только мелькание хвоста, которым лошадь обмахивала себе разгорячённые бока. Густой женский аромат, смесь амбры, розовой воды и венериной соли, ударил ему в лицо. А там, дальше, по другую сторону дороги он видел нищих у моста и пьяного крестьянина со свежим шрамом через всю левую щёку, стоя храпевшего у забора.
Бруно обещая Виченцо Пинелли посетить его. Он уже побывал как-то раз в доме Пинелли, где собирался весь цвет падуанского просвещённого общества, и познакомился там с ближайшими друзьями Пинелли, господином Перро, образованным и галантным французом, и Мармо Гетальди, очень способным математиком из Рагузы. Бруно убедился, что невозможно избежать встреч с людьми с тех пор, как его имя приобрело известность. Он и раньше любил встречаться с теми, с кем можно было завести учёный спор, кто мог обогатить чем-нибудь новым его запас знаний. Но сейчас он избегал общения с кем бы то ни было. Пинелли и его друзья были славные люди, образованные и всегда готовые помочь. Но Бруно в его нынешнем настроении они не интересовали. Пинелли обещал пригласить сегодня Аквапенденте, знаменитого врача и анатома, — и Бруно сказал, что в таком случае он предложит на обсуждение некоторые свои идеи касательно оптических явлений и функций крови. Пинелли захлопал в ладоши — он всегда легко воодушевлялся — и стал уверять, что Аквапенденте будет в восторге, что он почтёт за честь беседу на подобные темы с человеком такой репутации, как Джордано Бруно.
Завернув за угол, Бруно встретил человека в одежде пепельного цвета. Такая одежда называлась «беретино», её носили по обету. Иногда обет носить одежду покаяния давали во время тяжкой болезни. Но в данном случае пепельный цвет указывал на обет человека, желающего искупить смертный грех. Бруно захотелось остановить этого человека и спросить у него, что он сделал. Но человек прошмыгнул мимо него с пристыженным видом, сгорбившись. «Покаяние, — подумал Бруно, вспомнив своё собственное изречение, — есть памятью высоком уделе человеческой души, вот что такое покаяние». Эта фраза, когда он написал её, показалась ему замечательной, но что она, собственно, значит? В новом своём настроении он был беспощаден к красивым фразам, не имеющим чёткого смысла, прямого приложения к действительности. Однако эта фраза, хоть и раздражала его, но упорно не выходила из головы. Каков же его собственный удел? Эта грязная улица, взгляд нарядной дамы, как удар кнута по лицу, вшивые нищие. Он обладает знаниями. Но он не доверял больше знаниям бесполезным, не имеющим конкретного применения. Те вспышки экзальтации, что освещали ему мрак жизни в Лондоне, когда он писал свои «Переселения героических душ», теперь представлялись ему слабо мигавшим огоньком мелкого самодовольства.
Он дошёл до дома Пинелли. Показалось, что он слышит голоса изнутри. Голоса беседующих людей — людей, уверенных в прочности всего в мире, в прочности своих взаимоотношений с этим миром. Ему, Бруно, с ними не по пути. Горечь снедала его, но в конце концов с горечью этой смешался порыв искреннего воодушевления, как смешиваются голоса мальчиков, поющих хором мадригал[260]. Он отвернулся и зашагал прочь от дома Пинелли.
Значит, она возвращается к нему, эта прежняя способность испытывать восторг, восторг, который рвётся из души, как песня сквозь заколоченные окна неприступного дома. Способность уйти от одного, всецело увлечься другим. «Я способен был и любоваться ягодицами мадам Кастельно и в то же время грезить о небе. Я не нуждаюсь в утешении».
Он хотел отвергать, но раньше, чем отвергнуть, нужно обладать. Он хотел держать мир в руках затем, чтобы можно было его отбросить. Наступит день, когда не нужно будет отрекаться от мира, ибо всё будет распределяться поровну, всё будет прекрасно. Но нелепо думать о том, что должно быть, только потому, что оно могло бы быть. Он, Бруно, занят настоящим. Он должен беречь Истину. Для него это — отречение и высокая цель. Это — его удел. Его епитимья и его радость.
Когда он поднимался по лестнице в комнаты, которые занимал вместе с Беслером, его радость уже исчезла. Он говорил себе, что ведёт себя по-детски, что не имеет права пропускать случай приобрести больше знаний. Называя приступ трусости громким именем «покаяние», он лицемерно искушает судьбу. Глубокое отчаяние охватило его, он чувствовал, что утратил последние остатки веры в себя. Ему приходилось иногда наблюдать, как другие люди — разочаровавшиеся учёные или побеждённые полководцы, — разбитые жизнью, укрывались в фантастическую и эгоистическую драму самоутешения, переоценивая все ценности только для того, чтобы объяснить простой факт их неудачи и отверженности. «Я погиб», — подумал Бруно.
Иероним Беслер сидел за столом, занятый перепиской. При входе Бруно он поднял круглое честное лицо со вздёрнутым носом и густыми бровями и посмотрел на вошедшего, близоруко щурясь.
— Вы не пошли к Пинелли? — спросил он. — Ведь это сегодня…
Бруно не отвечал. Он не мог солгать Беслеру, но и правды сказать также не мог. Он сам не знал, в чём эта правда.
— У меня есть причины… — начал он и не мог продолжать.
Беслер тактично занялся своей работой. Минуту-другую Бруно слушал скрип пера, бегавшего по бумаге. Оглядывал комнату. Две выдвижные кровати, грязные полотняные шторы, повсюду разбросаны в беспорядке книги, бумаги, одежда. Как эта комната непохожа на ту, которую Тита тщательно убирала для него! Он пытался думать о фразе, на которой прошлый раз остановился, диктуя Беслеру, и, чтобы припомнить се, постоял на одной ноге, как он всегда делал во время диктовки. Эта поза напоминала ему Титу, которая при нём несколько раз закладывала ногу за ногу и стояла так, прислонясь к двери.
— До какого места вы успели переписать?
Не поднимая глаз, Беслер прочёл вслух:
— «Те, кто говорят о чистейшей трансцендентности Бога, теряют путеводную нить. Бог проявляется в Природе и через неё. Поэтому изучение Природы никогда не приведёт к низменным или ложным выводам».
Бруно стоял и думал, а Беслер ждал, открывая и закрывая крышкой чернильницу.
— Учитель, — сказал он наконец, — можно мне задать вам один вопрос?
Бруно кивнул головой.
— Верно ли я заключил, что, сводя всё к динамическому единству, вы считаете всякие определения только логическими абстракциями, попытками удержать на месте то, что в действительности непрерывно меняется, всё, что относительно и настолько текуче, что не поддаётся никаким определениям?
— Да.
— Всё решительно определения?
— Да.
— Я считаю главным пунктом вашей философии следующее: признавая усилия мыслителей-аналитиков, вроде Николая Кузанского[261], вы, однако, настаиваете на том, что все абстракции растворяются в конкретном действии, которое и есть жизнь?
— Правильно.
— Следовательно, по-вашему, Бог — просто условный термин, абстрактное понятие, не более обоснованное, чем понятие о веществе или о времени?
— Я буду с вами откровенен, Иероним, — сказал Бруно, подойдя к окну и проведя ногтем по трещине в оконной раме. — С одной стороны, на ваш вопрос ответить легко. Я, конечно, не верю ни в какого личного Бога, ни в какого Бога-творца, не разделяю ни одного из детских представлений, нашедших себе выражение в религии. Моя цель именно в том и состоит, чтобы рассеять эти фантазии.
— Я не могу идти за вами до конца, учитель. — У Беслера от молитвенного благоговения даже округлились глаза. — Но я убеждён, что, если это всё — истина, у одного только вас достанет мужества… и философских знаний, чтобы утвердить её. Все эти вещи меня не страшат, когда их говорите вы… Но открыто признать их я не могу. Тут не только страх. Я не имею права… Но вы сказали, что на мой вопрос ответить легко только в одном смысле… а что же это за другой смысл, который затрудняет ваш ответ?
— Видите ли, мне не хватает определения для космической совокупности бытия.
— Natura naturans[262]. Чего же лучше?
— Нужно что-то, чем можно было бы заключить диалектический анализ. Начать его и завершить.
— Но Фома Аквинат[263]… он ведь начинает с утверждения, что некоторые вещи находятся в движении.
— Да, но это утверждение служит ему как бы мостом для перехода к предвзятой гипотезе, на основании которой сделаны все позднейшие формулировки. Однако вы заставили меня призадуматься… Всё начинается и кончается единством… предел сокращения и предел расширения… всё связывается движением. Значит, я ищу только диалектику движения? Видите ли, Иероним, я должен исключить всякое предположение о существовании Бога-провидения.
Поэтому я крепко держусь за формулу nihil ex nihilo fit[264]. Я отрицаю иерархичность, вытекающую из гипотезы, что жизнь берёт начало от некоего трансцендентного существа. Но я должен сохранить неприкосновенной реальность действия, созидания. Тут-то меня и начинает мучить неудовлетворённость. Постойте, я другими словами разъясню вам это.
— Хорошо, учитель, — с круглой, глуповатой физиономии Беслера смотрели на него, не мигая, наивные глаза. Бруно охватил порыв жалости к этому человеку, который шёл гораздо дальше других, но всё же был неспособен проникнуть в суть его учения. Эта жалость была жалостью к себе самому, и Бруно боролся с нею.
— Найти действительность можно только, выйдя за пределы своего «я». Но теперь я чувствую, что это неверно. Тезисы моего сочинения «Изгнание Торжествующего Зверя» всё время приходят мне на ум — в новом, более глубоком значении. Я стремлюсь уловить их смысл с точки зрения человеческого единства. До сих пор я видел выход в сознании космического единства, участия в жизни природы и подчинения её законам. Теперь же, закончив мои латинские стихи о физических загадках Вселенной, я вынужден возвратиться к вопросам морали. Я уже указывал в «Изгнании», что это для меня вопрос общественный. Но я не мог этот взгляд изложить в своём «Изгнании» и сейчас не могу его отстаивать. Почему, Иероним?
— Да, почему, учитель? — в смятении заморгал глазами Беслер.
— Потому, Иероним, что мне не на что опереться. Когда Лютер[265] восстал против папской власти, он сумел создать массовое движение. А Эразм[266], который был в миллион раз умнее Лютера и выше его во всех отношениях, был одинок и не имел опоры в действии. Для него это не имело значения, это был гениальный в своей иронии скептик. Ну, а я не таков. Я приношу в мир новый образ Истины, новое чувство ответственности, новое понятие о человеческом достоинстве, новую мораль, которая заключается в познании и служении обществу. Я не могу идти путями Эразма. Теперь я понял, что не давало мне всю жизнь покоя. Это — отсутствие у меня какой бы то ни было опоры в деятельности. Если бы я по крайней мере занимал какой-нибудь пост, как, например, Тихо Браге[267] в Дании, я, быть может, чувствовал бы, что деятельно участвую в жизни человечества.
— Но у вас есть ваши книги. В них вы говорите с равными себе.
— Это верно, Иероним. Мои книги дали мне нечто, чем я живу. Но сейчас мне уже нужно больше. Я хочу непосредственно создавать. А что мне делать в таком мире, как наш? Какие силы в нём имеются? Государи-еретики или схематики, вроде Безы[268] в Женеве, о которых и говорить не стоит. Амстердамские купцы. Крупные банкиры, начинающие завладевать миром, ибо большинство из них — добрые христиане-католики, а христианин, мой дорогой Иероним, это тот, кто находит для себя выгодным погубить душу, но приобрести при этом долю земных благ, — например, покорное насилию женское тело или меняльную лавку, набитую золотом.
— Вы суровы к людям, учитель.
— Да, я суров, Иероним. Какое место отведено мне в этом мире? Я — отверженный. Но истина, которую я свидетельствую, должна быть настолько могучей, чтобы я нашёл в массах большую поддержку, чем какой-нибудь безумец Лютер, иначе эта истина ничего не стоит и мир — сумасшедший дом.
— А Бог, учитель?
Беслер так живо чувствовал муку, переживаемую его учителем, словно слышал, как трещат кости, как гвозди вгоняются в тело: Он и сам больше не в силах был вынести напряжение, он чувствовал, что и лоб и ладони у него вспотели.
— Бог есть Бог… Призрак моего грядущего торжества… необходимое противоположение, абстракция с точки зрения моего мучительного настоящего… Гипотеза действия, которая ещё не может воплотиться в жизнь… всё отражено в зеркале космоса.
Наступило долгое молчание. Потом Беслер сказал:
— Я не успел записать это, учитель. Может быть, вы повторите?
Бруно провёл рукой по лбу.
— Я не помню, что говорил.
Студенты, их было двое, робко вошли в комнату. Бруно, сидевший на табурете у окна, встретил их улыбкой и пригласил сесть. Единственным местом для сидения была кровать Беслера, с которой Беслер, раньше чем уйти за вином, убрал книги и рукописи. Бруно старался заставить юношей разговориться. Сначала они стеснялись, но потом, выпив вина, которое принёс Беслер, стали словоохотливее.
— Зачем ты купил эту мутную гадость? — упрекнул Беслера Бруно.
— А чем не вино? — огрызнулся Беслер. — Не хуже всякого другого.
Молодые люди стали расспрашивать Бруно о винах Германии, о том, как живут немцы. А Бруно, чтобы подразнить Беслера, так карикатурно изобразил жизнь в Германии, что студенты выли от смеха.
— Это страна пьяниц, — говорил он, — где всё мобилизовано на войну живота. Щитами им служат тарелки, шлемами — горшки и котелки, мечами — обглоданные берцовые кости солонины, трубами — стаканы, кувшины и фляги, барабанами — бочонки и чаны пивоваров. Их поле битвы — трактирная стойка, крепостные бастионы — пивные и винные лавки, которых в Германии больше, чем жилых домов. Обжорство возведено в геройскую доблесть, пьянство включено в число высших атрибутов божества.
— Да целовали ли вы когда-нибудь девушку в Лейпциге под аркой из роз, осыпанных золочёным мускатным орехом? — спросил Беслер со смехом.
— Чтобы доказать вам, что я — философ a priori, такой же слепой, как все другие, — сказал Бруно, — я признаюсь, что цитировал только что некоторые свои суждения о Германии, которые я высказывал до того, как побывал там.
Студенты заговорили о девушках Падуи; Бруно осведомился, правду ли говорят, что падуанцы, в противоположность венецианцам, любят девушек с маленькими грудями, и поэтому падуанские девушки натирают груди соком платана, чтобы они оставались маленькими и тугими. Студенты не знали, правда ли это. Но один из них, высокий, красивый мантуанец, сообщил, что все его знакомые падуанки носят под юбками шёлковые или полотняные шаровары, а в Мантуе это не принято. Потом, воодушевившись, стал рассказывать, как он соблазнил одну девушку-еврейку. Это доставило ему массу хлопот, потому что дома евреев расположены вокруг общего двора, и с наступлением темноты все двери запираются. Таков приказ.
Второй студент, темноглазый, с бледным, болезненным лицом, во время этого долгого повествования о совращении еврейки, видимо, чувствовал себя неловко. Он пытался втянуть Бруно в спор о провидении. Но Бруно продолжал накачивать вином высокого студента и заставлял его рассказывать об университете. Студент утверждал, что решительно все студенты в долгу у евреев-ростовщиков, но к студентам евреи относятся вовсе не так уж скверно. Жизнь студентов полна забав и развлечений. Вот, например, сегодня утром он швырнул тухлым яйцом в одного обанкротившегося торговца, выставленного с оголённым задом у позорного столба. А на прошлой неделе он с товарищами ночью намалевали рога на дверях одного заведомого рогоносца. Вчера произошла дуэль, на которой убит один студент из Рима. Дуэли здесь — обычное явление, так как за них наказывают только изгнанием из города.
Наконец бледнолицему студенту, учившемуся в одном из восьми учебных заведений для неимущих, удалось обратить на себя внимание Бруно. Добродушный Беслер замолвил за него словечко:
— Знаете, он всюду поёт вам дифирамбы и твердит, что вы — величайший из современных философов.
— Что именно в моей философии вас увлекает? — спросил Бруно холодно.
Молодой человек замялся. Но в конце концов объяснил, что наиболее сильное впечатление на него произвела идея о роли Мировой души.
— Вы показали, что она находится одинаково во всём… Что тут не просто частица души в каждом предмете, а полное единство бытия… — Он опять запнулся. — Я хочу, чтобы вы знали, как я вам благодарен. Говорить с вами — это такая честь. Я не верил своему счастью, когда Томазо предложил мне идти с ним. Я знал, что он берёт у вас уроки… И мне бы тоже этого хотелось… — Он окончательно сконфузился, испугавшись, как бы Бруно не подумал, что он намекал на свою бедность только затем, чтобы попросить бесплатных уроков.
Бруно подошёл к груде книг в углу и вытащил одну из них.
— Вот сочинение Александра Некхама «О природе вещей», — сказал он. — Это любопытная старая книга. Вчера она попалась мне случайно на лотке букиниста. Некхам был для своего времени человеком образованным. Он англичанин, жил триста лет тому назад. Как видите, англичане не всегда были невеждами. Я вам сейчас прочту отрывок из этой книги… Том первый, страница семьдесят шестая. — И он прочёл вслух: — «О птице, рождённой из морских водорослей. Утверждают, что в силу каких-то таинственных законов природы эта птица происходит от морской травы, растущей в глубине моря. По её полёту моряки предсказывают погоду. Таким образом, эта дочь моря — невольная предательница, выдаёт сокровенные тайны своей матери. Море — символ мира. Мораль: птица, о которой идёт речь, — символ преходящего и крылатого тщеславия мира. Она символизирует собой состояние мира, который и тогда, когда он кротко улыбается, таит в себе страшную угрозу. Более всего он соблазняет тогда, когда даёт вам предательский поцелуй Иуды».
Бруно закрыл книгу, заложив пальцем прочитанную страницу, и поглядел на трёх слушателей.
— Вы скажете, пожалуй, что этот отрывок — попросту бессмысленная ерунда. Но подумайте: если человек создан стихиями точно так же, как морс и птица, следовательно, его понятия о нравственности не что иное, как отражение происходящих в нём органических процессов. А все остальные органические явления, одинаковые по своей сущности, являются выражением той же действующей силы. Следовательно, почему же свойства птицы и моральные иллюзии человека не могут выражать одну и ту же мысль Бога?
Он резко повернулся к бледному юноше.
— Не так ли?
— Да, — нерешительно ответил тот.
— Более того: если все явления таким образом связаны между собой, как выражения одного и того же основного начала, значит, любое из них может оказывать влияние на всякое другое. Если перемены погоды и падение нравов в Падуе суть проявления одной и той же vanitas[269], значит, несомненно, что гнусности любого сводника в Падуе могут навлечь чуму на скот в Пьемонте. Всеми этими явлениями, очевидно, управляет Мировая душа. Алхимия — единственная разумная наука или, вернее, метод исследования. Логика проста. — Он подошёл к окну и распахнул его.
— Словом, друзья, нам пора начать мыслить конкретно, вместо того чтобы тратить время на придумывание абстрактных категорий. А сейчас я был бы вам всем очень признателен, если бы вы оставили меня одного.
Бледный студент вдруг заплакал. Его товарищ опрокинул бутылку вина и стал извиняться. Бледный студент прокричал обрывающимся голосом:
— Ты изменяешь тому, чему сам учил, Иуда!
— У меня в голове всё спуталось, — вмешался второй. — И будь я проклят, если понимаю, о чём вы толкуете.
Наконец Беслер выпроводил обоих на лестницу и помог им сойти вниз. Когда он воротился в комнату, Бруно, всё ещё глядя в окно, сказал тихо, с болезненным усилием: — Не буду больше читать лекций в Падуе. Иероним, прошу вас, обещайте мне, что вы никогда от меня не отвернётесь.
Часть вторая
Предательство

VIII. Соглядатаи
Весеннее солнце разливало приятную теплоту в закрытом дворике. Прячась за миртовым кустом, мальчик молил Бога, чтобы павлин в соседнем саду опять не закричал. В тишине двора слышен был только скрип колодца да заглушённые крики с реки. Силки были расставлены под грушей, росшей у самой стены, и приманкой для птиц служил кусочек булки. Ах, если бы какой-нибудь голубь слетел вниз и попался в силки! Мальчик, сидевший на корточках за кустом, переменил положение и стряхнул комок грязи, приставший к его панталонам. Розы ещё не цвели. Мочениго пытался выращивать розы зимой. Но он только напрасно расходовал масло в лампах, которыми выгревали кусты.
Джанантонио устал дожидаться, пока в его силки попадётся какая-нибудь птица. Он прошёл между ржавых кипарисов в маленькую столовую. Одна стена представляла собой подобие скалы, сплошь выложенной редкими раковинами, привезёнными с Кипра. Мох между ними увял, потому что Мочениго не заботился о ремонте свинцовых труб, подававших воду в фонтаны. Он говорил, что велит снести всю постройку. Но Джанантонио надеялся, что он этого не сделает. Маленький домик был единственным местом, где он чувствовал себя дома.
Он прислонился к двери. Отсюда видна была груша и силки под ней, а скосив глаза направо, можно было увидеть, не стоит ли кто у дверей дома. Точёное лицо Джанантонио было хмуро и сосредоточенно, он насторожённо прислушивался. И всё же он не заметил, как пришла Пьерина. Такая уж у неё была повадка — появляться неожиданно. Эта массивная женщина двигалась удивительно бесшумно. Она так гордилась своими маленькими руками и ногами, что, кажется, совершенно забывала о массивности остального тела.
Пьерина стояла в дверях, уперев руки в бедра, с хмурой усмешкой на широком лице. Она и Джанантонио смотрели друг на друга недоверчиво. Но с недавних пор их объединяла общая ненависть к чужому, который вторгся в дом. Это новое чувство ненависти было так сильно, что оно сокрушило все барьеры антипатии, которую они питали друг к другу.
— Ну, поймал что-нибудь? — спросила Пьерина своим хрипловатым голосом.
Джанантонио мысленно отметил эту необычную любезность. Даже теперь, когда их отношения изменились к лучшему, он с трудом прощал Пьерине едва заметные усики, темневшие на её верхней губе.
— Это Бартоло сделал мне силки.
— Вот как! — отозвалась Пьерина, сохраняя свой величественный вид. В углах её полных губ сквозило лёгкое презрение. — Он не всегда так добр к тебе, а?
— Всю эту неделю он добрый, — сказал мальчик, таинственно понижая голос.
— А хозяин занят гостем, да?
Вражда между ними опять стала ощутимой. Оба некоторое время молчали. Потом Пьерина разразилась грубым смехом.
— Ладно, мне-то всё равно, что бы вы с ним ни делали. Пусть каждый сам выливает свой ночной горшок.
Джанантонио дрожал от ярости, от омерзения. Он не в силах был ответить ни слова. С дерева слетел воробей, направился было к силкам, чтобы поклевать хлеб, но передумал и, вспорхнув, исчез за стеной. Пьерина оправила своё поношенное тафтяное платье. В этом жесте была грубая простота, настолько поразившая Джанантонио, что он забыл о своём гневе. Он стоял, разинув рот, не сводя глаз с женщины. Почему-то вспомнился запах подгорелого хлеба. Вдруг захотелось узнать, какова она раздетая, очень ли она безобразна. Это нечистое любопытство сближало его с Пьериной больше, чем прежняя ненависть, когда он не думал о ней как о человеке. Он заметил, что она стоит, широко расставив ноги.
— Хозяин у него в комнате, наверху, — бросила Пьерина своим монотонным, хриплым голосом.
— Это неправда, что он умеет делать золото, — сказал злобно Джанантонио.
— Был тут другой, — продолжала Пьерина, упёршись ему в лицо равнодушно-презрительным взглядом. — Так, с год тому назад. Раньше, чем тебя взяли в дом.
— Он жил здесь? Откуда он взялся?
— Нет, он сюда не приходил. — Пьерина опять оправила платье, и Джанантонио с интересом посмотрел на её маленькие руки. У неё и в самом деле были красивые руки, и она их холила: они были белы и гладки, не то что её ненакрашенное лицо с нечистой кожей.
— Тот был не чета этому малому, который сейчас в доме. Того мошенника можно было уважать: он ловко обделывал свои дела. Его звали Мамуньяно. Жил он во дворце Дандоло и имел собственную охрану из пятидесяти лучников. Дож называл его Illustrissimo[270]. Во время карнавала он давал представления на площади Сан-Стефано. Его шесть мантуанских жеребцов выделывали славные штуки! Да… А потом у него начались неприятности с кредиторами.
Не знаю, что там случилось, но наш хозяин тоже пострадал. Дурак!
Пьерина рассказывала всё это однотонно, ни разу не повысив голоса, а кончив, с усмешкой посмотрела на Джанантонио из-под густых бровей. Этот взгляд говорил: «Ведь не посмеешь передать кому-нибудь то, что слышал!» И Джанантонио знал, что не посмеет. Он не решился бы на открытые военные действия, не решился бы раскрыть ту сеть интриг, которая опутала дом. О какой-нибудь пустячной вине Пьерины он мог бы всем рассказать, но повторить такие слова нельзя было. Ему тогда пришлось бы слишком многое объяснять.
Пьерина, видимо, понимала, что чем резче она будет выражаться, тем вернее заставит мальчика молчать.
— Он дурак, наш хозяин, — повторила она. — Его водил за нос один греческий купец, да и все его приятели. Потом какая-то девчонка высосала из него немало крон. Затем Мамуньяно. Потом некоторое время был только ты да мы с Бартоло — и мы его не обижали. А теперь появился новый мошенник!
В душе Джанантонио происходила борьба различных чувств. Эти сообщения ошеломили его, но вместе с тем усилили его ненависть к Пьерине. Он вспомнил, что болен, что он сегодня не завтракал. Он жаждал сочувствия от кого-нибудь. В то же время ему хотелось поощрить Пьерину, услышать от неё ещё худшие вещи о Мочениго. Хотя он и не сможет использовать её слова как оружие против неё, но уже одно то, что она их сказала, давало ему некоторый перевес.
— Он хотел делать золото, — сказал он с расстановкой и, сделав шаг назад, тотчас оглянулся, испугавшись вдруг, что наступит на силки, хотя они стояли далеко отсюда. Когда он снова посмотрел на Пьерину, что-то птичье почудилось ему в косом взгляде её карих глаз. Она глядела на него с жадным вниманием. Какая она толстая! Джанантонио невольно весь подобрался. Пьерина медленно смерила его взглядом. Потом вздохнула, и он увидел, как под платьем заколыхались полны жира. Теперь она казалась уже менее страшной. Он облизал губы и придвинулся ближе.
Пьерина заговорила первая:
— Он только потеряет то золото, что у него есть.
— Разве ничего нельзя сделать?
Пьерина с минуту обдумывала это предложение мира и союза, потом медленно покачала головой. Руки её задвигались, щёки как-то посерели и обвисли. Джанантонио испугался, что она заплачет или примется целовать его. Если она только дотронется до него, его стошнит! Ему показалось, что на верхней площадке лестницы стоит Бартоло, и он нечаянно резко бросил Пьерине:
— Ты нашила золотые блёстки на мой плащ?
Сразу же снова вспыхнула между ними привычная вражда. Пьерина с каменным лицом отодвинулась от него. И Джанантонио охватило такое раскаяние, что он почти готов был сказать ей, чтобы она взяла себе золотые блёстки. Но это было бы уже слишком, ему хотелось сохранить их для себя. А ещё больше хотелось заставить Пьерину нашить их на его плащ. В том, что он угодливостью добился от Мочениго приказа Пьерине сделать это, Джанантонио видел высшую победу над нею, и отказаться от этой победы он был не в силах даже для того, чтобы найти в Пьерине союзницу против Бруно. Но сейчас он сожалел, что под влиянием внезапного предчувствия опасности заговорил об этом в такую минуту, когда грудь Пьерины дрогнула под корсажем, когда он вдыхал запах свежеиспечённого хлеба, чуточку подгорелого, и земля уходила у него из-под ног, и он, казалось, уже на губах ощущал вкус наслаждения, напоённого терпкой горечью и похожего на тошноту; это было как острый запах зелени из сырого сада, как сладкий сок, сочащийся из раздавленной мякоти плодов, как аромат листьев, сгнивших до хрупкого скелета. Весь прошедший год, бурный и грозивший гибелью, вспомнился ему. Слова Пьерины «он потеряет и всё то золото, что у него есть» как будто объясняли, почему небо сейчас затянулось тучами, почему вокруг было разлито уныние, в которое врывались скрип колодца, песня с лодки — мирная, как далёкая линия горизонта, — плеск воды, льющейся из разбитого кувшина времени.
Минуты шли, а Джанантонио всё ещё испытывал волнение, ненависть к Пьерине и к этому чужаку, нарушившему его покой, опасение, что, быть может, они заодно и только нарочно делают вид, будто не замечают друг друга.
Он взял руку Пьерины, прижал её к губам и затем, весь красный от смущения, насвистывая, пошёл к дому. Он ещё видел перед собой лицо Пьерины со странной усмешкой, в которой было и презрение, и покорность, и испуг — да, испуг. Продолжая насвистывать, он вошёл в главный подъезд и стал подниматься по лестнице, водя тыльной стороной руки по кожаной обивке, с которой облезла позолота. На миг остановился, постоял, насвистывая, и пошёл к комнате на самом верху. Перед дверью этой комнаты он помедлил, прислушался. Потом стал на колени и попробовал разглядеть что-нибудь в замочную скважину. Но видны были только подоконник да часть полотняной шторы. Тогда он приложил ухо к скважине. Оттуда неприятно дуло прямо в ухо, но он скоро позабыл об этом, напряжённо вслушиваясь. Сперва он не разбирал слов. По-видимому, собеседники говорили оба разом. Голос Мочениго трещал и резал, как пила. Голос Бруно звучал глуше, некоторое время он гудел, как басовая струна виолы, затем поднялся до быстрого и внушительного стаккато[271]. Они рассуждали о свободе. «Какой свободе?» — спросил себя Джанантонио. В его короткой жизни было столько запретов, и свобода представлялась ему как возможность делать то, что запрещено. Поэтому для него, Джанантонио, было естественно думать о свободе, но чего ради эти взрослые мужчины, которым можно делать всё, что они хотят, затевают споры о свободе? «Будь я свободен, — подумал Джанантонио, — я бы первым делом купил себе сокола».
— Я освобождаю человечество из ада, созданного его воображением, — кричал Бруно. — Я завершаю дело Лукреция.
— В таком случае, — задыхающимся голосом перебил Мочениго, — вы защищаете свободу воли против проклятого учения Кальвина о предопределении и против эпикурейской безнравственности атомистов.
— Нет, нет. Я освобождаю только от ложных понятий. Человек просит хлеба насущного, а ему подают камень отвлечённых теорий. Я стою за реальность.
Дальше Джанантонио не расслышал. Но вот Бруно заговорил громче:
— Что за безумие принимать слова за реальную действительность! Что же, вы воображаете, будто факт вашего деятельного существования, вашего самоутверждения или саморазрушения сколько-нибудь изменится от того, скажу ли я, что воля ваша свободна, или что она подчинена предопределению? Ведь это только условные термины, определяющие состояние нашего духа. Есть энергия действенная, есть энергия бесплодная. Речь идёт об единстве, о столкновении противоположностей внутри единого, которое создаёт многообразие, развитие, создаёт нас, людей, и звёзды, и клопов, — всё в мире. Вот в чём дело, а никак не в словах. Наши слова и мнения не могут изменить действительность.
— «В начале было Слово».
— Никакого начала не было.
— Богохульник!
— Мир ваших пяти чувств — мир реальный. Выдумаете, пчела или муравей рассуждают о свободе воли и необходимости? А пчела несравненно ближе к Богу, чем человек.
— Что знает пчела об Иисусе Христе, своею кровью искупившем грехи мира?
— Ничего. И как вы можете сохранять своё чудовищное самообожание и веру в чьи-то муки во имя вашего искупления, когда вы знаете, что земной шар — просто мушиный след во Вселенной, среди бесконечного множества миров?
— Это кощунство! Кощунство! Церковь осуждает такие мерзкие бредни!..
Подслушивавший у двери Джанантонио услыхал грохот стула и понял, что Мочениго вскочил с места. Шум испугал мальчика, он отшатнулся от замочной скважины и встал с колен. Но дверь оставалась закрытой изнутри, и Джанантонио, осмелев, опять нагнулся к скважине и стал слушать. Говорил Бруно — торопливо, убеждающим тоном:
— Это самое я имел в виду, говоря, что пчела ближе к Богу, чем мы. Мы незаконченные творения, несовершенные, плохо приспособленные. Пчела ближе к идеалу пчелы, чем мы — к идеалу человека. — Он остановился и вдруг вскрикнул: — Боже, я начинаю понимать!..
— Что, что? — донёсся голос Мочениго, умоляющий, испуганный и вместе с тем такой радостный, что Джанантонио усмехнулся про себя.
— Человечества, собственно, ещё нет. Мы поднялись на одну ступень выше животных, прошли один этап развития, а второго ещё не нашли. Химический опыт ещё не закончился, мы в нём участвуем, как элементы, растворяющиеся и соединяющиеся в перегонном кубе. Процесс в самом разгаре. Когда он окончится, мы постигнем, в чём совершенство рода человеческого. Это и будет для нас свободой. Человеческой свободой. Но это также и необходимость. Ведь слова нужны мне только для того, чтобы освободиться от слов.
Наступило молчание. Слышен был шелест перелистываемых страниц. Мочениго, должно быть, сильно упал духом, он заговорил жалобным, хнычущим голосом:
— Учитель, не будьте ко мне слишком строги за то, что я не совсем понимаю вас. Вы говорите загадками. Я знаю, что тот, кто изучает тайные науки, должен быть бесстрашен, не должен останавливаться перед богохульством, когда это необходимо, должен поднять руку на Бога, как язычник Геркулес на Протея[272].
— На Протея. Да.
— Поэтому я принимаю вашу точку зрения. Но какие же результаты? Что это даст мне — человеку, стоящему здесь перед вами с определёнными нуждами и желаниями? Вот что вы мне скажите.
— Вы вправе задать такой вопрос. Иногда мне кажется, что вы не хотите понимать, что вы умышленно перетолковываете мои слова. Тогда я чувствую, что этим вы мне полезны.
— Благодарю вас, учитель. Можно мне поцеловать вашу руку? Помогите мне достигнуть того совершенства, о котором вы говорили, и мы поделим всё между собой. Мы заживём чудесно. У меня много планов…
Голос его дрожал. Задрожал и Джанантонио. Он испытывал такой страх, словно забрёл нечаянно в пещеру колдуна, где каждую минуту может появиться нечистый. Быть может, этот загадочный Бруно и есть сам сатана или какой-нибудь мелкий бес, явившийся, чтобы прельстить Мочениго продать свою душу? Минуту-другую Джанантонио был в таком смятении, что даже перестал подслушивать, но затем он услышал голос Бруно, высокий, звенящий:
— Вы должны сами понять, каким образом новая жизнь завладеет вами. Я не могу дать вам познание в руки, как яблоко. Вы должны стремиться к нему — и в этом стремлении измениться. Метапсихоз[273] — не более как пустая фантазия этого мага Пифагора[274], но она может оказаться для нас правдой: мы можем прожить много жизней. Можем опуститься до животного состояния — и можем жить в будущем, в золотом веке гармонии и совершенства. Мы можем выйти за пределы нашего телесного «я».
— Я знаю всё относительно ангелов. Я читал Фому Аквината и Дунса Скота[275].
— Пускай себе Фома решает вопрос, будем ли мы испражняться в раю или нет. Я говорю об опыте, о трезвой действительности, о превращениях материи и научной основе развития. Вам следует понять, что мысли суть мысли, как мухи суть мухи. Это не абстрактные атомы, возникшие в бесплотном мире логических категорий. Это — формы живой энергии, а энергия предполагает наличие материи. Мысли так же материальны, как внутренности человеческого тела, или цветы, или пироги. Они так же органичны, как цветок, или звезда, или морская волна. Мысли человека могут преобразить его плоть, ибо они — плоть его.
— Так же как экспериментатор может восстановить цветок из пепла…
— Это тоже просто детская аллегория, годная для богословов или старых дев. Даже я меняюсь здесь у вас на глазах, но вы не можете это видеть. Подумайте о том, сколько перемен произошло во мне за время моей жизни. Я был когда-то ребёнком, заточенным в тесном хаосе. Теперь я достигаю звёзд и состязаюсь со стихиями.
— Значит, вы верите в превращения?
— Разве я не умножаю себя в познании? Мои слова, вторгаясь в будущее, дадут семя, обильнее семени Авраамова. Мой завет имеет большую силу, чем его завет.
— Да, сила, могущество — вот что главное. Что вы сделаете без него со всей вашей премудростью?
— Я не отрицаю, что сила — главное. Я это утверждал и в моих тезисах. Но есть затруднения, которые вы не хотите видеть. Вы меня возмущаете. Проблему единства надо понять до конца. Вот где моё слабое место. Да, я признаю своё бессилие, я на нём настаиваю, ибо в нём — камень преткновения, мешающий решить всю задачу в целом. Есть единство космическое и есть единство Человеческое. Приобщиться к первому — высшее блаженство, и я с восторгом твердил об этом. Но теперь я утратил интерес к нему. Я хочу сперва постигнуть тот меньший космос, к которому принадлежу. Таким образом я найду верный путь для участия в общем движении…
— Да, да, учитель. И я тоже хочу вникнуть в таинственное движение всего, участвовать в нём. Это значит стать Богом. Держать Бога в руках… как кусок хлеба или пряник, обмакнутый в вино. Я начинаю смутно понимать всё. Мы должны добиться этого вне Церкви. Видите, я тоже способен на смелые речи. Церковь парализует, связывает, отводит всё в то русло, какое выгодно для её целей…
Бруно рассмеялся:
— Вы своеобразно понимаете всё, мой друг. То, что вы говорите, нелепо. Впрочем, может быть, не так уж нелепо, в конце концов… Во всяком случае, вы странно подходите к вопросу. Но в этом есть глубина, поражающая меня…
— Правда? — донёсся радостный голос Мочениго. — Так продолжайте же, учитель. Я больше не буду вас перебивать. И позвольте мне ещё сказать вам, что вы можете пользоваться моим гостеприимством до тех пор, пока вам будет угодно. Только дайте мне убедиться в вашей верности, — и у вас ни в чём не будет недостатка. Вы живёте в слишком строгом воздержании. Или ваше безбрачие — часть ритуального очищения? Если вам нужна женщина, вам стоит только сказать…
Джанантонио вздрогнул от ужаса: кто-то сзади навалился на него. Это была Пьерина. Он узнал её по упругой округлости тела, пахнущего апельсинами и миндалём. Она вытянула голову через его плечо и тоже стала подслушивать. Теперь Джанантонио хотелось уже поскорее улизнуть, но как сделать это без шума? Он спрашивал себя, слышала ли Пьерина последние слова Мочениго. Она жарко дышала ему в щёку и ласкала его рукой. Он представлял себе её противную, презрительную усмешку. Ему хотелось укусить эту женщину, но он не смел. Показалось, будто она от удовольствия мурлычет, как кошка, где-то в глубине её горла слышался глухой звук, похожий на мурлыканье, — или то был только шорох от движений её тела? В эти минуты тишины и мрака усмешка Пьерины, угаданная им, словно обволакивала его, будоражила, сливалась со страхом, шумевшим в его крови. Он сказал тихонько: «Вы мне противны» — и чуть не заплакал, вспомнив вдруг, как он в поле поддерживал тело матери, беспомощно обхватив его руками, а у неё изо рта текла кровь прямо на него, и никто не слышал её криков, спугнувших только птиц вчаще. По борозде прохаживался чёрный жук, не обращая никакого внимания на умирающую и перепуганного мальчика. И мальчик перестал кричать, только хныкал жалобно, следя глазами за жуком. Он слышал тяжёлое дыхание матери. Её надорванная костлявая грудь так быстро поднималась и опускалась… А жук пополз по его рваным башмакам, и никто, никто не приходил на помощь…
Платье Пьерины шуршало; Джанантонио чувствовал, что она неслышно смеётся, с трудом подавляя смех, наслаждаясь местью. В комнате опять зазвучали спорящие голоса, теперь они напоминали ворчание дерущихся между собой кошки и собаки.
IX. В книжной лавке
В книжной лавке Джанбатиста Чьотто было темновато, несмотря на то, что лавка находилась на Мерчерии, главной улице Венеции. Чьотто, мужчина лет тридцати, со смуглым весёлым лицом и привычкой в минуты волнения двигать кожей на голове и шевелить ушами, был уроженцем Сиены[276]. Знак над дверью в виде Минервы[277] указывал на те запасы мудрости, что хранились в лавке на полках и в сундуках. Чьотто не раз обещал своей жене сделать в лавке новое окно, побольше. Но ему нравилось подносить книги к окну, чтобы бутылочный зелёный свет падал на страницы, в то время как он, шевеля ушами, углублялся в чтение. Он любил за стаканом вина говорить о том, что, когда двигаешь кожей на голове, это способствует росту волос, доказательством может служить его собственная пышная шевелюра. И с жалостью говорил о людях, у которых кожа словно приклеена раз навсегда к черепу. Когда в лавке никого не было, Чьотто часто играл для самого себя на лютне, перевитой лентами, меланхолические песенки без конца и начала. В эти минуты его весёлое лицо принимало детское мечтательное выражение. Во всём остальном это был вполне современный, деловитый купец, гордившийся тем, что у него в лавке имеются все последние новинки.
Сейчас, сидя в лавке, Чьотто читал один из томов сочинений Кардано[278]. Он не только продавал, но и читал все поступавшие в его лавку книги. Рассказывали, что Чьотто не соглашается продать покупателю книгу, если он ещё не успел её дочитать, и лишился нескольких выгодных клиентов из-за того, что спорил с ними и доказывал, что они не правы. Чьотто любил своё дело и всё, что было с ним связано. И часто, урвав полчаса, заходил в одну из соседних книгопечатен и наблюдал, как там идёт работа. Ему нравились запах чернил и бумаги, щёлканье шрифта и шумная болтовня людей, которые верстали и раскладывали листья, скрип и стук печатных станков, беготня учеников, относивших каждый новый оттиск к корректору, который сидел на высоком табурете. Иногда в книгопечатне присутствовал и сам автор, если у него был договор с печатником на корректирование собственной книги. Для Чьотто привлекательнее этого места был лишь сыроватый полумрак и тишина его собственной лавки.
В настоящую минуту Чьотто сидел у окна, приятно подрёмывая над книгой Кардано и время от времени поглядывая на улицу.
«In cl. Ptolemaei Pelusiensis Iibros guatuor de Astrorum judiciis commentaria cum expositione H. Cardani, 1554». To было базельское издание 1554 года — первое издание сочинений Кардано. В сладкой полудремоте, в которую вплеталось воспоминание о маленьких ножках жены, лежавших в его руках, о запахе корицы, о губах, лепетавших ему что-то на ухо и обдававших его теплом, Чьотто пытался припомнить, какие имелись ещё издания Кардано. «Лионское 1555 года. И более поздние, по меньшей мере ещё два, — подумал он. — Но интереснее всего старые издания». Чьотто не увлекался ни астрологией, ни составлением гороскопов, но он всё же просматривал книгу страница за страницей и временами глядел в окно. Сквозь стекло мир казался зелёным, а прохожие, как рыбы, блестя чешуёй, ныряли в нём туда-сюда странными волнистыми движениями. Может быть, поэтому Чьотто улыбался в полусне. Мир представлялся ему в безобидно-чудовищных формах. Лица, которые он видел сквозь стекло, расплывались в широкой, сияющей, как маяк, улыбке или съёживались в мелкие морщинки недовольства. Тела то вытягивались в длину и качались, то сжимались, превращаясь в карликов, ковылявших вразвалку. Эту забаву с Чьотто не разделял никто, даже жена, которая больше всего любила стряпать.
Мысли Чьотто вернулись к ярмарке во Франкфурте, на которую он собирался ехать. Ему ужасно не хотелось оставлять лавку и Фиаметту, но, как дельный коммерсант, он понимал, что ради хорошего снабжения лавки товаром необходимо бывать на ярмарке и весной и осенью. Сейчас у него мелькнула в голове одна тревожная мысль, и он принялся считать месяцы. Если он поедет во Франкфурт попозже, в сентябре, вернётся ли он к родам Фиаметты? Надо будет попросить её высчитать, хотя он не очень-то был уверен, что в этих случаях женщины способны точно определить время.
Но через минуту он забыл о Фиаметте и её беременности, снова уйдя в размышления о Франкфурте. Здесь можно было найти книги всех более или менее крупных издательств Европы. Ему нравилась улица Книготорговцев. Она была даже лучше его любимой Мерчерии, потому что то была улица нескончаемых сюрпризов. Здесь тоже можно было сколько хочешь наблюдать, как печатаются книги, — книги, которые, может быть, когда-нибудь заслужат громкую славу. «А знаете, сударь, я наблюдал, как печаталась эта книга вся, от первой до последней буквы. Помню, например, как в чернила попал песок и испортил шрифт страницы пятьдесят шестой, — так, что её пришлось перепечатать снова».
Франкфуртская ярмарка происходила не в балаганах, как, например, Бергамская. Во Франкфурте почти при каждом доме имелся навес для лавки. Чьотто прохаживался по сверкающей Унтер-ден-Ренер — улице ювелиров; переходил мост с четырьмя арками, шёл мимо дома, который в течение двух недель был святилищем для всех, кроме разве отпетых бандитов; бродя по узким улицам, глядел на дома из строевого леса и глины на каменном фундаменте; заходил в кабачок пообедать, потому что жить на полном пансионе обходилось слишком дорого, и он только снимал комнату.
Потом ехал домой в Венецию мимо полей, засеянных капустой и картофелем, вёз сундуки, набитые книгами, и в каждой харчевне на пути жаждал распаковать и снова просмотреть свои покупки. Чем ближе он подъезжал к Венеции, тем нетерпеливее становилось желание увидеть Фиаметту, и когда оставалось всего несколько миль, он уже не понимал, как он мог быть таким жестокосердым, что ради ярмарки покинул свой дом и любящую жену…
Услышав, что кто-то вошёл в лавку, он со вздохом отложил книгу на деревянный прилавок у окна. Перед ним стоял прилично одетый господин, держа что-то под плащом. Чьотто решил, что этот человек только что побывал на рынке и возвращается домой со своими покупками. По рыбному запаху из-под плаща можно было догадаться, что среди покупок была рыба. Чьотто, как сиенец, всё ещё находил странным, что здесь, в Венеции, даже самые богатые люди ходят по рынку от лотка к лотку, закупая провизию в скудных количествах, и сами тащат домой покупки, вместо того чтобы нанять за медяк носильщика. Но Чьотто не подал виду, что слышит запах рыбы, исходивший из-под плаща посетителя: этого требовала учтивость.
Он поморгал глазами, в первое мгновение ошеломлённый вторжением постороннего в приятный полумрак его лавки, населённый смутными видениями. Казалось, этот человек проник сюда прямо сквозь трещину в зеленоватом стекле и своим появлением разбил вдребезги чары, вызвавшие на губах Чьотто безмятежную улыбку, рассеял подводный свет вокруг… Остался рыбный запах, и на нём сосредоточилось внимание Чьотто. «Фиаметта не принесла бы рыбы в лавку», — подумал он с возмущением.
— С тех пор как вы приходили сюда, прошло немного времени, — сказал он, узнав наконец посетителя и здороваясь с ним. — Так что новых книг пока нет. А вот книга, которой лет тридцать пять. Но, кажется, вы такими книгами интересуетесь.
— Почему вы думаете, что она меня заинтересует? — спросил Мочениго. — Покажите-ка. Гм… «Юдициарная астрология».
— В этом издании имеется гороскоп того… — Чьотто запнулся и усиленно задвигал кожей на голове, — того, кто рождён в Вифлееме. — Он снова остановился. — Вы как будто говорили, что вас такие вещи интересуют.
— Ничуть, — резко возразил Мочениго, торопливо перелистывая книгу. Затем, не читая, положил книгу на стол. Но не отнял руки от несколько потрёпанной веленевой обложки. Он втиснул в неё костяшки согнутых пальцев так, что книга перегнулась пополам. Чьотто заметил, что он сделал это бессознательно, и поэтому счёл неудобным указать на это столь высокопоставленному человеку. Но он не мог отвести глаза от руки Мочениго, неуклюже прижимавшей книгу к столу. Его это мучило. Он ни о чём другом не мог думать.
— Вы на Пасхе поедете во Франкфурт? — спросил вдруг Мочениго.
— Поеду, ваша честь. Не нужно ли приобрести там для вас что-нибудь?
Мочениго покачал головой. А Чьотто, который всё ещё не в силах был отвести глаз от пострадавшей книги, вмятой гостем в стол, продолжал болтать:
— В Лейпциге были столкновения между кальвинистами и лютеранами. И, как я слышал, смута перекинулась во Франкфурт. Бывший городской пастор посажен в тюрьму. Его беременная жена повесилась на крюке над кухонным очагом. Ей оставалось до родов только два-три дня, и роды начались, когда она вешалась. Жуткая история! Впрочем, может быть, она и приукрашена. Надеюсь, что это так. Во всяком случае я убеждён, что теперь там уже всё спокойно. И конечно, не будут допущены никакие диспуты, чтобы не помешать ярмарке.
Он пытался улыбнуться, но образ корчившейся на верёвке жены доктора Гундермана, — он теперь припомнил и фамилию пастора, — как-то переплёлся в его воображении с тем, что Мочениго тискал рукой веленевую обложку книги. Потом вдруг, к своему ужасу, он увидел, что у фрау Гундерман лицо Фиаметгы. Хотелось сказать: «Моя жена ждёт ребёнка, она сказала это мне вчера в первый раз. Это наш первый ребёнок». Но он не мог думать ни о чём другом, кроме скрюченных пальцев Мочениго.
Это было невыносимо. Чьотто протянул руку, ухватил книгу и освободил её из пальцев Мочениго.
— Я хочу прочитать тут одно место, — сказал он в виде оправдания.
Мочениго стоял смущённый, уставившись на свою руку, из которой вырвали книгу. Затем, словно не разобрав, что именно у него отняли, он вынул из-под плаща рыбу, завёрнутую в кусок тростниковой циновки, и посмотрел на неё.
— Не угодно ли вам положить сюда этот свёрток, пока мы будем беседовать? — предложил Чьотто, довольный тем, что можно переменить тему. Он указал на стол. Мочениго положил туда рыбу, а сверху свою шляпу.
— Чем могу вам быть полезен? — продолжал Чьотто, которого угнетало присутствие Мочениго.
— Значит, вы едете во Франкфурт? — повторил Мочениго, словно забыв, что Чьотто уже ответил ему на этот вопрос.
Чьотто утвердительно кивнул головой. В глазах Мочениго был какой-то жёлтый блеск, пугавший его. Он упорно думал о том, всё ли благополучно с Фиаметтой, и прислушивался, не донесётся ли какой-нибудь звук из глубины дома. Это было нелепо, — и, тем не менее, он испытывал страх.
— Вы должны мне помочь, — отрывисто пролаял Мочениго. — Во всём виноваты вы. Вы затеяли всё это дело.
Ошеломлённый, Чьотто не мог никак сообразить, что означает этот взрыв.
— Не понимаю… Я всегда с величайшим почтением относился к вашему роду. Я человек благонамеренный…
— Отлично понимаете, — яростно прокричал Мочениго. — Все меня обманывают, все против меня. Это вы первый заговорили со мной об этом Бруно, мерзком безбожнике, чудовищном плуте. Он меня вводит в расходы и ничего не даёт взамен.
— Нет, сначала вы со мной заговорили о том, что интересуетесь тайными науками, новыми учениями, — сказал Чьотто, немного осмелев. — Вы у меня спрашивали о книгах. А когда вы стали расспрашивать о Бруно, я вам сказал, что встретился с ним раз во Франкфурте в монастыре.
У Мочениго сверкали глаза, но он уже несколько овладел собой.
— Это всё равно, — буркнул он. — Вина будет установлена… Важно то, что он рассчитывает жить за мой счёт. Приехал и поселился у меня в доме, и я никак не могу от него избавиться. У него не было ни гроша. Я его кормлю, одел его, снабдил деньгами. А взамен ничего не получаю. Он болтает, болтает, но в этих разговорах мы всегда кончаем тем, с чего начали. Я прихожу к заключению, что он либо плут, либо помешанный.
— Я не давал вам за него никаких ручательств, — сказал Чьотто, испугавшись. (Что говорят о Мочениго? Он не то что разорён, но дела его далеко не блестящи. Никто ничего не знает наверное, но при упоминании о нём люди многозначительно усмехаются. Может быть, он сейчас попросту угрозами хочет вытянуть у него, Чьотто, деньги?) — Я только передал ему ваше поручение. Я никогда не говорил, что я знаю о нём что-нибудь, кроме заглавий его книг. Иоганн Вехель, владелец книгопечатни, отзывался о нём очень хорошо. А я его совсем не знаю…
Мочениго не дал ему докончить:
— Вы говорили, что он несколько месяцев жил в Эльге у Иоганна Гейнзеля?
— Так я слышал.
— Гейнзель посвящён в тайную науку. Значит, ясно, что этот Бруно — алхимик, делающий золото. Он говорит о своей книге «Великий ключ», которой никто не видел. Он скрывает от меня свои знания. Я так и думал. Он не шарлатан, он — лжец. Он хочет меня провести. Но это мы ещё посмотрим. Он изучает запретное. Он — мерзкий богоотступник.
— Вы всё это знали и раньше, — заметил Чьотто, окончательно испуганный. — Если, конечно, то, что вы говорите, верно.
— Ничего я не знал! — заорал Мочениго. — Я пригласил его сюда для того, чтобы он научил меня своей мнемонической системе, а между тем память у меня и теперь не лучше прежнего. Значит, он мошенник. У него на уме тайные планы. — Он вдруг пронзительно захохотал. — А вам известно, что я был асессором[279] Святой Инквизиции, а?
Чьотто кивнул головой и отступил на шаг, напрягая слух, чтобы уловить какой-нибудь звук из глубины дома. Как часто он ругал скрипучие нижние ступени и клялся их заменить. А сейчас ему страстно хотелось услышать их скрип и знать, что Фиаметта, здоровая и невредимая, ходит там, в недрах его дома. Мочениго продолжал:
— Несмотря на молодость, я достиг высокого положения, я ношу славное имя, но я не так богат, как следовало бы. Мы живём в трудное время, мир кишит выскочками. Я — добрый человек. Кто мне доверится, может на меня положиться, как на каменную гору. Но вся беда в том, что я слишком доверчив. Меня легко обмануть. А когда меня обманут, я гневаюсь, я сильно гневаюсь, Чьотто… Да, так что вы говорили относительно этой книги? Я имею в виду сочинения Кардано. Да, я много читал о нём. Его книги следовало бы запретить. Он в них возносил хвалу Нерону[280].
— Это была шутка. Он ведь и Подагре тоже возносил хвалы, — возразил Чьотто, боясь, что его обвинят в продаже еретических книг. Чьотто поселился в Венеции потому, что здесь власти сравнительно терпимо относились к книгам. Но обвинение в распространении еретической литературы могло погубить его и в Венеции.
— Есть вещи, которыми шутить не следует, — сказал Мочениго с мрачной сентенциозностью. — Как я уже говорил, я был членом Святого Трибунала и знаю, какие оправдания считаются приемлемыми. Неведение — веский довод, но он редко бывает правдив, и его ещё нужно доказать. Можно, пожалуй, простить человеку обмолвку или пустую шутку, сказанную под влиянием минуты или винных паров. Уважительной причиной можно считать также сильное душевное волнение, например смертельный страх, но никак не любовное безумие или отчаяние от потери близких. А книга пишется в течение многих дней, и высказывания в ней не могут подойти под рубрику «Lapsus linguae»[281], или «пьяная болтовня».
— Конечно, конечно, — смиренно и жалобно поддакнул Чьотто.
— Следовательно, Кардано нет оправдания. Когда я был членом Святого Трибунала, я очень серьёзно относился к своим обязанностям. Я отвергаю легкомысленную безответственность, столь обычную в наши дни. Она знаменует собой близкую гибель мира. Я ко многому отношусь терпимо. Но обмана не могу стерпеть и не стерплю. — Он уставил на Чьотто свои бегающие глаза, которые потемнели и расширились, словно от боли. — А вы какого мнения?
— О чём?
— Да об этом негодяе, разумеется. — В голосе Мочениго опять слышалось раздражение.
— Я не имею о нём никакого собственного мнения. Я знаю только, что его считают мудрым философом. Многие говорят о нём, как о неуживчивом человеке, но ко мне он всегда относился дружелюбно.
— Значит, вы с ним друзья. — Мочениго выдвинул подбородок, на котором сбоку бросался в глаза фурункул. — Пожалуй, я сделал оплошность, высказавшись откровенно, но что делать, я не умею хитрить. Вы, конечно, тотчас же помчитесь к своему другу рассказать всё, что слышали от меня. Ничего другого я от вас и не ожидаю. Я слишком доверчив и простодушен. Но, впрочем, меня тоже лучше не выводить из терпения. — Он деланно усмехнулся.
— Я ничего ему рассказывать не буду. Это не моё дело. — Чьотто задвигал кожей от усилий убедить Мочениго. — Вы — выгодный клиент и человек высокого рода. — Он попятился назад, и запах лежавшей на столе рыбы ударил ему в нос. На лестнице заскрипели ступени. «Слава Богу, Фиаметта сходит вниз». — Я знаю своё место, синьор. Этот Бруно — просто случайное знакомство.
Хоть бы Фиаметта, как она это часто делала, стала напевать, тогда он знал бы наверное, под кем скрипят ступени. Впрочем, кто же это может быть, как не Фиаметта. Фиаметта с их нерождённым ребёнком внутри. Чьотто думал о ней всё с большей нежностью. Ему так остро помнились её покорные полуоткрытые губы, вся она, тянувшаяся к нему. В эту минуту он как будто ощущал теплоту её тела. Он думал только о Фиаметте.
— У меня были кое-какие подозрения насчёт него, но так как я не знал ничего определённого, что я мог сделать?
— Ага, так у вас были подозрения?! — В голосе Мочениго прозвучало удовлетворение, торжество, но затем он заговорил тише, словно его что-то душило. Он расстегнул верхнюю пуговицу камзола, застёгнутого до самого горла. — Для вас будет лучше, если вы скажете правду. Можете, если хотите, передать ему то, что я говорил. Но не думайте, что я об этом не узнаю. — Он вплотную придвинулся к Чьотто и схватил его за плечо. — Я вам всё-таки доверяю. Я чувствую, что вы хотите услужить мне. Я редко ошибаюсь в людях. Именно потому я и становлюсь так опасен, когда бываю обманут. Мне понадобятся ваши услуги.
— Вам стоит только приказать. Всё, что в моих силах…
— Мне нужно, чтобы вы разузнали во Франкфурте, какая у Бруно там репутация. Узнайте, верят ли там в него, считают ли его надёжным человеком, который выполняет свои обещания. Разузнайте также, что говорят о нём и Гейнзеле и сохранил ли он связь с Эльгом.
Чьотто хотел спросить у Мочениго, какие обещания Бруно дал ему и, по его мнению, не выполнил. Можно будет пояснить, что, если он, Чьотто, будет знать всё, ему легче будет наводить справки. Но в выражении лица Мочениго было что-то, от чего слова замирали на губах Чьотто.
На мгновение он решил было предупредить Бруно — настолько глубокое отвращение возбуждал в нём Мочениго. Но в следующий момент осталось только одно желание — поскорее отделаться от своего посетителя. Его тянуло к Фиаметте, и он жалел, зачем отпустил на сегодня своего помощника. Лавку нельзя оставлять ни на минуту, а ему так хочется приласкать Фиаметту. Не кликнуть ли её сюда, когда уйдёт Мочениго?
— Я охотно это сделаю, — пробормотал он с лихорадочным нетерпением. — Сделаю всё, что вам угодно. Всё… — Он взволновался, уловив наверху, над лавкой, лёгкий шум. Может быть, Фиаметта ещё не вставала? Он запрет лавку и сбегает к ней, пусть соседи говорят что хотят.
— Всё, что вам угодно, — повторил он быстро, захлёбываясь, моля Бога, чтобы Мочениго наконец ушёл.
А Мочениго медлил, рассеянно перелистывал книгу Кардано, словно забыв о Бруно.
— Я возьму эту книгу, — произнёс он сухо. — Она для меня не представляет никакой ценности, но я хочу сделать кое-какие выборки, чтобы в сочинении, которое я пишу сейчас, опровергнуть утверждения этого субъекта. — Он перевернул книгу. — Она в списке запрещённых не значится?
— Конечно нет, — сказал Чьотто, хотя не был в этом уверен. — Разве я стал бы держать у себя книгу, запрещённую Святой Церковью?
Мочениго продолжал постукивать ногтем по страницам.
— На днях я прочёл забавную историю, — сказал он, насмешливо фыркая. — Из одного города варваров, высоко в Апеннинах, партия крестьян была послана в Ареццо[282] купить деревянное распятие, которое хотели повесить в церкви. Их направили к человеку, торговавшему статуями святых, и тот, видя, что имеет дело с невежественным мужичьём, решил сыграть с ними шутку. Когда они объяснили ему, что им нужно, он спросил, в каком виде им нужен распятый — живым или мёртвым. Тогда они посовещались и объявили ему своё решение: «Дай нам его живым, — сказали они, — а если тем, кто нас послал, это не понравится, они могут тут же убить его, вот и всё».
Он захохотал, голос его точно разбился на хриплые и грубые взрывы смеха. Чьотто, прикрыв рот рукою, на всякий случай делал вид, что смеётся тоже, не зная, как отнестись к этому новому обороту разговора. Мочениго перестал хохотать, опёрся о стол и водил глазами вокруг.
— Да, рано или поздно все мы умрём, — промолвил он серьёзно, как будто выражая этой фразой мораль рассказанного им анекдота. Взгляд его остановился на свёртке с рыбой, по которому ползала муха. Сквозь разорванную обёртку виднелся рыбий глаз.
— Мы едим для того, чтобы жить, — продолжал он. — Я заметил, что рыба хорошо действует на мозг. Память у меня быстро улучшается. Одно время я немного боялся за неё. Мне бывало трудно вспомнить, что случилось пять минут тому назад. Я беспокоился… А теперь это прошло. — Он вдруг устремился к двери и крикнул: — Джанантонио!
Мальчик появился на пороге и, сутуля плечи, застенчиво взглянул на Чьотто.
— Что ты делал там всё время?
— Ничего, — отвечал Джанантонио. — Вы ведь приказали мне дожидаться за дверью.
Мочениго вышел из лавки, оставив на столе и рыбу, и книгу Кардано. Чьотто кликнул обратно Джанантонио, который неохотно вернулся и взял покупки. Наконец лавка опустела, оставался только слабый, но навязчивый запах рыбы. Чьотто оглядел лавку, неуверенный, что всё закончилось. Затем вернулась тревога за Фиаметту, и он вышел через завешенную портьерой дверь в глубине лавки. Фиаметта с кувшином в руке шла по коридору чуть не на цыпочках, чтобы не обеспокоить покупателей. Чьотто сразу забыл все свои страхи, забыл, что хотел рассказать ей о только что пережитом. Он снова ощутил ту робость, которую внушала она ему со времени её беременности. Он не решался теперь обнимать и целовать её так, как прежде.
— Всё в порядке, милый? Тебе ничего не нужно? — спросила она, уходя в кухню.
— Нет, нет, — ответил разочарованный Чьотто и, вернувшись в лавку, стал ходить из угла в угол.
X. Карнавал
После говения началось веселье. По улицам уже ходили женщины в масках, переодетые в мужское платье. На площадках для игр, у которых останавливался Бруно, куртизанки играли с молодыми щёголями. Они были одеты в камзолы и панталоны светлых цветов — розового или голубого. Панталоны отличались от мужских какой-нибудь отделкой в женском вкусе — обилием лент или рядом блестящих пуговиц спереди, а часто и сзади. Неподалёку от Бруно какая-то пара, отсалютовав своими ракетками, начала новую партию. Некоторые женщины визжали, когда твёрдый мяч со свистом перелетал через верёвку, и, ударяя его резными ракетками, на которых были натянуты воловьи кишки, жаловались, что кожаные ручки ракеток больно натирают им ладони. Среди женщин попадались стройные, хорошо сложенные и подвижные, не уступавшие в ловкости мужчинам и даже иногда побивавшие их.
«Вот такими должны быть все женщины», — сказал про себя Бруно, наблюдая этих спортсменок и вспоминая женщин, запертых в душных рукодельных.
Жирная девка, игравшая неумело, громко взвизгнула: мяч угодил ей в живот. Она согнулась пополам, крича от боли, и при этом отлетели золочёные пуговицы на её панталонах сзади. Но женщина не заметила этого: она стояла согнувшись, держась за живот. А праздные зеваки вокруг громогласно отпускали замечания относительно надлежащего употребления ракеток.
На пьяццах, как всегда по воскресеньям и праздникам, молодёжь играла в «воздушный шар», разбившись на партии в шесть-семь человек. Игроки сбросили камзолы, и каждый надевал на руку деревянный обруч, усаженный заострёнными кверху шишками. Этими шишками они старались зацепить шар такой величины, как те футбольные мячи, которые Бруно видел в Англии. Венецианцы достигали в этой игре такого искусства, что гнали шар на сто шагов или заставляли его взлетать выше домов. Вокруг Пьяццы на стульях сидели знатные венецианцы и путешественники, знакомившиеся с городом, а за ними теснилась тысячная толпа простолюдинов, поощрявшая игроков громкими восклицаниями. Бруно заплатил мелкую монету и занял стул. Некоторое время он сидел и наблюдал. Над головами зрителей на высоких столбах бились на ветру два больших красных флага. Задремавшему на минуту Бруно показалось, что перед ним происходит сцена из какого-нибудь древнего мифа — борьба богов и гигантов за солнце, которым они перебрасываются, как мячом. Очнувшись, он встал и ушёл с Пьяццы.
Он поймал себя на том, что заглядывается на всех женщин, проходивших мимо. Почему-то казалось, что он встретит сегодня ту Лукрецию, у которой был ночью с немцем. Он плохо помнил, что произошло у неё в комнате, и, если бы он знал её адрес, он сходил бы к ней. «Как странно, что я живу аскетом, когда меня так влечёт к женщинам, — подумал он. — И в Венеции это ещё более странно, чем во всех других городах мира. Здесь стоит только протянуть руку… а я не могу её протянуть».
Улицы кишели гуляющими в маскарадных костюмах. Каналы были запружены гондолами, покачивавшими на своих подушках влюблённые пары. Отовсюду раздавались звуки лютни.
— На мне не осталось ни одного греха! — твердила нараспев полупьяная девушка где-то за спиной Бруно.
— Неправда, — возразил мужской голос. Слышно было, как они боролись, как тяжело и шумно дышала девушка. Потом она сказала:
— Что ж, это твой грех, а не мой.
— Скажешь это повитухе, — отозвался мужчина.
Обернувшись, Бруно увидел его широкие плечи и красную физиономию, мелькнувшие в окне… Рядом шёл матрос под руку с девушкой в зелёном плаще и говорил:
— В Турции никто не смеет одеваться в зелёное. Флажки, ленты, крикливо-яркие юбки, обнажённые руки и плечи, уродливые и смешные маски, кроваво-красные губы; длинные серьги, бубенчики, гирлянды вихрем кружились по улицам весь день. Мимо Бруно прошла девушка с причёской в виде двух сердец, соединённых вместе пронзавшими их стрелами. Вместо стрел в волосы были воткнуты веточки из алого шёлка.
Бруно чувствовал себя одиноким и чуждым всему. Он словно пытался устоять перед стремительным напором горного потока, перед разливом весны. Против чего он борется? Ведь не против же счастья всех этих людей? Он хочет видеть их счастливыми. Не против символов Пасхи? Ведь он тоже верует, что вся жизнь на земле — умирание и воскресение? Может быть, его смирение — лишь новая форма тщеславия, которое надо преодолеть, его целомудрие — лишь последнее искушение, через которое он должен пройти? Все эти вопросы настигали его, как бурливший вокруг поток жизни, переходивший в игру. Но то, что открывало беспечные губы для поцелуев и смеха, для него было лишь источником новых напряжённых размышлений. Не были ли его пьянство, его влечение к женщинам, его философия наглядным разрешением тех противоречий, которые изо дня в день терзали его? Бессвязные фразы мелькали у него в голове: «Я — Ирод, убивающий невинных младенцев». «Я — отверженное дитя, рождённое под звездой, указывающей путь». «Я — Гавриил, и из чресел моих выпорхнет сейчас стая голубей». «Я — Мария с благословенным чревом, и ничего мне больше не надо».
Отчего вокруг всё так гадко, низменно, несовершенно? Ему казалось, что все жесты и хохот направлены по его адресу. Он один среди этих веселящихся людей, и оттого их смех бьёт в него струёй, стрелы чужой воли впиваются ему в сердце. Чем он отличается от других людей? Он ест, испражняется, любит женщин, дышит, смеётся, плачет так же, как они. Посещавшие его мысли о космическом единстве не его личное достояние. А тело у него во всём такое же, как у людей, которые отвергают его и которых он благословляет, когда они произносят это отречение смеющимися губами. Или он околдован, обманут призраками, платоническими идеями, созданными его воображением? Если его мысли верны, они должны влиться в жизнь вокруг, влиять на эту жизнь, преображать её, управлять ею. А между тем он, Бруно, как будто живёт в мире призраков. Вот это теперь его мучило. С тех пор как он возвратился в Италию, эта мысль не давала ему покоя. Должно быть, он раньше надеялся, что стоит ему только вернуться на родину, как полностью осуществится всё, и он узнает дивную радость участия в общей жизни. Должно быть, пока он скитался в изгнании, он ещё способен был мириться с отсутствием такого единения, но на родной земле это стало для него нестерпимо.
«Надо будет усерднее работать над книгой, которую я предназначаю для Папы», — мысленно обещал он себе.
Он смотрел на девушку, которая поправляла подвязку, и только когда она, встретив его взгляд, покраснела, он вдруг очень удивился тому, что наблюдает за ней. «Вот оно, чудовищное безумие нашей стыдливости, — подумал он. — Почему мы прячем от дневного света себя таких, каковы мы в действительности?» Ему вдруг стала ясна связь между отвлечённым мышлением и чувством стыда, между стремлением вуалировать факты в мыслях и стремлением прикрывать тело. Он прислонился к стене и провёл рукой по лбу. Многому ещё надо научиться, от многого отвыкнуть. Ни одна мысль не потрясала его так, как потрясло новое открытие. Оно наносило удар самой основе общепринятого мировоззрения. Сколько ещё других ложных понятий, возмутительно уродующих жизнь, действует в человеке? Как их выявить и уничтожить? Для этого нужно долго — ох, как долго и терпеливо! — разбираться в их происхождении. Он наконец увидел в перспективе дело своё: увидел, как насильно возвращал жизнь назад, на утерянный верный путь, выворачивая наизнанку псе общепринятые теоретические понятия.
Но это объяснение его не удовлетворило. Абстрактные идеи, заблуждения не возникают сами по себе. Скрытый за ними закон надо обнаружить, это будет огромной услугой истине. Ибо такой двойной процесс отвлечённых размышлений и физического стыда и страха, должно быть, имеет глубже скрытые ответвления!
Бруно поймал какую-то девушку, столкнувшуюся с ним, и с исступлённой жадностью поцеловал в беззащитные губы. Девушка ударила его. То же самое сделала её подруга с напомаженными чёрными волосами. Бруно выпустил девушку и, шатаясь, вернулся к своему месту у стены. «Боже, наконец я выздоравливаю!» Он чувствовал в себе силы начать всё сначала.
Он вытащил из-за пазухи розовый шёлковый платок и отёр лоб. Снова перечёл надпись на платке: «Der Herr ist mein Trost»[283]. «Больше похоже на вышитый чепрак, чем на носовой платок», — подумал Бруно и вспомнил фрау Вольф в Виттенберге, которая со слезами подарила ему этот платок.
На одном из городских бульваров разыгрывалась маскарадная пьеса, но Бруно решил, что не стоит идти смотреть её. Мимо прошло несколько купцов, не обращая внимания на толпу. Бруно слышал, как они говорили между собой о квинталах[284] перца и корицы. Увидев перед собой в эту минуту двери какой-то церкви, Бруно пробрался сквозь толпу и вошёл внутрь. В церкви тоже было шумно и тесно, но он нашёл свободное местечко подле купели и прислонился к колонне, думая о том, что он узнал, когда наводил справки о новом Папе.
Кардинал Сан-Катро. Конклав[285]. Воскресное богослужение. Речь епископа Бергамского. Впрочем, результат выборов зависит главным образом от тех, кто снабжает кардиналов, собранных здесь, кто доставляет им все блага жизни, в то время как на них нисходит святой дух. Представители городов интригуют, наставляют своих сограждан. Остальные прелаты и послы насторожённо гудят вокруг.
Вторник, середина дня. Сан-Катро получает в одной урне двадцать два, в другой — двадцать восемь голосов. Выборы заканчиваются через двадцать три часа. Церемония преклонения. Папу ведут в капеллу Паулины, а оттуда — в собор Святого Петра, где он принимает имя Иннокентия IX.
В одном частном письме, в котором сообщалась эта новость, было сказано: «Всё произошло так быстро, что выбор этого Папы, совершенно очевидно, дело рук Божиих. Ну, а на земле ответственность за этот выбор должен нести кардинал Мендоса, глава испанской партии».
Новый Папа, Иннокентий IX, был хилый семидесятитрёхлетний старик, но можно было рассчитывать, что он проживёт ещё несколько лет. Человек он был миролюбивый, еретиков не преследовал. Он усыновил своего племянника, заботился о подвозе запасов хлеба в Рим, объявил, что истребит бандитов, которыми так и кишели папские владения, словом, начало было многообещающее.
Бруно устало поднимался по ступеням дворца Мочениго. Он знал, что сейчас опять начнётся всё тот же бесполезный спор между ним и Мочениго. Это было хуже, чем жить со сварливой женой. Словно в наказание ему за то, что он не сумел сохранить прочную связь ни с одной женщиной. Но в таком случае почему же он не уходит отсюда? Неудобно уйти от Мочениго и оставаться после этого в Венеции, а уезжать из Венеции ему ещё рано. Если он окончательно порвёт с Мочениго, то и Падуя, как часть венецианской территории, для него будет закрыта. Потому что Мочениго, несомненно, разозлится, а нищему философу ссориться с Мочениго на территории Венецианской республики опасно.
Да, переселившись в дом Мочениго, он связал себя с этим человеком и порвать с ним может только тогда, когда будет готов уехать окончательно. Пожалуй, не следовало ему возвращаться сюда из Падуи; но ему невыносимо надоело учить желторотых студентов. В один прекрасный день, когда ему вздумается, он просто-напросто, ни слова не говоря, выйдет из дворца, сядет на утреннюю баржу и навсегда покинет Венецию. Но пока необходимость пользоваться поддержкой Мочениго создавала между ними некоторую психологическую связь, которую Бруно уже принимал как должное. Связь эта вызывала у Бруно какой-то непонятный задор, который он с болезненным удовольствием ещё разжигал в себе. Выдали эта зависимость просто следствием необходимости или необходимость была только кажущейся, только предлогом, чтобы оправдать отношения с Мочениго?
Он отмахнулся от этого вопроса. Смешно спрашивать себя, не хочет ли он оставаться здесь с Мочениго. Но всё же в этом человеке есть что-то такое, что привлекает его. Даже тогда, когда Мочениго бывает ему ненавистен, он словно сулит ему переживания, по которым он томится. Но какого рода переживания? Ощущение близости, какого не может дать никакое женское тело, товарищеского единения, которого он не находил нигде. Как легко было бы стать добрым христианином, объявить мир греховным, твердить за Лютером и Августином[286], что общество — это Божья кара, это чистейшее зло и проклятие, но оно священно постольку, поскольку заставляет человека искупать свои грехи. По крайней мере, в таком мировоззрении всё ясно. Оно нравилось Бруно больше, чем неопределённые компромиссы и бесплодные споры, например, о том, от Бога ли власть царская или от людей? А если от людей, то есть ли она дар вечный и неотъемлемый? Пустые вопросы, конечно. Власть есть власть. И характер её меняется тогда, когда старую сменяет новая, а вовсе не под влиянием изложенных на бумаге теорий о том, как должен быть устроен мир. Впрочем, идеи имеют влияние, но не такое, как думают люди, порабощённые фальшивой логикой. «Вот эту задачу моя диалектика ставит и почти разрешает», — подумал Бруно. Гордость взыграла в нём, но её быстро сменило уныние. Он предвидел неизбежную ссору. «Нет, это я виноват, я пустой болтун».
Он заметил Джанантонио, который занимал наблюдательный пост на галерее, и направился к нему. Они были в хороших отношениях с того вечера, когда случайно остались вдвоём и у мальчика развязался язык: он рассказал Бруно о своём многострадальном детстве на маленькой ферме, о том, как мать его умерла, когда отец уехал на базар, и солдаты на лошадях потоптали им все посевы. Он убежал, а когда вернулся, мать лежала под плетнём, истекая кровью. Но она и до этого кашляла кровью. После смерти матери отец каждый вечер бил его, потому что дела шли плохо, особенно с тех пор как он задолжал священнику. Но однажды Мочениго увидел его на дороге и откупил у отца. Джанантонио не знал, сколько Мочениго заплатил отцу, хотя он и пытался подсмотреть сквозь щель в дверях.
— Как вы думаете, часть денег следовало получить мне?
— Не часть, а всё.
Джанантонио расчувствовался и, положив голову на колени Бруно, стал говорить о том, как ему противно принадлежать Мочениго.
— Но ко всему привыкаешь, — промолвил он с недетской серьёзностью, привлёкшей к нему сердце Бруно.
— Они вам наделают неприятностей, — предостерёг он как-то Бруно.
— Кто?
— Да эти трое. Они злые, скверные, — сказал Джанантонио, наморщив брови. — Если бы вы только знали, что каждый из них проделывает за спиной у другого! Я уже перестал их бояться. Мне теперь всё равно, что бы они со мной ни сделали. Пьерина, по-моему, хуже всех. Вчера она бранилась с ним из-за вас. Она говорит, что вы мошенник. А он вам нравится? — Нижняя губа у Джанантонио беспомощно задрожала.
— Нет, — ответил Бруно и ушёл размышлять наедине.
Сейчас он смотрел на Джанантонио, пока тот с оглядкой пробирался к нему, по дороге хватаясь рукой за выцветшие тканые шпалеры, которые шевелил ветерок. «Вот так он, должно быть, крался вдоль плетня, под которым лежала его мать, и видел, как лилась у неё изо рта кровь на костлявую грудь», — подумал Бруно. Ему вспомнилась женщина в придорожной харчевне, которой нечем было накормить его, когда он, смертельно усталый, остановил лошадь у её дверей. «Солдаты забрали последнего каплуна и последний каравай хлеба, — сказала женщина, — но я не могу допустить, чтобы вы легли спать не ужинав!» И она нацедила для него чашку молока из своих полных грудей. Славные груди, щедрые, как мать-земля. «В них молока хватает и для моего малыша и для чужих», — промолвила женщина, трясясь от громкого смеха, и рассказала гостю, как ей с месяц тому назад приходилось сосать грудь соседки, ребёнок которой умер. Молоко свёртывалось, и несчастной матери грозила смерть, нужно было как-нибудь освободить её от него. «Вот я и пила его. Первый раз набрала в рот и сразу выплюнула, ну а потом думаю: зачем же пропадать хорошему молоку?» Бруно вспомнил её большие налитые груди, великолепные в своём милосердии и бесстыдстве.
Он смотрел, как бледный Джанантонио крался по тёмной галерее. Бруно стал разглядывать рисунок на вылинявших шпалерах. Рисунок этот изображал беседку Армиды[287]. Казалось, воспоминания о жестокости и несправедливости, запечатлённые на бледном лице мальчика, стирали выцветший рисунок красивой беседки, в которой распевали искусственные птицы поэтической фантазии.
Бруно размышлял:
«Того душевного успокоения и ощущения надёжной связи с людьми, которых я ищу и которых не даёт мне ни логика Николая Кузанского, ни гибкое тело Титы, мне, конечно, не найти и в цепких руках этого красивого мальчика. И не потому, что я человек с предрассудками. Но всё дело в том, что я утратил всякое любопытство. Со мной делается что-то неладное, здесь я исцеления не найду».
Он отошёл в угол и прижался лбом к оконному стеклу. У него опять стало так тяжело на душе, что он чуть не заплакал. Джанантонио подошёл ближе, на его белом лице застыло напряжённое и хмурое выражение. В жаркие летние ночи (как он рассказал Бруно) ему приходилось сидеть у постели Мочениго и обмахивать его веером до наступления предрассветной прохлады. Если его одолевал сон, Мочениго начинал метаться от жары, просыпался, — и тогда Джанантонио ждала порка. Но он боялся только одного: чтобы Мочениго не отослал его обратно в деревню.
— Ты ел маринованные померанцевые цветы, — сказал Бруно, улыбаясь и вспоминая Титу, которая очень гордилась своими маринадами. Как это вышло, что он утратил способность враждебно относиться к людям? То, что он больше неспособен ненавидеть, — опасная слабость. Он перестанет остерегаться, может попасть в ловушку. Он видел, что Джанантонио опять хочет о чём-то его предупредить.
— А я поймал голубя, когда вас не было дома.
— Где же он?
— Пьерина его жарит.
— Вы с ней, кажется, очень подружились?
Лёгкая краска выступила на тонко очерченном лице мальчика.
— Нет…
Бруно погладил его по волосам. Ему было жаль этого ребёнка, которого так обидели и развратили. Страдания отдельных маленьких людей, которые случайно оказались в нашем окружении и за которых поэтому мы как бы несём известную ответственность, трогают нас бесконечно больше, чем страдания миллионов вне этого круга. Мир огромен, непонятно жесток, а мы во всём себя ограничиваем и тревожим себя мечтами о жизни в каком-то загробном мире.
Он положил руку на грудь Джанантонио и почувствовал, как сильно бьётся сердце мальчика.
— Ого! У тебя сердце прыгает, как у кардинала, который надевает чулки Папы, — сказал он вслух.
— Я вас поджидал, — начал Джанантонио и сразу умолк. Потом стал рассказывать о лотерее: — У Пьерины было пять билетов, а она не выиграла ничего. Её ужасно бесит то, что деньги истрачены напрасно, но она не может удержаться от игры. Бартоло говорит, что ожидание перемалывает все её внутренности в фарш, а она не может этот фарш попробовать. — Джанантонио захихикал. — Бартоло всегда говорит смешные вещи. А выигрыш — шесть тысяч цехинов[288]. Посмотрели бы вы, как народ валил покупать билеты! Они хватали эти билеты, как работники фермера хлеб с маслом. Это говорит Бартоло. «Не унывайте, заложите свои воскресные чулки и покупайте лотерейные билеты!» — вот что он твердит всем и каждому.
— А тебе, видно, весело с Бартоло?
— Ну, разве не смешно то, чтоон говорит? — заюлил Джанантонио. — Конечно, я не умею так говорить всё это, как он. У него выходит вдвое Смешнее. — Он смотрел Бруно в глаза, ожидая возражений.
— Ну расскажи, какие ещё смешные вещи говорит Бартоло.
— Не помню, — ответил Джанантонио, сердито ёрзая на месте. — Да, вспомнил. Мне это не кажется забавным, но вам, может быть, будет смешно. Он говорит, что одна старушка вдова дала денег священнику, чтобы тот отслужил обедню Святому Григорию за спасение её души, а у священника было на три лиры лотерейных билетов, и он считал себя уже обеспеченным на всю жизнь. Вот он и говорит старушке: «Обедню! Немного мне уже осталось отслужить обеден, скоро я на…у на красные свечи».
— Что, что он сказал о красных свечах? — весело переспросил Бруно, не расслышав слова, которое употребил Джанантонио.
— Да вы знаете. — Джанантонио опять покраснел и припал головой к рукаву Бруно. — Мне не хотелось говорить того слова, которое сказал Бартоло. — Он хихикнул. — Я употребил другое, повежливее. — И, заслонив лицо рукой, он повторил выражение Бартоло.
Эта жеманная стыдливость не понравилась Бруно. Вряд ли мальчик научился такому лицемерию в крестьянском домишке, где он вырос. Это уже, несомненно, влияние Мочениго. Джанантонио старался забыть своё прошлое, казаться юношей из хорошего дома. И не только это. За его притворством, за девичьими повадками чувствовался гнёт какой-то тайны.
В то время как Бруно, стоя у окна, глядел на абрикосовое дерево в цвету, его неожиданно осенила новая мысль. Она так его потрясла, что он ощутил слабость и вынужден был привалиться к подоконнику, не обращая внимания на тревожные расспросы Джанантонио. Что-то захлестнуло его, как бурная волна, которая вздымается высоко и затем разбивается о берег. Как сильный порыв ветра, который гнёт деревья до земли.
Теперь он понял, почему мир кажется ему прекрасным в те часы, когда он наедине с птицами, солнцем, с ветром, золотой рябью пробегающим в поле по косматым колосьям, с древними холмами. Мир тогда совершенен, ибо в нём нет людей, ибо тогда он, Бруно, видит в мире лишь совершённое взаимодействие форм, сочетание элементов, созидание и разрушение, щедрое многообразие и единство. Оттого мир-природа приносил облегчение отягощённой душе. А мир-человечество совсем другое дело. В нём не чувствуется ни равновесия, ни свободы взаимодействий.
Вот он, Бруно, стоит в этой комнате и смотрит в белое, болезненно-красивое лицо мальчика, лицо, в котором как будто застыло отражение окровавленного тела изнасилованной матери и злых рук отца, хватающих плеть. И душа не знает покоя, не видит завершённости. Значит, человечности в настоящем смысле этого слова ещё нет. История — только рождение в муках человека, но человека ещё не освобождённого для настоящего конкретного действия, для полноты человечности. Когда эта полнота будет достигнута, то, заглянув в человека, мы почувствуем то же, что чувствуем, любуясь окружающей природой.
— У меня на минуту закружилась голова, — сказал он Джанантонио. И, рассеянно взяв мальчика за пуговицу, продолжал: — Знаешь, я встречал в Париже одного старика, который больше всего в жизни гордился тем, что сумел написать полностью «Credo» и «In Principio»[289] на клочке бумаги не больше вот этой пуговицы. Он настоял на том, чтобы я рассмотрел его работу сквозь увеличительное стекло.
Мысли вихрем кружились в голове Бруно:
«Я — пророк этого будущего, этой полноты человеческого единения. И оттого, что я стою на грани нового познания, я как бы раздвоен. Во мне настоящее и будущее заключают друг друга в страстные объятия. Меня радует совершенство Вселенной, но, как пророк не рождённого ещё Человека, я мучительно бьюсь в кольце перемен. Вселенная прекрасна лишь своим постоянным стремлением найти предел собственному многообразию, которому нет пределов. Когда же достигнуто будет человеческое единство, человечество сможет, как равное, встать перед Вселенной. А пока этого равенства нет.
Человечества ещё нет.
„Вот почему я говорил, что пчела и муравей — выше меня, что орёл — прообраз будущего парения моей мысли“».
— Расскажите мне ещё что-нибудь, — сказал Джанантонио.
Бруно заставил себя вернуться к тому, над чем требовалось поразмыслить: к прошлому, которое теперь казалось единственной реальностью, словно всё исходило от него, к мучительному настоящему и фантастическому будущему, которое ждёт лишь нового истолкования, глубокого в него проникновения, чтобы отразить в себе все времена, весь возможный опыт. Он стал рассказывать Джанантонио, как после первого посещения Венеции много лет назад он путешествовал из Венеции в Бергамо. По пути он остановился на отдых в монастыре близ Брешии. Там в это время все были в волнении: один монах объявил, что в нём говорит дух Божий и заставляет пророчествовать. За одну ночь он превратился в великого богослова, одарённого свыше умением говорить на различных языках.
— Мне показали этого монаха, — рассказывал Бруно. — Он забился в хлев к свиньям, изо рта у него текла слюна, над левым глазом виднелась царапина. Я дал ему хорошую дозу уксуса с папоротником и привёл его в нормальное состояние. Когда я уезжал, я вернул его братии таким же ослом, каким он был раньше. Так когда-то Эней Сильвий[290] исцелил бесноватого ялапой[291].
Он ощупал грудь, словно ища нарамник[292], который он ещё носил в те времена. Церковь прощала многое; частенько монахи, сняв рясу, щеголяли на людях в штанах и камзолах. Но нарамник снимать не полагалось, этот грех считался непростительным. В Брешии Бруно носил рясу из дешёвого белого сукна. Но с нарамником он тогда ещё не решался расстаться, не мог снять этот знак священнического сана, принадлежности его к ордену доминиканцев. Он вспомнил, как во время первого его сближения с женщиной у него было такое чувство, словно его белая одежда мирянина даёт ему право на всё. Эта женщина, крестьянка, казалось, не придала никакого значения его ласкам, после того как он уплатил ей за козье молоко. Она казалась только немного раздосадованной и, закручивая в узел на затылке распустившиеся волосы, сказала: «Все вы одинаковы». Ребёнок пищал в люльке, шумел котелок, подвешенный на цепях над огнём. Хлопья сажи упали в суп, пока она помешивала его, но она только сказала: «А, всё равно», — и лениво потянулась всем телом. Он ушёл, испуганный, потому что заметил у неё на спине гнойную болячку. Он вымылся в ручье, но страх остался, и ещё долго собственное тело было ему противно, и он давал себе клятву, что никогда больше не коснётся ни одной женщины. Слишком тяжела была расплата жуткой мукой ожидания. Потом он забыл об этом.
«А ведь я носил в себе новый мир, — подумал Бруно. — И никто этого не знал. Никто не знает. Меня убивает моя ответственность и слабость моя. Что это — боязнь, или дурной вкус, или следствие долгих лет затворничества в Неаполе? Господи, каким аскетом я жил тогда!»
Джанантонио слушал рассказ о монахе, широко раскрыв глаза. Ему было одинаково интересно всё, что ни рассказывал Бруно.
— Зачем вы здесь живёте? — спросил он робко. Потом начал жаловаться: — Меня тошнит и болит живот, и ещё у меня вскочил чирей.
Бруно видел, что Джанантонио хочется показать ему этот чирей и услышать выражения сочувствия, но он не хотел внять его мольбе.
— Я ничего не понимаю в таких вещах.
— Но вы же исцелили монаха. — Он схватил Бруно за руку.
Бруно высвободил руку. Но Джанантонио потянулся, обнял его за шею и горячо зашептал ему на ухо:
— Он очень сердит. Он опять колотит меня. А вас он хочет убить…
Бруно продолжал размышлять: «Мне нужна любовь мужчины, а не женщины». И слова дерзкого «Манифеста», обращённого им к вице-канцлеру и профессорам Оксфордского университета, пришли ему на память:
«Я, Джордано Бруно, ноланец, доктор высшего богословия, учитель мудрости чистой и безобидной, философ, которого знают, чтят и с честью принимают самые передовые академии Европы и не знают лишь грубые дикари и варвары. Я — тот, кто будит спящие души, побеждает упорные предрассудки и невежество, доказывает своими деяниями любовь ко всем людям, всё равно — британцам или итальянцам, мужчинам или женщинам, к носящим корону или митру[293], мантию или меч, плащ с капюшоном или без капюшона, но больше всего я жажду общения с людьми, речи которых миролюбивы, человечны, правдивы и полезны. Я ищу не помазанников, не окрещённых или обрезанных, не чисто вымытых рук, а истинно человеческих свойств души и развитого ума. Я внушаю ужас тем, кто сеет глупость, всем жалким лицемерам, но меня признают и любят, мне рукоплещут все истинно благородные люди…»
И поделом оксфордским учёным за то, что они так гнусно поступили с ним! Фразы, над которыми он много трудился, часто вставали в его памяти. Его «Манифест» ко всем людям. А теперь он перечитывал его, по-новому вникая в слова, словно в первый раз. Любовь человека к человеку. Не то, что связывает Мочениго с Джанантонио, а братский союз во имя всего, что гуманно, и миролюбиво, и правдиво, и полезно. Он думал: «Я люблю бесконечный мир, но эта любовь мне изменит, предаст меня одиночеству восторга и отчаяния, если не будет связи с людьми. Любовь к женщине займёт своё место в моей жизни, если я способен любить светлой любовью всё человеческое, в чём сочетается мужское с женским». Сердце его бурно ликовало. Он услышал, как где-то наверху, над его головой, Мочениго хлопнул дверью. И, погладив по щеке Джанантонио, пошёл наверх, успокоенный этой новой нежностью, проснувшейся в душе.
Мочениго улыбался Бруно, руки у него судорожно дёргались. Бруно прошёл мимо, чтобы избежать его прикосновения. Мочениго, горбя плечи, пошёл за ним.
— Давайте посидим вместе и поболтаем, — предложил он. — Я прескверно себя чувствую, у меня болит голова. А ничто так не облегчает боль, как ваш голос.
— Мне сегодня не хочется разговаривать, — возразил Бруно, думая в эту минуту о том, взойдёт ли сегодня луна. Он не мог припомнить, когда было полнолуние. Ему хотелось полюбоваться игрой лунного света в воде. Но нельзя терять время понапрасну. Чем дольше он будет корпеть над своей новой книгой «Семь свободных искусств», тем дольше будет вынужден оставаться гостем Мочениго. А ещё ни одна его работа не подвигалась так медленно, как эта.
Мочениго пошёл за ним на балкон.
— Вы так нелюбезны со мной. Чем я вам не угодил? Может быть, хотите, чтобы я вам устроил… — Мочениго остановился, но Бруно не помог ему. Он понял, что Мочениго хочет предложить ему Пьерину. Он уже не пытался больше разгадывать его истинные побуждения. Достаточно будет просто отказаться. В этой женщине было что-то отталкивающее, и даже если бы этого не было, он не мог бы взять её при таких обстоятельствах. В нём затронули самую тёмную сторону его души, но ответной реакцией было холодное омерзение, скорее физическое, чем нравственное.
— У нас с вами всё должно быть общее, — продолжал Мочениго. — Мысли, еда, желания… vas femineum[294], — добавил он тише. — Тогда мы уподобимся друг другу. — Он засмеялся отрывисто и самодовольно. — Этим путём… мы лучше всего скрепим наш договор, не так ли? Разве это не соединит нас магической связью? Я хочу заглянуть в вашу душу, держать её в руках, как магический кристалл… Вспомните о мази, предохраняющей от ран. О магической игле, соединяющей влюблённых…
Но Бруно сказал только:
— Я не настроен разговаривать.
У него было такое ощущение, словно пальцы Мочениго, как пауки, бегают по его телу, несмотря на то, что он стоял на расстоянии ярда[295] от него.
— Вы должны сказать мне… — начал Мочениго голосом, дрожавшим от бешенства и отчаяния.
— Послушайте, — сказал Бруно быстро. — Вы хотите разрубить гордиев узел[296] истины, вместо того чтобы терпеливо его развязать. Такие приёмы годятся разве только для бандитов, вроде Александра Македонского, но не для философов. Стремиться к власти следует не ради своего личного возвышения. Чтобы обладать Вселенной, вы должны сначала отказаться от любви к земным благам.
— Говорите же! — униженно просил Мочениго.
— Как вам известно, я создаю новую диалектику, делаю первую попытку доказать, что дух есть материя в движении. Это трудно, так как слова требуют расчленения, а здесь мы изучаем не труп, а живое тело. Пробным камнем тут должен служить практический опыт, практическое применение. Единство действия и совпадение противоположностей — вот в чём заключается истина. Перемены — знак вечности…
— Вы говорите «применение», — возразил Мочениго, ухватившись за это слово. — Но к чему же мы применим наши знания, как не к вещам, и как их применить, если мы не будем этими вещами обладать?
— Правильно. Всё дело — в способах применения. Какое именно применение вещей создаст и выявит человеческое единство, к которому мы стремимся? Никак не то применение, какого добивается слепая и себялюбивая алчность.
— Такое или иное, а всё же применение, — проворчал Мочениго.
— Согласен. Но то, о котором говорю я, приносит неизмеримо больше наслаждения, чем жадность, рождённая страхом.
— Но как же достигнуть этого?
— Для этого нужно понять мою диалектику.
— Пожалуйста, объясните, учитель.
— Я направляю мысль на новый след. Для ясности я заимствую метафору у моих предшественников, из области мнемоники. Вот она: Аристотель предлагает нам сеть для звериной ловли, но не указывает на приманки, на системы ловли. Этой сетью без приманки является логика, которой ничего не создашь, если ею не управляет опыт. Дедуктивную логику я дополняю диалектическим подходом ко всем явлениям действительности, диалектикой, которая не может довольствоваться меньшей областью, иначе она перестанет быть тем, что она есть. Это не статический план лабиринта, как вы упорно думаете, а метод подхода к явлениям. Поскольку мы настаиваем на единстве, мы должны приводить между собой в связь все проверенные формы истины, пока познание не станет соравно космосу. Вот в чём судьбы человечества. Но никто этого не понимает. Только я, я, единственный во всём мире.
— И я с вами, учитель, — сказал Мочениго всё так же заискивающе. — Объясните же, по какому следу вы охотитесь. Расскажите, как догнать и поймать истину. Прежде всего, что есть истина?
— Браво, Пилат[297]! — Бруно выпрямился во весь рост. Он победил в себе антипатию к Мочениго, он в эту минуту любил его. — Истина перед вами. Истина — это моё тело — и пути звёзд, ваше тело — и текущие мимо воды, и этот город торгашей.
— Но я повторю то, что вы всё время твердили мне: надо же с чего-то начать. Надо ухватиться за что-то… А как я могу ухватиться за звёзды, за воду, за своё тело?
— Вы должны учиться. Изучать геометрию, математику, химию.
Голос его звучал неуверенно. Мочениго, может быть, сам по себе человек негодный, но он прав, настаивая на том, что знание должно сразу же приносить плоды. Его протесты всегда помогали Бруно яснее видеть бездонный хаос в его, Бруно, расчётах и то легкомыслие, с которым он постоянно путал и извращал определения, переворачивал вверх дном концепции своей философии.
— Но если в этом вашем диалектическом методе мы найдём наконец непосредственное восприятие действительности, к чему мне изучать старые методы?
— Потому что диалектика не есть абстрактное орудие. Это только новая точка зрения. А задача анализа действительности остаётся. Вы мне напоминаете человека, ожидающего, что из тела женщины, которым он только что обладал, сразу появится взрослый ребёнок. Между тем ребёнок растёт органически. Так же постепенно должно расти новое понимание вещей, новое познание и сила, зачатые от союза моей диалектики с миром. Природа — всё.
— А Бог? Что скажет теология о вашей диалектике?
— Госпоже теологии я скажу то, что Святой Бернард сказал другой знаменитой особе женского пола. Однажды статуя Богоматери заговорила, славя его. Но Бернард, знакомый с фокусами монахов, отвечал ей цитатой из Первого Послания Святого Павла[298] к Коринфянам, глава четырнадцатая: «Жёны в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить».
— Но вы в своих сочинениях поминаете имя Бога.
— Бога, как единого начала, natura naturans, как переход природы от одной возможности к другой.
— Но что общего у этого бога с нашим Спасителем или с богом битв, грозным богом, который дал завет Аврааму[299]?
— Всё это аллегории или просто выдумки, — нетерпеливо оборвал его Бруно. — Зачем вы упорно возвращаетесь к этим детским вопросам?
Он понимал, что Мочениго доставляло тайное удовольствие вызывать его на богохульные речи, словно они, пугая его, болезненно раня его чувства, вызывали в нём какое-то нездоровое возбуждение. Словно они предавали Бруно в его руки, вынуждали Бруно признать магию и алхимию.
— А что происходит с душой после смерти? — спросил Мочениго. Он сидел, опустив руки между колен, нижняя губа его отвисла. Бруно стало противно. У него было такое ощущение, словно Мочениго подбирается к нему для одного из тех физических соприкосновений, которые он всегда в скрытой форме навязывал своему гостю. Однако нужно было ответить на вопрос.
— Смерти нет, есть только перемена. Если вы сумеете понять, что ваше «я» — такая же реальность, как, скажем, лист на дереве, но не больше, тогда от вашего страха смерти не останется и следа. Лукреций прав, видя в этом страхе величайшее зло, источник алчности и ненависти. Вы не можете проникнуться моей истиной, пока не освободитесь от этого зла. Страх смерти заставляет цепляться за личность, как за нечто, имеющее право на самостоятельное существование. Это цепляние — самое низменное из всех вожделений, и оно достигает дьявольских размеров в христианстве. Это — принцип разъединения, убивающий организм, его породивший. А обладать всем значит не обладать ничем.
Бруно смутился, не умея логически объяснить разницу между таким самоубийственным разъединением и учением о совпадении противоположностей в реальном бытии. Он не мог также объяснить, почему христианская идея общности представляется ему фальшивой подменой живого слияния противоположностей. Хуже того: он сознавал, что не имеет ни малейшего представления, как возник тот страх смерти, о котором он говорил.
— Так вот что вы мне предлагаете, — запинаясь, пробормотал Мочениго, — этот дешёвый стоицизм[300], это отречение монаха-отшельника. Лучше бы уж я стал картезианцем и ушёл от мира. Вы обманщик. О вас идёт худая слава, вы обратите на себя и на меня внимание властей. Вы берёте у меня деньги, живёте на мой счёт. Поэтому с вашей стороны естественно утверждать, что такие вещи — ничтожный пустяк. Я отлично вас понял.
— После таких слов я ухожу, — решительно сказал Бруно.
— Нет, нет, — закричал Мочениго, хватая его за руку. — Я говорил необдуманно. У меня темперамент слишком холерический. Спросите моего врача, он вам подтвердит, что я страдаю от недостатка влаги в организме, поэтому я слишком легко загораюсь. Но это ничего не значит. Минутная вспышка. Вот уже всё и прошло. Я почти и не помню, что говорил. Не можете вы оборвать всё именно теперь, когда мы так близки к полному взаимному пониманию. Ну, прошу вас…
Бруно вырвал руку. Он не хотел прикосновений этого человека и сейчас ни о чём другом не способен был думать. Когда он сказал, что уходит, сердце у него упало: Венеция была ему необходима, как первый этап по дороге в Рим.
— Хорошо, — сказал он, поглаживая свою руку в том месте, где её только что сжимал Мочениго. — Но помните, что я больше не потерплю таких замечаний с вашей стороны. Прошу вас также прекратить эти намёки на власти. У властей нет решительно никаких оснований нами интересоваться. И сегодня вечером я иду в гости к мессеру Морозини.
— Нет, нет, — воскликнул Мочениго, бегая по комнате и натыкаясь на стены. — Вы не пойдёте к нему. Всё, что угодно, только не это. Морозини — мой враг. Он распускал про меня клевету. Он нанял какого-то бродягу шотландца, чтобы меня зарезать. Я его ненавижу. Вы продаёте меня врагам моим. Вы готовите мне беду.
Бруно хладнокровно ожидал, пока этот взрыв окончится. Наконец Мочениго, шмыгая носом и выпячивая свою длинную нижнюю губу, остановился у стены.
— Разве я в этом доме не свободен?
— Ну что ж, идите, — сказал Мочениго сердито и жалобно. — Можете идти. Разумеется, вы вольны идти куда угодно. Но по крайней мере обещайте, что не выдадите ему тех тайн, которые вы не доверяете мне. Поклянитесь!
— Пойдёмте со мной туда, если не верите.
— Нет, нет. Я не переступлю его порога. С вашей стороны невежливо посещать этого человека, пока вы мой гость. Что там говорят обо мне?
— О вас никогда и не упоминалось. Только один раз Морозини спросил меня, в добром ли вы здоровье.
— Он бы с удовольствием меня отравил. Но если он хитёр, так я ещё хитрее. — Мочениго поднял вверх сжатые кулаки. — Но вы ещё мне не поклялись. Почему вы уклоняетесь от клятвы?
— Я не уклоняюсь. Это слишком уж глупо. Мне просто стыдно давать клятву, когда дело идёт о какой-то вашей фантазии. За кого вы меня принимаете?
— Нет, нет, вы должны дать клятву, — настаивал Мочениго, доставая из-под камзола маленькое металлическое распятие. — Поцелуйте распятие и клянитесь.
Бруно отвернулся. Но чувствуя, что Мочениго придвинулся к нему вплотную, пожал плечами.
— В чём же мне поклясться?
— В том, что вы не откроете Морозини ни одной из тайн, которые обещали открыть мне.
— С мысленной оговоркой, что таких тайн не существует, я клянусь…
— Нет, никаких оговорок!
Бруно утешался тем, что, по крайней мере, здесь нет свидетелей этой нелепой церемонии. Он поцеловал распятие и повторил слова, продиктованные ему Мочениго. Распятие пахло медью и потом. Бруно вздрогнул от отвращения. Он услышал, как скрипнула дверь за его спиной. Кто подслушивал там — Джанантонио, Пьерина или Бартоло?
XI. Во дворце Морозини
Неприятной стороной жизни в католической стране было то, что по утрам нужно было выходить из дому, делая вид, что идёшь в церковь. Иначе пошли бы расспросы. Но, переселившись к Мочениго, Бруно стал меньше соблюдать предосторожности и прекратил это мнимое хождение к обедне. Теперь из намёка, злорадно брошенного хозяином дома, он понял, что слуги говорят о нём. Что ж, ничего не поделаешь!
Он отогнал эту заботу и взбежал вверх по ступеням. Как только он переступил порог дворца Морозини, его словно взмыла волна счастья. Здесь были друзья, здесь он находил общение, которого жаждал. Какая невероятная нелепость, что он должен оставаться у Мочениго и терпеть бесполезные мучения. Приехав в Венецию, он думал, что ему может понадобиться поддержка Мочениго, несмотря на то что Венеция, ревниво охранявшая свою гражданскую независимость и бдительно следившая, чтобы власть Папы не переходила положенных границ, могла считаться самой свободной из республик Италии. Она даже добилась учреждения у себя Совета Трёх, один из членов которого обязан был присутствовать на всех заседаниях Инквизиции, и монахи-инквизиторы не имели права ничего делать без санкции государства. И вот уже несколько месяцев он, Бруно, живёт в Венеции, а никто не делал ни малейшей попытки вмешаться в его жизнь или хотя бы узнать, чем он здесь занимается.
С этими мыслями Бруно, улыбаясь про себя, вошёл в комнаты за лакеем, уже знавшим его имя. Почтительно-весёлое приветствие лакея было ему приятно, он окончательно почувствовал себя здесь как дома.
Остальные были уже все в сборе. Морозини, высокий, красивый, с учтивыми и величественными манерами. Господин Перро, француз из Падуи. Три знатных венецианца, почитатели науки и философии. Два немца-путешественника. Художник Леандра да Понте. Нотариус из Рима, собиравший коллекцию древних надписей. Член Мантуанской академии художеств, увлекавшийся разрисовкой майолики[301].
У Морозини на столе стоял кубок из окрашенного стекла цилиндрической формы с выпуклым верхним краем. Он был небольшой, высотой меньше полуфута, но весь так и сверкал разноцветными огнями. Гости все любовались им, в особенности мантуанец, который всё время пытался щеголять техническими терминами и ни с того ни с сего сообщил, что у него в музыкальной комнате имеется алебастровый орган. Морозини рассказал, что этот кубок купил для него в Александрии[302] капитан одного из его судов, зная о любви своего хозяина к драгоценному стеклу. Продавец клялся, что кубок этот из Алеппо[303] и ему несколько сот лет.
Пока мантуанец своим звучным голосом с мантуанским акцентом гудел что-то о разрисовке циферблатов, которая была его специальностью, Бруно взял в руки кубок и стал его рассматривать. Он был из прозрачного белого стекла довольно грубой выдувки, как показывали имевшиеся в стекле пузырьки, но покрыт эмалью, сверкавшей ещё больше благодаря позолоте. Узор состоял из двух медальонов с золотыми рельефными завитками на голубом фоне, а медальоны были отделены один от другого стилизованным рисунком двух пальм, стволы которых изображал ряд треугольников. Промежутки были заполнены восемью розетками. Эмаль, красная, белая, светло-изумрудная и сапфирово-синяя, была, как и позолота, нанесена снаружи, а голубой фон медальонов — с внутренней стороны.
Вертя в руках кубок, Бруно, очарованный его игрой, думал о том, как легко можно превратить это сочетание пышных красок в ничего не стоящую пыль. Оптимизм его вспыхнул с новой силой. Эта красивая вещь, сделанная человеческими руками, словно отразила в себе великолепные переливы радости, доступной человеку. Она была подобна птице, поющей ликующую песнь. Это был рог изобилия, из которого изливались беспредельная надежда и вера в полноту человеческих возможностей. А с другой стороны, такая вещь вызывала желание разбить её о пол или спрятать в шкаф, заявив: «Она — моя». Впрочем, в данную минуту Бруно был способен пренебречь этой другой стороной.
— Приятно пить из такого кубка, — сказал он, и Морозини, поклонившись с улыбкой, приказал слуге подать вина.
— Берегитесь, как бы в кубке не оказался яд, — заметил один из венецианцев.
Бруно усмехнулся: «Рискну». Если даже в красочных переливах жизни неизбежно скрывается возможность отравы — всё равно он будет пить. Он умрёт, смеясь, уверенный в своём будущем, в своей правоте. «Не мне самому, Господи, а мне в лице тех, кто придёт после меня, — думал он. — Усилия мои должны в будущем принести плоды. Пусть меня раздирают противоречия, я разрешу их своим усердным служением жизни. Если я умру, я умру во имя жизни. Принести себя в жертву во имя того, что в жизни всего необходимее, — вот честь, которая выпала мне на долю. И большего я не прошу».
— Он уже проверен, — сказал Морозини и небрежно взял в руки кубок. «Это равнодушие показное, — подумал Бруно. — Если бы слуга разбил кубок, он бы спустил с него шкуру. А мне, верящему в будущее, которое я творю, почти хочется разбить его, разбить вдребезги всё прошлое, несмотря на его ослепительные краски».
Один из немцев стал рассказывать о фестивале в Дрездене по случаю крещения ребёнка у курфюрста[304]. Бруно, словно опьянев, но не от вина, налитого в кубок, а от чарующей игры его красок, слушал так, как будто это был рассказ об освобождённой земле, о которой он грезил.
Картины праздника в Дрездене смутно мелькали перед ним. Арена турниров, окружённая местами для зрителей, вся усыпанная еловыми ветками. От арены до арок — аллея из ста мощных елей, увешанных апельсинами, гранатами, дынями и — как выразился рассказчик — другими сочными плодами. Птицы всевозможных пород, большие и маленькие, порхали в этой аллее, белки, рыжие с чёрным, прыгали с дерева на дерево. Но кто выкорчевал эту сотню елей в лесу и привёз в Дрезден, кто копал ямы и тащил деревья на верёвках, кто посадил их? Рабочие. Что они думали обо всём этом?
Потом прибыл его светлость курфюрст и трижды прошёл церемониальным маршем во главе своих рудокопов под звуки великолепной музыки и песни рудокопов (что они думали обо всём этом?). Потом его светлость появится с сотней охотников, все они были в зелёных костюмах, пели и трубили в рога. Они везли огромную клетку с медведями, дикими кабанами, волками, лисицами, рысями, зайцами, куницами, барсуками, белками, кроликами и дичью.
— Я думаю, медведи и кабаны в конце концов вырвались из клетки и умертвили немало народу, — сказал один из венецианцев, поглаживая бороду. — Это всегда бывает во время таких зрелищ.
— Да, так и случилось, вы угадали, — подтвердил удивлённый немец. — Но никто не был убит, только несколько человек затоптано. Всех спасли собаки.
— А заклинания бесов на этот раз при крещении не делали, — заметил второй немец густым басом. — Так что проклятые кальвинисты могут быть довольны.
Некоторое время царило молчание. Его нарушил один из венецианцев. Он сказал, что бывают худшие вещи, чем склонность какого-то саксонского курфюрста к ереси. Например, от гроссмейстера Мальтийского ордена пришла весть[305], что в Вавилоне родился от блудницы антихрист. Ребёнок родился покрытый шерстью, как кошка. Через восемь дней он стал ходить, через месяц — говорить и объявил себя сыном Божиим. При его появлении на свет солнце померкло среди бела дня, над домом блудницы, его матери, показалось пламя, многие горы разверзлись, и внутри одной из них виден был столб с надписью на еврейском языке: «Се час рождения моего». С неба сыпались манна, драгоценные камни, змеи, всякие напасти. Ребёнок вызывает всеобщее поклонение, так как он успел уже сотворить много чудес, воскрешает мёртвых, возвращает слепым зрение, калек заставляет ходить. Какой-то босой монах, опекающий этого ребёнка, бунтует простой народ. Раввины пришли к заключению, что этот ребёнок — антихрист, сын погибели.
— Ну, Вавилон далеко, — сказал Морозини сухо и переменил разговор.
Оба немца достали свои «Album amicorum», альбомы для памяток. У одного альбом состоял из чистых страниц, переплетённых в тиснённую золотом веленевую обложку. У другого альбомом служил экземпляр «Anthologia gnomica» с гравюрами на дереве, на которых были изображены различные костюмы, и с чистыми страницами для записей.
— Мне эта книжка нравится больше, чем «Эмблемы» Альциата, или гольбейновский[306] «Танец смерти», или какие-нибудь «Библейские образы», — такие альбомы встречаешь на каждом шагу. Этот, право, как-то современнее, хотя издан несколько лет тому назад. А сейчас Теодор де Бри[307] готовит новую прекрасную книжку, роскошное издание. Я видел некоторые из гравюр. Книгу он назовёт «Emblemata. Symbola et elegantes versuis»[308].
— Я знаком с де Бри, — сказал Бруно, оживившись. — И с обоими его сыновьями тоже. Я с ними встречался во Франкфурте. Де Бри пользуется покровительством благородного сэра Филиппа Сиднея, моего друга. К сожалению, я не застал его в Лондоне. Я уехал, не дождавшись его приезда.
— Рисунки будут гравированы на меди, — сказал восторженно немец. — Великолепная работа.
У Бруно душа затеплилась радостью: в сущности, все, кто делает в жизни настоящее дело, кто создаёт новые ценности в области мысли или искусства, связаны между собой. Он горел мучительно-восторженным желанием объединить их всех в товарищеский союз, найти новое Телемское аббатство[309], эту блестящую замену христианства. Артисты, философы, поэты, математики, химики… Но чего-то тут не хватало. Разве он мечтает о платоновском обществе, разбитом на строго разграниченные группы? Воспоминание о тех днях в Лондоне, когда на него нападали, швыряли в него камнями, осыпали бранью, ожесточало его против черни. Ей не было места в этом лучшем мире, представленном в микрокосме дворцом Морозини с его турецкими коврами, обоями позолоченной кожи, старинным оружием, дорогими бархатными портьерами и росписью на потолках, где смешались купидоны, и облака, и голые спины нимф. Да, черни не надо! И хотя этот вопль отречения оставил по себе в душе смутный провал страха, Бруно находил удовлетворение в собрании культурных людей, стоявших выше предрассудков черни.
Разговаривавший с Морозини немец, обладатель «Аnthologia gnomica», теперь подошёл к Бруно и попросил его написать ему в альбом на память своё имя. Бруно вспыхнул от удовольствия: эта просьба отвечала его мечте о всеобщей дружбе.
Он стал перелистывать альбом, рассматривая цветные рисунки щитов и геральдических гербов, читая автографы и девизы. На каждой странице мелькали громкие имена: тут были автографы принцев, кардиналов, аббатов, капитанов, написанные с небрежными росчерками, как и полагается для надписей manu propria[310]… Некоторые гравюры были прекрасно исполнены. Бруно заинтересовался гербом Лоренцо Второго, настоятеля Лилиенфельдского монастыря в Австрии. Надпись гласила: «Monasterium campililiorum»[311]. Бруно смутно помнил это «Поле лилий». Рисунок был очень хорош. В центре — митра и посох, и на лазоревом фоне бледным золотом три цветка лилии. По бокам — две женские фигуры, Надежда и Вера, обнажённые, — у Надежды сквозь прозрачную вуаль был виден живот и ещё многое другое, Вера не столь откровенно выставляла напоказ свои прелести.
В душе Бруно опять проснулось желание удалиться от мира. Долина лилий, Телемское аббатство, стойкая надежда и твёрдая вера. Он перелистывал страницу за страницей. Мелькали девизы, написанные различным шрифтом: «Spes mea Christus», «Amor omnia vincit», «Tendit ad ardua viritus», «Tout avec le temps»[312]. Эти девизы словно выражали волновавшие его мысли, все они, за исключением одного религиозного, были как будто нарочно подобраны. «Spes mea Christus» — Христос моя надежда. А что написал бы он, Бруно, вместо «Христос»? «Ego»[313]? Похоже на банальное тщеславие. Скорее: «Omnia, Unitas, Causa, Natura, Natura in me, ego in societate»[314]. Вот исчерпывающая формула!
— Но у меня нет фамильного герба, — сказал он. — Я сын бедного солдата.
Ему было трудно сказать это, но он был рад, что сказал. Ему показалось, что все от него отшатнулись, но он понимал, что это его фантазия. Хотелось продолжать, испортить все словами: «Но дядя мой, у которого я жил в Неаполе, — довольно крупный фабрикант бархата». Сказать это — значило бы сделать себя поистине смешным, уничтожить достоинство открытого признания. Всё же ему стоило некоторых усилий не сказать этого, не похвастать общественным положением и богатством Агостино Бруно. Он начинал испытывать чувство какой-то неприязни ко всем присутствующим, кроме художника да Понте, молча сидевшего в стороне.
— Это не важно, — сказал немец. — Я прошу вас только написать мне несколько слов на память, потом ваш девиз и подпись. Вам фамильный герб не нужен. Как говорит Марий[315] у Саллюстия[316]: «Некоторые люди — сами себе предки»…
Бруно его не слушал.
— Нет, нет, я непременно хочу оставить вам на память обо мне какой-нибудь рисунок, хотя у меня и нет фамильного герба. Я найду художника… — Ему захотелось придать себе вес. — Вот что: поручите это де Бри, когда будете во Франкфурте. Я дам вам для него набросок и деньги. — Он в упор посмотрел на немца, точно ожидая, не вздумает ли тот отказаться, щадя его кошелёк.
— Благодарю вас, — сказал немец, поморгав глазами. — Я запишу ваш адрес.
Бруно дрожал, словно он только что перенёс трудное испытание. Но теперь он знал, что этим людям его происхождение, в сущности, безразлично. Бедняк и простолюдин, он не мог по-настоящему войти в их круг. Он и не желал этого. Ему нужно было только умственное общение с ними. И всё же он чувствовал себя обделённым.
Затем он услышал, что немец рассказывает о Тихо Браге. В рассказе он упомянул, что Браге одобрительно отзывался о книге Бруно «Бесконечность миров». В первую минуту Бруно не верил своим ушам. Потом отозвал немца в сторону и стал расспрашивать. Но узнал немного. Немец не мог припомнить, что именно говорил Браге, помнил только, что он хвалил книгу. Бруно изнемогал от радости. Он допытывался у немца подробностей о его пребывании на острове Вин, отданном покойным королём Фредериком[317] в распоряжение знаменитого астронома. Немец рассказал, что во время драки в одном из германских университетов Браге отрезали нос, и ни одна девушка знатного круга не согласилась бы выйти за него замуж. Поэтому он имел любовницу, которая родила ему кучу детей. Дети его не получили дворянства. Король предоставил в распоряжение Браге и остров, и превосходные астрономические приборы. Свой досуг Браге посвящал шлифовке оптических стёкол и изготовлению математических приборов. У него была замечательная библиотека и (что рассказчик считал столь же важным) прекрасный винный погреб, а подле дома была выстроена круглая башня с раздвижной крышей, и по ночам можно было, лёжа на спине, наблюдать звёзды. В этой круглой башне на стенах были написаны портреты великих астрономов — Гиппарха, Птолемея, Альбатегния, Альфонса[318], Коперника и самого Тихо Браге с объяснительными надписями в стихах.
Бруно слушал как зачарованный. Мечта, всегда преследовавшая его, — уединённый дом, окружённый деревьями, любящая жена, которая охотно делит с ним одиночество, — всё это осуществилось в жизни Браге. Бруно уже загорелся желанием отправиться в Данию. Без сомнения, они с Браге станут большими друзьями. Они чудесно могли бы работать вместе. Браге как техник, он, Бруно, — как философ.
Разговор зашёл о некоем Буции Фиделинии из Флоренции. Этот Фиделиний, как говорили, пишет книгу, в которой доказывает, что спасение будет даровано всем, даже туркам и евреям, с той только разницей, что христианам после воскресения будет больший почёт на небесах и они больше будут радоваться…
— Я с тоской и ужасом услышал об этом, — заметил второй немец, который, в противоположность своему товарищу, был католиком. — И этот человек смеет заявлять, что многие кардиналы во Франции и Италии, а также священники втайне согласны с его богомерзким учением!
Бруно чувствовал, что эти люди становятся ему всё более чужды. Волнение, вызванное рассказом о Браге, оставило его разбитым, слабым, беспомощным. Один из венецианцев сказал звучным голосом, старательно отчеканивая слова:
— Пускай только этот господин выпустит в свет свою книгу. Тогда он познакомится с иезуитами.
— Но где он рассчитывает издать такую книгу? — спросил Перро. — Его уверения, будто французы поддерживают его тезисы, гнусная ложь. Даже гугенота устрашат такие кощунственные мысли. Нет, подумать только! Человек смеет утверждать, что евреи спасутся!
— Он рассчитывает издать книгу в Праге, — сообщил один из немцев, важно качнув головой.
— Если его намерение станет известно, он до Праги не доедет. Святая Инквизиция пожелает задать ему несколько вопросов!
— Мне рассказывали по секрету, — сказал немец. — Так что я надеюсь, что это останется между нами.
Бруно чувствовал, что задыхается. Второй немец засмеялся:
— В Праге есть один иезуит — по крайней мере, он был там, когда я проезжал Прагу, — который не стал бы сильно прижимать этого еретика-флорентийца. Весёлый малый! Когда я был там, он как раз выступал с проповедью о свадьбе в Кане Галилейской[319] и рассказывал такие забавные истории о том, как женщины угождали мужчинам, что прихожане покатывались со смеху и ему всё время мешали говорить. Остальные иезуиты требовали его перевода в другое место, но придворные дамы не допустили этого: при дворе его очень любят. В прошлом году к Рождеству устроили в его пользу сбор, собрали тысячу двести талеров[320], — поверьте, я не преувеличиваю! Так что можете себе представить, какой у него запас вина, пряностей и чёрного флорентийского сукна! Его хотели назначить в церковь Святого Фомы на Клейнзайте и выгнать из монастыря, что при церкви, всех монахов-итальянцев. Эту идею все одобряли, потому что незадолго перед тем один из монахов был уличён в совращении девицы знатного рода.
Итальянцам совсем не понравился такой конец рассказа, но Перро и Бруно захохотали. Бруно всё более ожесточался против венецианцев, слушавших с замкнутыми лицами.
— О, все мы знаем, каковы иезуиты, — сказал он насмешливо. — Мне рассказывали, что один из них обвинил перед Инквизицией какого-то человека в принадлежности к лютеранам только потому, что тот произносил вместо Хаббакук — Хаббакаук. Смотрите, будьте осторожны, — добавил он, обращаясь к немцам.
Наступило неловкое молчание. Но Морозини, ожидавший случая перевести беседу на менее щекотливые вопросы, сказал с усиленной приветливостью:
— Здесь, в Венеции, мы не так придирчивы к произношению. — И добавил тише: — Nihil humani[321]…
— Ортодоксальная вера и общественное спокойствие одно и то же, — решительно объявил венецианец, сообщивший о рождении антихриста. Он выпил много, и глаза у него были налиты кровью, а бесстрастное лицо землисто-бледно. — Посмотрите, как гибельна для государства оказалась реформа Церкви во Франции.
Глумливый тон Бруно нарушил приятное настроение всех гостей. Они беспокойно зашевелились. Только художник улыбался по-прежнему. Он всё больше и больше нравился Бруно.
— Я не фанатик, — сказал немец-лютеранин. — Но, насколько я понимаю, даже Тридентский собор признал, что католическая церковь нуждается в реформе. Иначе зачем бы тогда вообще созывать собор?
— Ни на одном соборе не было принято ни одного важного решения, кроме решения сжечь Гуса[322], — злобно отозвался Бруно.
— Одного я не могу понять в католической обрядности, — настойчиво продолжал лютеранин, забыв всякую осторожность и стряхивая руку товарища, который пытался его остановить. — Почему во время причащения мирянам не подносят чаши с кровью Христовой? Почему им можно вкушать тело его, но нельзя пить его кровь? Я выражаюсь символически и готов где угодно защищать мнение Меланхтона[323]…
— Герсонприводит веские причины, — фыркнул Бруно. — Ведь священную кровь могут нечаянно разлить либо в церкви, либо во время доставки её туда — через горы зимой, например. Ведь капли её могут застрять во вшивых бородах мирян. Ведь она может скиснуть во время хранения. Ведь потребовались бы огромные сосуды, чтобы вместить столько, сколько нужно для причащения десяти — двенадцати тысяч людей. Это серьёзный экономический аргумент. Не даст ли это виноградарям повод обижать Церковь, поднимая цены? Не могут ли сосуды загрязниться и стать распространителями заразы? Не вообразит ли вдруг какой-нибудь простой смертный, напившись крови Христовой, что он ничем не хуже священника? С такими аргументами приходится согласиться, иначе это значило бы уличить католическую церковь и Константский собор[324] в ужасающей ошибке. Точно так же, дорогой синьор, рекомендую вашему вниманию учение о совокупности, которое состоит в следующем; хлеб, в силу освящения, превращается в тело Христово, а Христос сказал великие слова: «Сие есть тело моё» — тогда, когда он был ещё жив и, значит, в теле его заключалась и кровь и душа. Следовательно, в хлебе мы причащаемся несомненно тела и крови Христа. Затем рекомендую вам остроумные доводы одного португальца, Якова Пайва…
Морозини опять вмешался и, всё с тем же безмятежным спокойствием, перевёл разговор на общие темы. Он усиленно добивался, чтобы Бруно подробно изложил свой вариант учения Коперника. Ему уже и раньше несколько раз удавалось втянуть Бруно в такой разговор, и Бруно блестяще высмеивал нелепость Аристотелевой идеи о шаре с многочисленными сложными движениями. «Природа идёт к цели наиболее прямым путём», — утверждал Бруно и доказывал простоту и логичность системы Коперника и применения аналогичных методов ко всем проблемам пространства. На прежних беседах присутствовал Гетальди[325], который пытался математическим путём опровергать доводы Бруно, поддерживая христианское представление о Земле как центре Вселенной и главном объекте внимания Творца.
Но сегодня Морозини не удалось заставить Бруно разговориться. Бруно усмехался, отвечал неопределёнными фразами, его раздражало аристократическое спокойствие и благодушие Морозини. Сегодня среди гостей ощущалось какое-то стеснение, и Бруно понимал, что в этом виноват он. Ему было тягостно оставаться здесь, — а встать и уйти он не мог.
Наконец немцы ушли и вечер закончился. Спускаясь с лестницы, Бруно оказался рядом с художником да Понте, который за весь вечер не сказал ни слова. В нём опять проснулось товарищеское чувство. Ему почему-то легко дышалось в обществе да Понте.
— Что вы думаете обо всём этом?
Да Понте улыбнулся.
— Я думал, что хорошо бы зарисовать эту сцену, когда Морозини стоял перед свечами, а вы наклонились вперёд, к немцу. Хороши были и освещение и позы. Правда, такие сцены мне не очень удаются. Я пишу только пейзажи и, если уж бывает необходимо включить живых тварей, предпочитаю крестьян и животных. Вещи я чувствую.
— Мне бы хотелось посмотреть ваши работы.
— Не думаю, чтобы они вам пришлись по вкусу. Если вы любите эффектные картины, вы лучше сходите к моему приятелю Пальма Джованни. Его специальность — Даная[326] под золотым дождём, и ему хорошо платят за такие картины.
— А вы не увлекаетесь Данаями?
— Нет. У меня простые вкусы.
— Вы кажетесь счастливым человеком, — сказал Бруно задумчиво.
— Да, я счастлив. Хотелось бы только чаше бывать в Барсано, на моей родине. Я люблю горы.
— Барсано находится вон там, несколько севернее Венеции, — сказал Бруно, указывая рукой направление.
— Да, чуточку выше.
— Я хотел бы познакомиться с вами поближе. Можно мне вас навестить?
— Конечно. Приходите в студию. Я буду очень рад. Увидите и моего брата, который старше меня на девять лет. И отца. Ему около восьмидесяти. Он вам наверное понравится. Живём просто. Мы все трое — художники.
— Мне очень хочется у вас побывать, — сказал Бруно, и хотя сказал это искренно, но знал уже, что не пойдёт. Он словно копил намерения, которых не мог выполнить. Он ещё не виделся с Аквапенденте. И потом математик Галилей[327], который недавно назначен профессором в Падую и которого Беслер аттестует, как большого умницу. Славный малый этот Беслер! Жизнь идёт вперёд; отец Беслера был одним из учеников Лютера. А теперь Иероним — последователь Бруно, а его брат способный ботаник. От богословия к ботанике! Какой неизмеримый подъём — и за одно поколение! Когда-нибудь мир окончательно станет разумным.
Бруно думал: «Мне нужно учредить свою школу. Нельзя ли сделать это в Венеции или Падуе? Здесь есть люди с истинно философским умом, люди, правильно оценивающие роль чувств, понимающие, что истину искать надо только в природе». Но у него недоставало мужества заняться этим делом. Оно требует хлопот, а Беслер скоро уезжает обратно в Германию. Как тяжелы становятся для него, Бруно, всякие внешние перемены и хлопоты! Вот он хотел побывать в Мурано, посмотреть печи, в которых варят стекло, и людей, работающих там. Это была смутная потребность вернуться на землю, к физическому труду. Тихо Браге сам, собственными руками, делает научные приборы. Но Бруно так и не поехал в Мурано. Что-то мешало ему.
Девичий голос, напевавший песню, заставил его очнуться. Рядом в сочувственном молчании шагал да Понте. Бруно охватило непонятное возбуждение. За барьером ожидает всё, чего он жаждет. Предназначенный судьбой друг или, может быть, враг? Надо к нему подойти, коснуться его. Иуда поцеловал Христа. А подойти непременно нужно, чтобы узнать. Отчего он, Бруно, разучился подходить к женщинам? Следовало бы брать их так же просто и естественно, как он ест или размышляет: не изменяя своей сосредоточенности на главном, не нарушая внутренней гармонии.
Ему вспомнилось то, что писал он перед возвращением в Италию, слова, которые теперь казались ему пророческими, хотя до сих пор ещё не нашли противника, к которому были обращены:
«Я боролся. Это много. А победа — в руках судьбы. Что бы ни было со мной и кто бы ни оказался победителем, одного, по крайней мере, не будут отрицать грядущие поколения: что я не боялся смерти, никому не уступал в верности и предпочёл благородную смерть жизни труса».
Ещё не кончился его внутренний разлад, ещё он не достиг завершения своей идеи единства. Он вспомнил девиз из альбома: «Tout avec le temps». Всё в своё время. Это ещё придёт. Любовь всё побеждает. Доблесть ищет трудностей, борьбы, усилий, ardua. Да, всё — от времени, а не от нас. Однако он, борющийся, и есть будущее.
Они проходили мимо кабачка, свет из окон прорезал вечерний мрак, слышен был тёплый рокот голосов.
— Зайдём, выпьем на прощанье, — предложил Бруно.
Они вошли внутрь, отдёрнув полотняную завесу у входа.
Да Понте приказал подать крепкого рейнского вина.
— Это вино моих родных холмов, — пояснил он.
Неряшливо одетая девчонка принесла вино и сухари и, в ожидании уплаты, стояла у стола, сося палец. Бруно нагнулся к да Понте, дотронулся до хлеба и до фляги с вином и сказал:
— Hoc est meum corpus[328].
Да Понте отшатнулся.
— Что вы такое говорите?
— Я монах. Сбежавший монах, как видите. Но никто, даже сам Папа, не может отнять у меня способности освящения. Она проявляется ex opere operato[329]. Хотя бы им и не нравилось то употребление, какое я делаю из этой своей способности, — они бессильны. Они могут только сжечь меня, это, конечно, решило бы борьбу в пользу Церкви… А быть может, и нет.
— Зачем вы это сделали? — спросил да Понте, отодвигая вино. — Я — добрый католик. Я знаю, что Церковь имеет свои недочёты, но верю, что они будут исправлены. Дальше этого я не иду. Прошу вас, не возлагайте лишних грехов на мои плечи, иначе мне придётся рассказать об этом на исповеди. А этого, — добавил он дружески-многозначительным тоном, — этого я делать не хочу.
— Испугались! — усмехнулся Бруно.
— Да.
Гнев Бруно сразу испарился.
— Простите.
Его мучило чувство утраты, на каждом шагу испытываемое им. Ничто не могло облегчить этого чувства. Вот он сейчас теряет да Понте. Ему захотелось умереть. Бремя мудрости становилось не под силу. Нет, неправда! Он так устал только оттого, что не в силах начать всё сначала, строить с фундамента, как он твердил Мочениго. Мысль о Мочениго овеяла холодом, потому что он знал, что вернётся в этот дом, где на него злы, где за ним шпионят.
Да Понте нерешительно ёрзал на стуле. Ему не хотелось поднимать истории или показаться трусом, но он не мог себя заставить пить это вино. Он пролил несколько капель, поморщился.
— Извините, — сказал он, — мне пора идти.
Это бегство вызвало у Бруно печальную усмешку. Какой-то оборванец, сидевший на конце той же скамьи, придвинулся ближе.
— Подайте милостыню ради Христа, — пробормотал он.
— Ради Христа? А что, если я — турок?
Оборванец недоверчиво проворчал что-то. Бруно стал задавать ему вопросы. Ему хотелось вникнуть в жизнь других людей, до сих пор он был слишком поглощён философскими размышлениями. Он хотел разобраться во внутреннем механизме человеческих побуждений. Отчего в голосе, выходившем из глотки этого человека, звучали хриплые ноты озлобления против несправедливости?
Он узнал, что человек этот сын фермера с холмов. Как жаль, что ушёл да Понте! Любопытно было бы поставить его лицом к лицу с этим земляком, вырванным с корнем из своей среды. Устояло бы перед этой встречей его мирное довольство жизнью, его идиллическая простота? Отец оборванца попал в лапы ростовщика, ферму отняли и семью выгнали на улицу. Отец нанялся в пастухи и скоро умер. Сын тоже сначала был пастухом, но лишился работы из-за каких-то проказ, о которых он рассказывал Бруно с такими подозрительными недомолвками, что Бруно утратил к нему всякое сочувствие. Бывший пастух приехал в Венецию, рассчитывая найти какую-либо работу в порту.
Интерес Бруно к собеседнику быстро исчез. Ему было противно подобострастное заискивание этого человека. Он дал ему крону и тут же с ужасом вспомнил, что нужно достать денег на рисунок в альбоме. И зачем он выбрал такого дорогого художника, как де Бри? Можно было найти здесь в Венеции кого-нибудь, кто и возьмёт недорого и нарисует хорошо. Чьотто ему бы, наверное, рекомендовал кого-нибудь. Тем не менее он был доволен, что попадёт в альбом немца. Всё ещё озабоченный вопросом о деньгах, он уже придумывал рисунок, который закажет де Бри, послав ему набросок.
Он вышел из таверны и подозвал гондолу. Выбора не было, нужно было возвращаться в дом, ставший ему ненавистным.
XII. В церкви Святого Павла
Фра[330] Доминико нерешительно замолчал. Проповедник Миланского собора, блюститель совести и священных канонов сдвинул брови и затем улыбнулся с холодноватой любезностью. Дотронулся до плеча фра Доминико.
— Такие вещи не стоит принимать близко к сердцу. Всё уладится.
Фра Доминико ответил с усилием:
— Мне больно, что в такое время, когда еретики вокруг злобно торжествуют, мы не можем сохранить согласие или хотя бы некоторую благопристойность даже у нас в Италии.
Член ордена «Слуг Божиих» деликатно кашлянул.
— Но вам известно положение вещей. — И он продолжал свой рассказ: — Итак, генерал…
— Это Лелио Бальоии из Флоренции? — вставил миланец.
Монах утвердительно кивнул головой:
— Да. Он заявил в реформатской конгрегации[331]…
— Поставленной над всеми монахами, — ввернул миланец.
Монах кивнул головой и нахмурился.
— Да. Заявил, что Габриель — грешный и дурной человек, на котором тяготеет много преступлений. Он даже позволил себе сказать, что протектор извлекал выгоду, где только мог, нанимая шпионов в любых судебных процессах, участвуя в тёмных делах, которые предосудительны для всякого человека, а тем более для того, кто желает быть генералом такого ордена.
— Так, — отозвался миланец, складывая руки. — Значит, две партии. На одной стороне Габриель, командующий монахами с помощью кардинала, который находится за границей. На другой — генерал и его приверженцы…
— Которые обо всём сообщают и кардиналам, и самому святому отцу, а в особенности жалуются им, будто бы протектор лишил генерала всякого авторитета, чтобы показать, что милостей и справедливости можно ожидать только от Габриеля. Такое потворство пороку привело кардинала в ярость…
Фра Доминико пробормотал, что следовало бы запретить в монастырях образование различных братств, так как это ведёт к расколу в ордене.
— Таким образом, — заключил монах, — брат Габриель запутал провинциала. Он обвинил его перед инквизиторами Рима в каких-то неблаговидных поступках, в том, что он якшается с евреями, и рассказал историю с шифрованным письмом. Он подговорил его племянника, живущего в нашем городе, обвинить дядю перед местной Инквизицией. В этом и заключается вся хитрость. Маэстро Санто, племянника, научили заявить дяде, что он сочувствует партии генерала, так как они уповают, что их на собраниях капитула[332] осеняет Святой Дух. Фра Паоло, разумеется, не одобрил этого и возразил, что вернее было бы действовать обычными человеческими способами. Это дало возможность племяннику обвинить его перед Инквизицией в том, будто он не верит в помощь Святого Духа.
Разговор продолжался. Миланец захотел обменяться мнениями о сиенском монахе, который получил от нунция разрешение изгонять заклинаниями бесов и, по слухам, вселял в жён своих сограждан не меньше бесов, чем изгонял. Фра Доминико был расстроен. Ему хотелось прекратить этот разговор, но необходимо было узнать от собеседников обо всём, что происходит в церкви. Он подумал, что, пожалуй, лучше было бы, если бы он вступил в какой-нибудь менее воинствующий орден, чем орден доминиканцев[333]. А монах продолжал рассказывать:
— Епископ убедил партию кардинала ввести на собраниях капитула следующее новшество: заставить настоятеля впустить в монастырь солдат для предупреждения беспорядков. Настоящей же его целью было устрашить противную партию. Но результатом было только то, что обе партии ещё более ожесточились. Собрание продолжалось целых восемь дней вместо нескольких часов. Солдаты думали, что всё благополучно, так как у монахов, по-видимому, даже ножей не было. И они оставили своё оружие в монастырских коридорах, а сами разбрелись кто в погреба, кто в кладовые. Монахи рассвирепели, видя, как эти бездельники оскорбляют религию, уничтожая монастырские запасы еды и вина. Недовольные распустили слух, будто те, кто пойдёт против кардинала, будут брошены в тюрьму или сосланы на галеры.
Миланец беспокойно ёрзал на месте. Он эту историю уже слышал и перебил рассказчика:
— Потом однажды вечером прибыл епископ с новым посланием от его святейшества, спешно отправленным из Рима, разрешавшим ему выгнать генерала и по своему усмотрению либо продолжать, либо прекратить собрание. Перед епископом несли два обнажённых меча, и в покои монаха ворвался отряд солдат…
Фра Доминико вздохнул. Грустно было слышать о таких вещах — да ещё в самый День Святой Троицы. Ему хотелось отделаться от этих людей с их рассказами об обманах и насилии. Матери-церкви есть о чём сокрушаться: нерукотворную ризу Христову все терзали на части. Фра Доминико оглядел мрачное помещение, в котором уже стояла наготове церковная бутафория. Покров для аналоя, красный с золотыми цветами, бесплатно заштопанный женой шёлкоторговца, жившего за церковью. Серебряная позолоченная дарохранительница. Красное атласное облачение из Брюгге. Полотняный покров, на котором было изображено снятие со креста. Жестяная лампа с плохо подрезанным фитилём. Церковная риза голубого бархата с золотыми цветами. Четыре покрова для алтаря, пышный ворох алого Дамаска и бархата с рассыпанными по ним золотыми цветами. Футляр для антиминса, пара подсвечников, оловянная дароносица и сосуд для елея. Глаза фра Доминико подолгу задерживались на каждом из этих предметов, и спокойствие возвращалось к нему. Всё это были давно знакомые вещи, вещи, проникнутые для него подлинным значением.
Оба посетителя ушли, незаметно исчезли из поля его зрения, и он не помнил, простился он с ними или нет. Он внезапно очутился один и заметил их уход только по сгустившемуся вокруг него мрачному унынию, которого больше не разрежали человеческие голоса. Фра Доминико вздохнул снова, подумав о своих родителях, которые умерли в бедности, не дождавшись радостного дня его посвящения в сан. Почему это День Святого Духа вызывает из забвения образы умерших?
Фра Доминико знал: сейчас придёт к нему пономарь жаловаться, что засорился водопроводный кран. Он прошёл в церковь мимо большой статуи дожа Паскале, не замечая ни единого из загромождавших церковь памятников дожам и сенаторам, капитанам и адмиралам, даже художникам. Нищенствующим монашеским орденам было предоставлено право продавать в пределах их владений места для гробниц, и доминиканская церковь Святых Джованни и Паоло была полна соперничавшими между собой надгробными памятниками. Простые саркофаги первых дожей стояли рядом с затейливыми позднейшими сооружениями. Фра Доминико, настоятель церкви, не замечал всего этого. Он видел только обширное пространство в глубине церкви, пешеру Божию, освещённую сверху окнами, о которые бились воображаемые тела ангелов…
День Святой Троицы, День сошествия Святого Духа. А что же сталось с даром Святого Духа — с пламенными языками? Люди пользуются своими языками только для того, чтобы поносить друг друга и сеять раздор.
Фра Доминико свернул в левый боковой придел за вторым алтарём. Он преклонил колена перед висевшим здесь распятием, мягко освещённым мерцанием свечей на алтаре и блеском золотой дароносицы. Колонны, разветвляясь, удерживали каменные своды, как терпение Божие удерживает гнев его, мешая ему обрушиться и раздавить смертных, ползающих внизу. Эти фонтаны из камня тёмными струями устремлялись вверх, словно чьи-то руки, протянутые в мольбе, словно ангелы, чьи тела скрыты за сложенными крыльями. На фра Доминико сошло успокоение. Он уже помнил только одно — что дамасковый покров на алтаре в нескольких местах закапан воском и до сих пор не вычищен.
В эту-то минуту и заговорил с ним незнакомый человек. Без сомнения, какой-нибудь прихожанин, удручённый мирскими заботами, ищущий душевного успокоения. «Разве не доказательство божественной миссии Церкви, — сказал себе фра Доминико, — то, что она, несмотря на разрушающие её изнутри раскол, и симонии[334], и алчность курии[335], ещё способна изливать на верующих благословение Божие?» Сердце фра Доминико забилось от гордости, что он, грешный, он, на которого смотрят как на выжившего из ума старика, ещё может быть посредником между человеком и милосердным Богом. «Дай Боже, чтобы в моём ордене не было таких раздоров и скандалов, как в ордене иезуитов», — молился он про себя.
В церкви было много народу. Влюблённые пары, по-праздничному разодетые, тщетно искали укромных уголков, старухи в чепцах и вуалях молились, у входа болтали и пересмеивались любители сплетён. Все звуки гулко отдавались в обширном пространстве церкви и таяли под сводами, как дым свечей, а со стен глядели вниз Христос и Матерь его и святые, всё более и более темнея и расплываясь во мраке… Даже увековеченные здесь мертвецы, великие мира сего, странно тревожили воображение в этом пещерном полумраке. В чопорном великолепии памятников из металла и камня воплощалась мечта человеческой плоти стать нетленной, как вековые скалы.
— Что скажете? — спросил фра Доминико, думая уже о том моменте, когда братия с белеющими в полумраке тонзурами[336] займёт свои места на хорах и зазвучит «gloria»[337], возвращая всем надгробным статуям и живым людям их подлинные размеры, словно сплющивая их под холодными каменными сводами дома Божия. Перед гробницей дожа Томазо Мочениго фра Доминико остановился, и тут, у портрета человека, который умер сто пятьдесят лет тому назад, но смотрел с портрета как живой, и заговорил с ним незнакомец. Он, видимо, только что прочитал надпись под портретом и хмурился, точно чем-то испуганный.
— Не будете ли вы добры отойти со мной куда-нибудь, где меньше людей? — спросил он, и фра Доминико подумал, что он уже когда-то слышал этот голос. Старый священник поднял своё широкое загрубелое лицо, такое тяжёлое, что, казалось, его так же трудно было поднимать, как ослу трудно поднимать опущенную морду, скуластое, с большими ноздрями и грубо очерченным ртом. И узнал говорившего. Он почувствовал, что всегда ждал этой встречи, — и теперь испугался уже фра Доминико. Он чувствовал, что дрожит. Впрочем, он ведь всегда зябнет, ему не холодно только на солнце. Зимою приходится держать в руках горячие утюги, обёрнутые в тряпки. Проснулась обычная застарелая боль в лопатках.
— Пойдёмте, — сказал он и отвёл незнакомца в сторону, за чью-то гробницу. Он не мог придумать, куда бы увести этого человека. «Слава Богу, — твердил он мысленно, — слава Богу, он пришёл исповедаться в грехах, он хочет примириться со Святой Церковью».
— Я не раз приходил сюда в последние дни, — сказал посетитель. И в этих словах фра Доминико почувствовал что-то обнадёживающее. Он вглядывался в лицо скитальца и видел, что оно изборождено морщинами долгих страданий. «Благодарение Господу!» — опять подумал фра Доминико. Значит, этот человек понял свои заблуждения, очистился от беззакония страхом и раскаянием. Фра Доминико читал всё это в глазах стоявшего перед ним человека и думал о том, что он всегда был ему симпатичен. Всё отхлынуло от его души, уступив место восторгу. «Прости мне, Боже, грех зависти, ибо вчера я позавидовал отцу Серафино — его прекрасному почерку, бойкости и находчивости. Прости мне, Боже, грех любострастия, ибо вчера, когда та девушка в красном корсаже рассказывала мне на исповеди, что она проделывала со своим любовником, я почувствовал вожделение. Я отказываюсь от всех честолюбивых желаний. Дай мне только стать твоим верным сторожевым псом, canis Domini. Накажи меня за слабость, за малодушие, из-за которого я жажду лёгких путей в жизни и плачу от жалости к неверующим».
Ему хотелось бы только плыть по этому озеру тихого мрака, сбирая лилии Пресвятой Девы. Он закрыл глаза и увидел всё это — Марию и её три лилии и множество меньших белых лилий, непорочных великомучениц. Белых лилий, что превратились в алые розы в огне и крови мученичества, а розы побелели чистой белизной смерти и, подобно снежным хлопьям, засыпали кровавые раны юной девы, святой Евлалии Меридской.
Фра Доминико с усилием разорвал узы этого сна наяву, искушавшего его, и помолился, чтобы Бог дал ему спасти душу человека, стоявшего перед ним. Какая радость будет на небесах!
Он облизал губы, хотел спросить: «А вы видели фра Серафино и фра Джованни? Ведь фра Джованни тоже из нашего монастыря в провинции». Но вместо этого сказал только:
— Здесь нас никто не услышит.
Посетитель назвал себя: «Я — Джордано Бруно, отлучённый от Церкви». Фра Доминико кивнул головой: «Да, я не забыл вас». Потом, помолчав, сказал, что помнит, как Бруно ходил для него за покупками, когда он был болен. Бруно стремительно начал рассказывать свою историю, часть которой уже была известна фра. Доминико. Он говорил, что в Неаполе его осудили за сущие пустяки, только по злобе и ненависти к нему за серьёзный интерес к наукам. И эти преследования вынудили его стать скитальцем, они виноваты во всех ошибках, которые он, быть может, делал с тех пор.
— Если бы вы знали, какие ничтожные обвинения выдвигались против меня. Выдумали, будто я похитил статуэтки святых и изображения святой Екатерины Сиенской и святого Антония. Будто бы я сказал, что «Жития отцов» приятнее читать, чем «Семь радостей мадонны».
— Кажется, в обвинительном акте было сто тридцать пунктов?
— Да, это позднее. Но всё — злые наветы. Справедливо ли, что нам дозволено читать Новый Завет и Златоуста, но не дозволено читать комментарии Эразма? Книги нашли в отхожем месте, куда я их выбросил. Этого я не отрицаю. Но разве это причина, чтобы так злобно меня преследовать?
Фра Доминико устало махнул рукой:
— Я плохо помню… но там что-то говорилось насчёт Ария[338]…
— Это чисто учёный спор… я доказывал, что Ария неверно поняли. Он не утверждал, что в начале всего было Слово… И в другом случае я цитировал святого Августина… Я просто пытался разъяснить текст. Что в этом еретического?
— Я вам не судья. — С внезапным душевным облегчением, но одновременно с глубокой тревогой и жалостью фра Доминико решил, что ему в этом деле трудно разобраться, что оно вне его компетенции. Он доложит о нём генералу ордена, а не отцу инквизитору.
Бруно торопился досказать всё до конца:
— И вот, отец мой, я убежал. Я был молод. Боялся, что я потопил этого человека. Он меня ненавидел. И признаюсь, мне хотелось повидать свет. Но никаких дурных намерений у меня при этом не было.
Он рассказывал о своих странствиях, о Венеции, Женеве, Тулузе, Париже, Лондоне, Виттенберге, Франкфурте.
Фра Доминико не следил за этим отрывистым и беспорядочным рассказом.
— Вы много лет жили среди еретиков, — сказал он, когда Бруно сделал паузу. — Вы не можете не быть заражены. И заблуждения ваши очень серьёзны. Вы отлучены от Церкви провинциалом. Сколько лет этому? — Тень времени серой тоской надвинулась на Фра Доминико, холодом проникла до самых костей. — А с тех пор как вы отлучены от Церкви, принимали вы святое причастие?
— Нет, отец мой.
— Это хорошо. Но какой дорогой ценой заплатили вы за свой грех! Столько лет не вкушать тела Божия, питающего дух наш, копить грехи, не получая благословенного отпущения на исповеди! Не может быть, чтобы вы не были заражены!
— Отец, отец, выслушайте меня. Я в Париже был у одного иезуита, французского нунция[339]. Я обращался к испанскому посланнику Мендосе как представителю моей родной провинции…
Он продолжал рассказывать о своей дружбе с посланниками и государями, о спорах с академиками, которых он аттестовал как возмутительных педантов, пока это в конце концов не рассердило фра Доминико.
— А на какие средства вы живёте в Венеции? — резко перебил он речь Бруно и прислонился к памятнику, слушая, как глухо, словно в пустоте, бьётся его сердце.
— Я живу здесь всего несколько месяцев у моего покровителя, знатного вельможи. Я веду скромный образ жизни. Мне нужны только немного денег и комната для работы, других желаний у меня не осталось. И как раз сейчас я жажду писать. У меня задумана книга… Она уничтожит всякий раскол в Церкви. Она возвысит души человеческие над этими нелепыми раздорами.
— Другие задавались такими же целями, — возразил с горечью фра Доминико. — Но только увеличили раскол.
Слова Бруно затронули в нём чувствительную струну. Они словно посланы были свыше в ответ на вопль его души. Или это насмешка сатаны? Фра Доминико был уже немолод. Он за свою жизнь видел в мире больше, чем хотел бы видеть, и знал, что на такую молитву, как его, ответа свыше не бывает.
А Бруно между тем страстно объяснял ему, что разлад вызван следующими причинами: тем, что люди не слушают разумных доводов, а те, кто руководит ими, упрямо держатся за недоказуемые догматы, неверно толкуют самые простые явления, создают какие-то тайны.
— Каждое слово или поступок есть форма действительности, иначе как бы они могли существовать? Но мы неверно понимаем связь между явлениями. А главное — мы не решаемся признать, что живём в мире перемен. Даже целое не может никогда повториться в том же виде, если части вечно меняются. Я взываю к свидетельству чувств и разума. Я создаю братство на основе человеческой потребности в совместной работе.
— Я понял очень немногое из того, что вы говорили, — промолвил фра Доминико сурово. — Но это немногое мне кажется предосудительным и неверным.
— Я недостаточно объяснил вам всё, — возразил Бруно. — Вы со мной согласитесь, когда прочтёте подробное изложение моих мыслей.
— Это в книге, о которой вы упоминали?
— Да. Но я написал пока только несколько страниц. Я знаю, какие затруднения впереди. Я не хочу раньше времени оглашать мои идеи. В книге, над которой я теперь работаю, я ставлю себе более простые задачи. Я думаю посвятить эту книгу его святейшеству. Она называется «Семь свободных искусств», и в ней я стараюсь указать общую основу для всех видов знания. Это будет академический труд в такой форме, которая, по-моему, мне очень удаётся, — но эта книга идёт дальше других. Я хочу, чтобы она была залогом моего примирения с Церковью.
Снова фра Доминико ощутил глубокую жалость, когда всмотрелся в напряжённо-страстное лицо этого человека, так мучительно старавшегося убедить его. Снова его охватило желание спасти душу Бруно, но он отмахнулся от этого желания, как от суетного тщеславия. Он знал, что недостаточно образован, чтобы спорить с Бруно, и не доверял чувствам, которые тот возбуждал в нём. Вопреки рассудку, он тешил себя надеждой, что в конце концов Бруно тот человек, который восстановит мир и согласие в общине Христовой. А за этой надеждой смутно шевелились все его личные чаяния и тайные сомнения. Однако в конце концов от пылких речей Бруно у фра Доминико осталось впечатление, что перед ним — окаянный грешник.
— Я хочу ехать в Рим, — продолжал Бруно, — поселиться там и заняться литературой, а то и чтением лекций. Я создал себе имя, смею сказать, громкое имя, но всё, написанное мною до сих пор, — только самый беглый набросок того, что я могу написать. Если уж и за то, что я сделал, люди восхваляют меня, то вообразите, какую славу я могу создать себе, если я когда-нибудь буду иметь твёрдую почву под ногами. Скажу, не хвастая: во мне есть какая-то магнетическая сила, привлекающая учеников. Я мог бы изобрести новую религию, но у меня есть чувство юмора… — Он спохватился и, делая попытку замять вырвавшиеся нечаянно слова, развязно продолжал: — То есть я хотел сказать, что я верен католической церкви. Я не хочу быть распятым. — Он ещё сильнее смешался. — Что за чепуху я говорю… Я взволнован тем, что опять вижу вас… Я несомненно имею право занять место рядом с Аристотелем, Орфеем[340] или Пифагором. — Голос его упал до умоляющего шёпота: — Как вы думаете, его святейшество примет мои предложения?
— Не знаю, — сказал фра Доминико устало, стремясь теперь поскорее умыть руки во всём этом деле. Ему ничего уже больше не хотелось от жизни — только права слушать уверенные голоса, поющие «gloria». А потом — зазвонит колокольчик, поднимут вверх хлеб — преломлённое тело Христово — и шёпот благоговейного страха пробежит в толпе, преклонившей колени.
— Я прошу так мало. Только чтобы меня не заставляли носить одежду монаха и подчиняться монастырскому уставу.
— Ничего не знаю. Я не уполномочен дать вам тот или иной ответ. Но я вам желаю добра. — Эти слова вырвались у фра Доминико невольно. Ему столько хотелось сказать ещё, попросить, предостеречь, но он с трудом ограничился банальными словами: — Не могу выразить, как меня радует ваше раскаяние и желание вернуться в лоно Матери-Церкви.
— Да, я только того и хочу, — отозвался Бруно, и опять умоляющее, детски-стремительное выражение его лица, неистовая страсть, пылавшая в этих глазах, не знающих сна, резанули фра Доминико по сердцу. — Помните, как я гордился тем, что выучил наизусть по-еврейски весь восемьдесят шестой псалом и надоедал вам, заставляя слушать, как я читаю его? Вы тогда что-то писали. Что?
— Книгу, которую я давно уничтожил. На свете достаточно книг и без неё.
Наступило молчание. Потом Бруно простился с фра Доминико, обещав часто навещать его. Фра Доминико смотрел ему вслед, когда Бруно уходил своей торопливой нервной походкой, немного сутуля плечи. На левом башмаке у него была дыра. Фра Доминико вздохнул. Не ему решать это дело. Его решит Святая Церковь, рассмотрев все факты и обстоятельства.
XIII. Возврата нет
Бруно наугад пробирался к выходу из церкви. Ему казалось, что, куда ни повернись, повсюду лезут в глаза надгробные памятники семьи Мочениго. Дож Алоизо Мочениго с женой Лориданой-Марчеллой были увековечены большой памятной доской над главным входом. В конце переднего придела находилась гробница дожа Джованни Мочениго. А у стены в северном приделе высился памятник дожу Пьетро Мочениго — работа Ломбарди — с двумя барельефами, напоминавшими о его военных подвигах. Трудно было поверить, что ученик Бруно — представитель рода, некогда столь деятельного и уверенного в своих путях.
Бруно вышел из церкви. В дверях он посторонился, пропуская какую-то женщину в бархатном платье и густой вуали, которая привела в церковь с полдюжины детей в шёлковых штанишках с прорехами спереди и сзади и выпущенных поверх рубашках. Его окружили нищие. Назойливее всех был какой-то матрос, покрытый сифилитическими язвами, клянчивший денег на покупку целебного «индийского дерева». Бруно дал ему крону. Остальные нищие завыли от зависти. Но Бруно с содроганием поспешил прорваться сквозь их кольцо и вышел на Кампо. Матрос последовал за ним, распространяя зловоние.
— Я знаю, кто меня наградил этой неаполитанской болезнью, — сказал он. — Когда я заработаю себе на обратный путь, я её разыщу и убью. Только ради этого я и живу.
— Уходите прочь! — закричал Бруно.
Мелькнул перед глазами лепной фасад, сверкавший алебастровым блеском, и на фоне его — нищий на корточках, покрытый багровыми болячками; огромная статуя Коллеони[341] работы Вероккио, победоносная и страшная фигура могучего кондотьера в полном вооружении, неудержимо стремящаяся вверх, золотая в солнечном сиянии. Бруно перешёл через мост и вышел на Кампо, где стояла старая церковь Святой Марии Формозы, Марии Прекрасной. Отсюда он пошёл дальше, через Понте Парадизо, по Калле дель Парадизо. Внимание его привлёк красивый готический фронтон с гербами Фоскати и Мочениго и барельеф, изображавший Пресвятую Деву с жертвователями[342]. Он плюнул и, не замечая дороги, прошёл опять через какой-то мост, потом через кладбище за церковью и очутился на Мерчерии. Ему пришла мысль зайти в книжную лавку Чьотто. Но там он узнал, что Чьотто ещё не вернулся из Франкфурта. «Жаль, что я не поехал с ним», — подумал Бруно, испытывая тёплое чувство к Чьотто, так как увидел на полке несколько экземпляров своей книги «О причине, начале и едином» и свою «Camoeracensis Acrotismus» рядом с сочинениями Валлы, Кардано, Бароччи[343], Телезио[344]. Он брал с полки одну за другой книги этих авторов и перечитывал некоторые места — и неожиданно для себя обнаружил, что с очень многим согласен. Опять почувствовал себя участником какого-то общего движения, утихли муки болезненной гордости и отчаяния. Пока в нём жила вера в родство душ, в движение, в котором он участвует, не было надобности в самоутверждении. Сознание, что он трудится для общей цели, вносит свою лепту, давало ему полное удовлетворение.
Жена Чьотто, которой приказчик сообщил, что в лавке находится хороший знакомый её мужа, пришла узнать, не надо ли ему чего, и пригласила Бруно в комнаты подкрепиться. Это была маленькая женщина, похожая на сдобную пышку, розовощёкая, с очень полной нижней губой. Из разговора с ней Бруно понял, что она ревнует мужа и хочет выведать у человека, встречавшегося с ним во Франкфурте, нет ли там у Чьотто любовницы. Она пожала руку Бруно своей пухлой влажной рукой, оцарапав его эмалевым кольцом, и повторила приглашение: не желает ли он выпить превосходного вина, присланного ей дядей, у которого свой виноградник в Монте Фьялкони близ озера Больсена. Говоря это, она переменила позу, чтобы выставить из-под юбки маленькие ножки в красных туфлях. Но Бруно, найдя какой-то предлог, отказался от угощения и ушёл из лавки.
По дороге он зашёл в кабачок выпить вина. Бруно клял себя за трусость, твердил мысленно, что ищет в вине мужества, которого у него не хватает ни на что, кроме схоластических споров. Но он знал, что не трусость его удерживает. В нём накипало страстное возмущение, потребность обижать женщин, отказываясь от их любви. И в то же время он понимал, как бессильно его желание, понимал, что от его отречения страдать будет лишь он один. Оно могло бы заставить страдать женщину только в том случае, если бы она его любила. Но если бы в прошлом его любила какая-нибудь женщина, может быть, всё было бы иначе.
Мир по-прежнему ускользал от него, и когда он простирал руку, он не осязал того, до чего хотел дотронуться. Он терял ко всему интерес. В праздник Вознесения, когда с террас и из окон дворцов свисали ковры и дорогие ткани, Джанантонио, дёрнув Бруно за рукав, указал ему на Бучинторо, большую золочёную галеру республики, полную раззолоченных статуй и сенаторов в пурпуровых тогах с широкими рукавами. Дож на троне, окружённом раззолоченными рабами; статуя Скандербега[345], победителя турок, а на другом конце галеры — статуя правосудия с обнажённым мечом; на носу и на корме — по крылатому льву. Всё золочёное, ослепительно-золотое, так что глазам больно смотреть. Статуя правосудия вынуждена была заслонить ослеплённые глаза. Вокруг народ вопил от восторга. А позади легко скользила процессия золочёных галер и гондол, расцвеченных флагами. На острове Святой Елены епископ Костелльский со своим клиром угощал прибывших чищеными каштанами и красным вином, а дож поднёс ему розы Дамаска в серебряной чаше. Одну розу он взял себе. Потом великолепная галера поплыла через порт Лидо в открытое море. Патриарх освятил кольцо и подал его дожу, а тот бросил кольцо в море, произнося традиционную фразу: «Море, обручаемся с тобой этим кольцом в знак нашего неизменного и вечного господства над тобой». Загремела весёлая музыка с галеры музыкантов, и дож отправился к мессе в церковь Святого Николо, а потом вернулся в Моло. Вечером во дворце герцога состоялся банкет для адмиралов и ста высших чиновников арсенала, городских властей и послов. Теперь, в век кругосветных плаваний, Венеции грозила утрата монополии на торговлю с Востоком. Но она всё ещё была очень богата, и всё так же крепко держалась в ней превосходно организованная власть замкнутого круга богатой знати.
Народ встречал всех приветственными кликами и шумно веселился. Мочениго был в дурном настроении, оттого что ему дорого обошлось новое платье, которое пришлось заказать к празднику, и в то же время тщеславно любовался собой. Джанантонио дулся, потому что ему обещали принести сласти с банкета — и не принесли. Бартоло в пьяном виде свалился с чёрной лестницы. Пьерина с сонной усмешкой глядела на всё из глубины дома.
Бруно, сидя в одиночестве за вином, думал: «Гораздо интереснее глядеть, как барки, нагруженные дынями, плывут мимо поутру, бродить по набережным и наблюдать за рыбачьими лодками, увидеть на улице среди шумной толпы растерявшуюся деревенскую девушку в соломенной шляпе и блестящем кушаке». В последнее время его внимание привлекали всякие незначительные явления, своеобразные формы жизни. И почему-то вслед за этим новым интересом пришло ощущение, что он нашёл новые ценности, каких до сих пор ещё не находил.
Пышное зрелище, которое он наблюдал в день Вознесения, уже не казалось ему проявлением кипучей, бьющей через край жизни, изобилия, которое, от полноты скрытой в нём радости, превратилось в торжественный ритуал праздника. Нет, он видел лишь маску страха, видел, как алчность и ненависть подавляют что-то, что отчаянно борется за право выглянуть из-под позолоты.
Его влекли к себе рыбачьи лодки под красными парусами. Он любил поболтать на берегу с каким-нибудь старым рыбаком. Рыбаки по цвету воды распознавали каналы. В Северном — вода жёлтая, в канале Святого Эразма — голубая, на Лидо — красная, в Мальмокко — зелёная, в Кьодже — фиолетовая. Бруно хотелось нанять лодку и съездить наконец на Лидо, где, по рассказам старого рыбака, вода сверкает вифлеемскими звёздами; постоять у маяка, наблюдая, как моряки съезжают на берег, чтобы наполнить свои бочонки пресной водой и помолиться Святому Николо. Полюбоваться простором Адриатики, мерцавшей всеми оттенками голубого цвета, от светло-бирюзового до густой синевы ультрамарина, и пестревшей пятнами парусов, от тёмно-красных до огненно-оранжевых. Увидеть Венецию в разливе заката.
Он был мудр, этот старый рыбак с пергаментными морщинами вокруг смеющихся упрямых глаз.
«Я тоже буду, как рыбаки, находить свой путь по цвету воды. Ничего больше не хочу от жизни».
В прошлую субботу он видел женщину, сидевшую на плоской черепичной крыше, в соломенной шляпе без тульи, с широкими полями. Такие шляпы обычно надевали женщины, когда сушили волосы на солнце. Голова женщины блестела, так как волосы сначала намазывались маслом и какими-то снадобьями, придававшими им золотистый оттенок. Волосы рассыпались поверх полей шляпы и свисали с её краёв. Бруно знал, что венецианки сушат волосы также на медных щитах, чтобы придать им оттенок червонного золота. Та, за которой он наблюдал, держала в руках зеркало, и перед ней стоял таз с водой, по которой плавала грязная пена. Старательно просушив волосы, она стала завивать их щипцами и укладывать в модные локоны и рога. Субботние послеобеденные часы обычно посвящались таким процедурам.
Эта картина вспомнилась Бруно, когда он выходил из кабачка, где толпилось множество длинноволосых греческих матросов. В ту же минуту он увидел женщину, которая шла мимо одна, без провожатых. Она была хорошо одета, обута в туфли на деревянных каблуках высотой, по меньшей мере, в две ладони. Чаще всего каблуки красились белой, красной или жёлтой краской. У этой женщины они были обтянуты тиснёной кожей и разрисованы цветами. Бруно удивило, что она одна, так как большинство женщин, достаточно богатых, чтобы одеваться так, как была одета эта незнакомка, никогда не решались выходить без провожатых, — не только из-за ревности их мужей, но ещё и потому, что опасно было ходить на высоких каблуках по улицам Венеции, не имея того, на кого можно опереться. Волосы у женщины былимедно-рыжие, несколько прядей падали на её невысокий батистовый воротник, выбившись из-под вуали, явно надетой впопыхах и съехавшей теперь на сторону.
Бруно пошёл за ней следом, спрашивая себя, чем объясняется её тяжёлая и неровная походка — страхом или неудобными каблуками. Впрочем, если бы она спасалась от погони, она догадалась бы снять каблуки. Следуя за ней, он сочинил мысленно разные истории, подходившие к данному случаю. То он решал, что это неверная жена, у которой было только что свидание с любовником, и он смертельно обидел её какой-нибудь грубостью, теперь она бежит от него, не замечая дороги. То она представлялась ему честной мужней женой, которая не в силах больше мириться с тем, что её считают чем-то вроде кухонной утвари, и убежала из дому, чтобы начать самостоятельную жизнь, учиться, читать. Оба эти предположения ему понравились. Ему хотелось, чтобы это была ветреная и распутная потаскушка, которая отдастся ему под первыми воротами, — и в то же время он мечтал, что это невинная девушка, которую он один во всём мире способен понять, спасти и защитить.
Переулок упёрся в какие-то каменные ступени, круто уходившие вниз. Женщина начала спускаться, неуклюже переставляя ноги и держась рукой за полуразрушенную стену. Бруно ощутил её падение ещё раньше, чем она упала. Ему казалось, что он остерёг её криком, но он не крикнул, только ощутил мгновенно какую-то пустоту внутри. Всё произошло так быстро и настолько соответствовало его ожиданиям, что у него возникло ощущение, будто это он столкнул её вниз, хотя он был от неё на расстоянии многих ярдов. Странно было, что она и не вскрикнула. Бруно легко сбежал вниз и увидел, что женщина лежит на земле под лестницей, платье её в беспорядке, голова в луже. Он машинально заметил на одной из её голых икр розовое родимое пятно, заметил и то что нижнее бельё на ней грязное и рваное. Он приподнял ей голову, увидел тёмный синяк ушиба, — и ему захотелось поцеловать её в полные губы. Вдруг он понял, что женщина мертва. В припадке панического ужаса он выпустил из рук её голову, которая упала обратно в лужу, и, повернув за угол, быстро прошёл мимо компании подмастерьев, заигрывавших с проститутками, и опять вмешался в празднично настроенную толпу. Несмотря на весь охвативший его ужас, он чувствовал, что смерть этой женщины, в сущности, не имеет никакого значения. Но ему хотелось вернуться обратно.
Он подумал: «Непременно надо повидать ещё раз Титу». Какая-то тёмная жажда томила его, и он чувствовал себя предателем. Ведь он предал её, когда она пришла к нему с откровенным желанием. Если даже это желание было только ужасным смятением души, достигшим последнего предела, — всё равно, следовало покориться её желанию, помочь ей перешагнуть этот барьер. Может быть, её толкали на это лишь ревность к матери, страх перед ним, Бруно, которого она перестала понимать, и стыд за собственное тело, слишком настойчиво томившее её грешными снами. Что бы это ни было, одно ясно: он пренебрёг Титой, после того как умышленно старался разбудить в ней чувство. И теперь он говорил себе: «Я начну всё сначала, я сойдусь с Титой. И серьёзнее займусь новой математикой, вникну в попытку открыть новые методы вычислений, которые я критиковал, считая, что они направлены по неверному пути».
Он наконец выбрался на Фреццарию, свернул в боковую улицу и постучал в дверь дома, где жила Тита, чувствуя, что всем его тревогам наступит конец, когда дверь откроется и Тита встанет на пороге, поправляя своей тонкой рукой кудряшки на затылке, тихая и в то же время решительная, — и её подбородок с ямочкой не будет сегодня жалобно дрожать, а в глазах не будет испуга и мольбы. Быть может, он попросит её уехать с ним, — но всё это можно обдумать после. Может быть, он ещё откажется от намерения склонить на свою сторону Папу и уедет во Франкфурт. Гейнзель и другие окажут ему поддержку. Но сейчас он не может ничего решать. Решение придёт вместе с запахом её распущенных волос и дождём поцелуев, с прикосновением к мягкому местечку под её коленями, с бессвязными словами, которые она, задыхаясь, будет шептать ему… Он вторично постучал в дверь.
Дверь наконец распахнулась, и из-за неё высунулась чья-то незнакомая безобразная голова. Предчувствуя, что сейчас произойдёт, Бруно хотел всё же услышать подтверждение своих предчувствий. Он услышал свой голос, спрашивавший, дома ли синьора Тита Виньеро, — и увидел, как тёмный румянец удовольствия разлился по смуглому веснушчатому лицу старухи и злая усмешка засветилась в тусклых глазах. Она невнятно забормотала что-то в ответ. Ответ был тот самый, которого ждал Бруно, заранее прочтя его на се лице. Старуха торопилась рассказать всё, что ей было известно.
Мать Титы умерла на прошлой неделе. У неё был сильный приступ лихорадки, и ей пустили кровь под коленом, а потом велели носить на этом месте тугую медную повязку. Но она сорвала повязку, говоря, что с таким украшением на ноге её ни один мужчина не захочет, — и истекла кровью. Ещё до её смерти в доме всё шло вверх дном. Мать и дочь ссорились, как безумные. Все приличные постояльцы выехали, а их место заняли какие-то проходимцы. Изо дня вдень все они пьянствовали, и в доме творилось Бог знает что. Старуха слышала об этом от Марии. Мать и дочь как будто состязались, кто способен на худшие гадости, делали их открыто, не стесняясь, и постоянно осыпали друг друга оскорблениями. Так рассказывала Мария. Она хотела уйти из этого нечестивого дома, но Святой Антоний послал ей видение и приказал оставаться и терпеть всё ради спасения души. Всем в доме командовал Луиджи, и обе женщины рабски его слушались, они просто дрались из-за него. Катастрофа наступила, когда кредиторы отказались ждать уплаты. О положении девушки все узнали. По словам адвоката, она должна быть довольна уже тем, что её не посадили в тюрьму. Теперь дом будет сдан внаймы какому-нибудь приличному семейству.
— А где же сейчас Тита?
— Где-нибудь в больнице. — Старуха ухмыльнулась. — Или на дне канала.
— Неужели у неё нет родственников, которые могли бы приютить её? — спросил Бруно. Сердце его сжималось мучительной жалостью.
— Какие же родственники возьмут к себе девушку с брюхом? К тому же у неё нет никого. Так говорила Мария.
— Если она вернётся сюда, скажите ей, чтобы она пришла ко мне, Джордано Бруно. Она знает, где меня найти. — «Впрочем, может быть, и не знает», — подумал он и добавил: — Во дворце Мочениго.
Старуха стала любезнее.
— Слушаю, синьор. Но только вряд ли она сюда вернётся. Ну, да в море не одна рыба… И такой красивый, представительный господин, как вы… Мария говорила, что у девчонки был ужасный вид… Бедная Мария, трудно ей приходилось в таком доме, но Господь её за это вознаградит.
Бруно хотелось уйти поскорее. Преодолев отвращение, которое внушала ему старуха, он дал ей денег и обещал дать ещё, если она разузнает для него что-нибудь о Тите. Когда дверь за ней закрылась, ему хотелось постучать снова и расспросить её ещё раз обо всём подробнее. Ведь пока она будет говорить, его не будет мучить ужасное сознание своей вины. Он испытывал раздражающее желание убежать от мук совести, которые разбудили в нём рассказы старухи. Отчасти намерение его продолжать разговор со старухой объяснялось и тем, что он хотел яснее понять всё, надеялся в её злобных сплетнях найти ключ к пониманию… и, кроме того, эти сплетни разжигали в нём какие-то тёмные по-рочные желания — те самые, что он испытывал, сбегая вниз по ступенькам к упавшей женщине или слушая рассказ Титы о том, как она подсматривала за матерью. Ему было мучительно тяжело открывать в себе такие инстинкты: ведь философию свою он всегда основывал на том, что он и другие избранники, способные разумно понимать мир, свободны от низменных побуждений, что они — люди совершенно иного порядка, чем те, кто составляет чернь.
Он поспешно зашагал прочь от этого дома. Проходил улицу за улицей, вглядываясь в лица прохожих. Много раз ему казалось, что он узнает Титу, но всякий раз это оказывалась не она. Наконец он, весь дрожа, прислонился к какой-то стене. Жизнь вокруг шла обычным порядком. Ничего не произошло: то, что он узнал, никого не интересовало и не имело никакого значения. Он зашёл в таверну, где играл струнный оркестр и плясала цыганка. Он пил и пил, потом вышел по нужде. Сквозь дыру видна была тёмная вода канала. Жизнь точно утекала от него, как эта вода. Он увидел, как рыба, искавшая поживы, всплыла наверх в зловонной воде и высунула голову на поверхность. «Завтра, — подумал Бруно, — я пойду прямо в лавку Чьотто и соблазню его мокрогубую жену!» Он был теперь настроен весьма решительно. Вернулся в таверну и опять принялся пить. В эту ночь он лёг спать совершенно пьяный, и последняя его мысль была о жене Чьотто. А наутро, когда он проснулся, его рвало. Весь день Бруно сидел больной на террасе, пытаясь читать.
XIV. Ожидание
Время всё быстрее мелькало в его крови, он чувствовал себя втянутым в это движение, — но завершение не наступало. Голова мучительно пылала, ноздри щекотал запах пота, что-то туго сжимало череп. Он чувствовал, что ему стоит только встать и пойти — и весь опутавший его клубок бессмысленного гнёта и напряжения спадёт, как будто его и не было. Весёлый неугомонный мир, который он всегда славил, примет его снова с распростёртыми объятиями. Но его удерживало какое-то чувство ответственности и то обстоятельство, что ему некуда идти. Он не знал, в чём состоит эта ответственность, пытался её определить как необходимость помириться с Римской Церковью, чтобы найти почву для осуществления своих идей. Он хотел верить, что это самая насущная необходимость, — но что-то говорило ему, что в его предчувствии грядущего освобождения есть нечто большее, чем надежда быть принятым Папой.
Он послал деньги в уплату за рисунок для альбома немца, и это сильно истощило его кошелёк. Его теперь часто заботило отсутствие денег — это его-то, который столько лет жил, не имея гроша за душой и ничуть не унывая! Впрочем, он в глубине души знал, что дело вовсе не в деньгах. Он пробовал убедить себя в противном, твердил себе, что деньги дают безопасность, уважение, подобающее место в обществе, что они дали бы ему возможность делать своё дело с наименьшей затратой энергии. Однако, когда он писал свои книги в Лондоне и Франкфурте, он возмущался людской алчностью, а деньги не казались ему столь необходимыми. Тогда он был уверен в себе, в почётности своего места в обществе. А теперь что-то рушилось в нём, и чувство безнадёжности, стыда и унижения сменило прежнее сознание связи с миром, веру в неизбежность успеха.
Теперь жизнь его проходила в подслушивании на лестнице, чтобы убедиться, ушёл ли Мочениго. Джанантонио постоянно вертелся около него, и его испытующие взгляды усиливали тревогу Бруно. Ему почему-то стало страшно выходить из дому. Он думал, что его заметили, когда он убегал от женщины, упавшей с лестницы, что всем сообщены его приметы, что его арестуют и обвинят в убийстве. Ему хотелось спросить у Джанантонио, расклеены ли в городе объявления с обещанием награды тому, кто задержит мужчину с каштановой бородой, который убил женщину, сбросив её с лестницы. Образ этой женщины преследовал его, в памяти вставали мельчайшие подробности: застёжки у одного из каблуков оторвались, каблук отлетел вместе с красной туфлей, на пальце босой ноги была видна большая мозоль. По ночам в полусне это воспоминание мучило его, рождая мерзкие видения. Как-то раз вечером он выскользнул из дому и пошёл разыскивать те ступени. После долгих поисков при лунном свете он наконец нашёл их и с ужасом поймал себя на том, что ожидал найти здесь ту женщину, всё ещё лежащую ничком. В то время как он стоял там, гоня от себя мерзкие видения, ужасавшие его, из тени неясно возникла чья-то фигура, хриплый женский голос пробормотал ласковые слова, которые для него слились в одно, с резким запахом дешёвых духов, ударившим ему по нервам. Он обратился в бегство. А потом жалел, зачем в приступе жалкого страха бежал от услуг этой портовой девки. Потому что теперь ему в мучительных снах являлся уже не труп, а эта дочь улицы, бродившая при лунном свете, и он чувствовал, что, если бы утолил физический голод в её объятиях, кончились бы все наваждения, отлетели бы видения ужаса, как вампиры, сосавшие по ночам его кровь, и он наконец нашёл бы в себе мужество порвать с Мочениго.
Мочениго, видимо, рассчитывал, что Бруно научит его делать золото или, по крайней мере, сообщит ему какую-то абракадабру, которая сразу уничтожит нынешнее его бессилие и даст ему власть над людьми. Их нелепые ссоры, а за ссорами — объяснения, во время которых Мочениго унижался и плаксиво брал обратно свои угрозы, создавали какую-то связь между этими двумя людьми, между которыми других уз не было.
Правда, существовали ещё и другие узы в жизни Бруно, но они только увеличивали его зависимость от Мочениго. То были отношения Бруно с доминиканцами церкви Джованни и Паоло. Связь эта объяснялась единственно стремлением Бруно примириться с Римской Церковью. И если бы Бруно окончательно поссорился с Мочениго, он бы обрёк сам себя на изгнание из Венеции и лишился бы выгодной позиции. Из Франкфурта вести переговоры было бы неизмеримо труднее.
Бруно виделся с неаполитанскими монахами Серафино и Джованни, с фра Доминико и с братом Феличе из Атрипальды. Узнав биографию Феличе, Бруно ободрился. Брат Феличе когда-то снял рясу монаха, а потом снова надел её. Конечно, он не был знаменитым философом, обвинённым в ереси, но случай этот несомненно доказывал, что, если Бруно выразит искреннее желание примириться с Церковью, он будет принят обратно в её лоно и в этом не усмотрят ничего. Боясь, что его узнают и обвинят в убийстве, он взял у Мочениго плащ с капюшоном и выходил из дому только затем, чтобы повидать монахов.
Среди них был один, отец Джулио, к которому Бруно влекло, хотя тот не был неаполитанцем и ни в какой мере не интересовался его делом. Джулио был один из немногих монахов, которые в жизни, полной отречения, находят высшее счастье. Это был старый исповедник, чрезвычайно популярный и поэтому приносивший Церкви большой доход. Сам же он был равнодушен к деньгам и ко всем другим земным благам. Он не хотел иметь больше одной рясы, и когда его единственная ряса промокала от дождя, он лежал в постели, пока она сушилась. В его келье кроме постели находились только передвижной квадрант, изображавший Христа в Гефсиманском саду, песочные часы и распятие с черепом у подножия. Относительно этого черепа, эмблемы смерти, отец Джулио любил шутить (единственная шутка, которую от него когда-либо слыхали), говоря с кроткой улыбкой изнеможения: «Вот то зеркало, в которое я смотрюсь». Бруно заходил иногда к нему в келью, но ненадолго, так как отец Джулио был уже стар и всё то время, какое он ещё мог уделить миру, требовалось от него для исповедания прихожан, приносившего доход монастырю. Но отец Джулио всегда улыбался Бруно, и того это успокаивало и радовало.
По дороге домой Бруно застрял в толпе и вынужден был простоять некоторое время перед одной из больших зал шести городских обществ. Там происходила какая-то церемония, и на улице ясно слышно было пение. Пел хор из двадцати мужчин под управлением регента и под аккомпанемент различных инструментов — корнетов, волынок, теорб[346], альтов. Кто-то в толпе сказал, что общество обещало заплатить певцам и музыкантам целых сто дукатов, но они это заслужили, потому что поют и играют вот уже много часов.
— Что ж, у города деньги для уплаты найдутся, — проворчал другой. — Как раз на днях меня здорово обобрали. У меня на руках было очень много неполновесных золотых монет, как вдруг на Риальто вывешивается проклятое объявление, что они изъяты из употребления. Таким образом я много потерял, а банкиры на этом деле заработали. Хотел бы я знать, что сказали бы люди, если бы так поступил какой-нибудь лавочник, а не государство!
Музыка плыла из окон, полная дивной мощи, строгая и изысканная во всей нарастающей сложности своих фиоритур. Голос певца сливался с мелодией струн, подчиняя се себе, как человек, вооружённый знанием, подчиняет себе стихии.
— Это поёт евнух? — спросил один из слушателей.
— Не знаю, но кто бы он ни был, поёт он чертовски хорошо. Если он не евнух, он тем более достоин восхищения, потому что евнухам легче петь, чем нормальным мужчинам.
Бруно выбрался из давки и, несмотря на то что ему хотелось слушать музыку, пошёл домой. За первым же углом он встретил погребальную процессию. С содроганием увидел, что у мертвеца лицо открыто, руки и ноги обнажены и одет он в монашескую рясу. Но потом он вспомнил, что в Венеции принято хоронить умерших в монашеском одеянии, так как люди верят, что таким образом можно обмануть дьявола и переодетой душе легче попасть в рай. Не успела похоронная процессия пройти мимо, как зазвучал колокол к полуденной молитве, на улице все опустились на колени и, обнажив головы, зашептали «Ave Maria». Бруно не оставалось ничего другого, как тоже преклонить колени, но вместо того чтобы молиться, он в виде протеста мысленно обратился с речью к молящимся: «Да знаете ли вы, друзья мои, что, как утверждает Геснер[347] в своей „Библиотеке“, один достопочтенный муж, Иосия Симмлер Тигурин, о котором вы, конечно, и не слыхивали, в учёном диалоге доказывает, что не полагается обнажать голову во время полуденной и вечерней молитвы. Так как этот диалог не напечатан, я не могу ни изложить его подробно, ни критиковать. Но не приходится сомневаться, что аргументы в этом диалоге столь же разумны, как и тезис…»
В конце концов Бруно удалось добраться домой. В голове у него мешались все впечатления этого дня: безмятежное спокойствие отца Джулио, звуки музыки, пение евнуха, люди, падающие на колени при звоне колокола, мертвец, который рассчитывал, надев рясу францисканца, угодить в рай, несмотря на то что он погряз в грехах. «А я, — думал Бруно, — я, подобно какому-нибудь Тигурину, обсуждаю вопрос о том, позорят ли бесконечную Вселенную разные ничтожные представители животного мира, почтительно снимающие перед ней шляпу».
Его всё больше и больше тянуло к доминиканцам, с которыми он познакомился здесь, в Венеции. Монастырская дисциплина, вызывавшая в нём давно забытые воспоминания, не казалась уже более такой невыносимой.
Зато царившая в доме Мочениго атмосфера лицемерного притворства, ненужных военных хитростей, взрывов чувств, беспричинных и бесцельных, угнетала Бруно с навязчивостью ночного кошмара, не давая возможности обдумывать свои планы. Здесь происходило что-то для него непонятное. И хотя ему казалось, что во всём этом нет ничего, над чем стоило бы поразмыслить, — оно всё же приковывало к себе его внимание. Основным элементом его повседневной жизни стало сумеречное ожидание, пока наконец он не вышел из терпения и обернулся, сжимая кулаки, — но перед ним не было двери, в которую можно было бы постучаться. Одна лишь туманная завеса неопределённости, в которой он запутывался всё сильнее с каждой попыткой пройти сквозь неё. Лишь усмешка злорадного и вместе заискивающего торжества на губах Мочениго, мучнисто-белое лицо обиженного Джанантонио, наглоугрожаюшая мина Бартоло, расквасившего себе нос при падении в пьяном виде, да угрюмое молчание Пьерины, которая ходила по дому, раскачивая широкими бёдрами.
Но чего ему бояться? Совесть его чиста. Он вдалбливает кое-какой философский разум в тупую башку Мочениго и этим зарабатывает себе еду и кров. Он просто выжидает удобного случая увидеться с Папой в Риме.
Однако раньше, чем это предпринять, он должен был окончить свою книгу «Семь свободных искусств». Между тем ни одна книга не давалась ему с таким трудом. Он привык в каждом литературном центре, куда попадал, сочинять на скорую руку трактаты по мнемонике, чтобы заработать деньги и обратить на себя внимание. А эта книга, которую он пишет теперь, первая книга для Папы, должна быть попросту блестящим произведением в таком же роде. Бруно понимал, что ему надо как-то утвердиться в Риме, раньше чем представить на рассмотрение свои заветные планы разумного преобразования Церкви. Он замыслил свою книгу «Семь свободных искусств», как блестящее схоластическое сочинение обычного содержания, но с тем тонким отличием от других сочинений, какое несомненно придаст ему диалектический метод. Такую книгу он мог бы очень легко написать, а между тем работал над ней через силу. Раньше он всегда искренно увлекался тем, что писал, даже когда это были трактаты о мнемонике. Теперь он с трудом заставлял себя писать, постоянно упрекая себя за потерю времени, доказывая себе, как важно поскорее закончить эту вымученную работу и уехать от Мочениго. Но этот довод, сам по себе столь убедительный, на практике ни к чему не приводил. Бруно тратил время попусту, оправдывал себя мысленно тем, что собирает заметки, тогда как в них не было никакой надобности, пользовался всяким предлогом, чтобы бросить работу.
Когда прошёл страх, что его арестуют за смерть той женщины на каблуках, он начал бояться, как бы Тита в конце концов не явилась к нему, не стала обвинять его, предъявлять требования, которых он не сможет выполнить. Теперь, когда деньги его приходили к концу и он сильно сомневался, удастся ли ему закончить свою книгу для Папы, Бруно не видел возможности помочь Тите. Мочениго, конечно, не захочет принять её в дом. А отказаться от намерения расположить к себе Папу было уже сейчас невозможно. Последняя попытка к отступлению была сделана им в тот день, когда он ходил разыскивать Титу. И сравнивая свою нынешнюю подавленность с тем беспечно-радостным настроением, в котором он постучал в дверь Титы, он видел, какая сильная перемена произошла в нём. Правда, уже и тогда, когда он стучался в её дверь, он не был больше прежним Бруно, но тогда он ещё сохранял какое-то подобие былого энтузиазма. Теперь же он, горячо стремившийся снискать милость Папы книгой, которая ему не удавалась, был совсем новый человек, безнадёжно слабый и одинокий. И всё же бывали минуты, когда он ощущал в себе силу понимания, неведомую тем прежним Бруно, которые сохраняли ему зеркало памяти.
Он говорил себе, что только от нерешительности вглядывается в тёмную, обманчивую и беспокойную жизнь вокруг, ожидает чего-то, насторожённо примечает колебания занавески, тень мыши в свете свечей, скрип мебели наверху, говор воды, омывающей полусгнившие спаи. Всё это и множество других таких же мелочей смыкалось вокруг него тюремными стенами, которые не пускали на волю. Он как будто ожидал сигнала, который возникнет внезапно из этой совокупности явлений. По временам его охватывало злобное раздражение, и он вымешал его на Мочениго: делал двусмысленные замечания, внушавшие тому надежду на скорое возвышение. Потом говорил язвительно: «Евреи распяли Христа за то, что он не дал им могущества на земле. Чего вам от меня надо?»
Но все эти выходки кончались тем, что Мочениго унижался, молил понять его и дать ему всё загладить.
Бруно воображал, что он видит всех насквозь. Он даже играл в кости с Бартоло и проиграл ему несколько крон. Одна только Пьерина немного пугала его, когда попадалась в самых неожиданных местах и, сложив руки под передником, смотрела на него с непонятной кислой усмешкой. Всё же он раз поцеловал её на лестнице, чтобы посмотреть, как она отнесётся к этому.
— Вы очень добры, синьор Бруно, — сказала она с выразительной расстановкой. — Что это, просьба о большем или просто случайная подачка?
— Понимайте как хотите, — ответил он, отступая.
— Такому мудрому философу, как вы, синьор, не стоит слишком много думать обо мне, — продолжала Пьерина. — Я не говорю «нет» ни единому мужчине, даже поварёнку. Понятно? — Она придвинулась так близко, что почти касалась его лицом. — Я здесь для того, чтобы меня брали. — Она грубо расхохоталась. — Хоть сейчас, здесь, если хотите.
— Но здесь нас может кто-нибудь застать, — возразил Бруно смущённо и испуганно.
— Что ж, не в первый раз, — бросила Пьерина. — И, я думаю, не в последний. Впрочем, как хотите. Мне всё равно, когда и где… А вам не хотелось бы родиться женщиной, господин философ? Согласитесь, что у нас есть некоторые преимущества перед вами, мужчинами.
Она с презрением оттолкнула его, а он уже жалел, что не поймал её на слове, хотя бы для того, чтобы доказать, что она лжёт с целью его унизить. Но с того дня он избегал её.
У Бруно появилось странное ощущение своей власти над людьми: он воображал, что все обитатели этого неприятного дома пляшут, как марионетки, когда он дёргает их за верёвочку. И оттого что ему казалось, будто он распоряжается их жизнью, они уже были ему менее противны. Джанантонио всё приходил к нему сплетничать. Теперь это забавляло Бруно, хотя он знал, что мальчишка одновременно ябедничает на него Мочениго. Мочениго он говорил колкости, а потом, спохватываясь, льстил ему, думая: «Мне скоро придётся ехать опять во Франкфурт ради печатания моих книг. Вот тогда это и кончится. И если мои „Семь искусств“ значительно подвинутся вперёд, можно будет сразу же нажать все пружины в Риме». После беседы с доминиканцами он был уверен, что они будут на его стороне, что они готовы простить ему всё и пустить в ход своё влияние, чтобы ему помочь. В конце концов человека, который успел стать знаменитым, вряд ли будут судить за грешки молодости так строго, как какое-нибудь ничтожество без имени.
Может быть, его удерживал не Мочениго, а Венеция. Её обессиливающие испарения в зной и холод, её вековая грязь. Этот город, что торжественно венчался с морем, был, в сущности, блудницей в сильно затасканных шелках. Жемчужно-серые вечерние туманы, розовая пудра зари приносили с собой что-то необычное, наполняли его дни и ночи томлением, ожиданием женщины, к которой можно припасть сонными губами, как к чаше, полной вина, и, уходя, оставляли желание сочинять шутливые стихи, сонеты, полные беспредметной тоски, canti carnascialeschi[348]. В часы таких настроений Бруно благодушно относился к Мочениго, поддразнивал Бартоло, предлагал ему поискать в погребе самого лучшего вина, хвастал своей жизнью, полной приключений, и тем, что ни один человек на свете не заставит его, Бруно, отказаться от своих убеждений.
XV. Исповедник и кающийся
В церкви Сан Стефано было мало народу. Только обычные любители пошушукаться да кающиеся, стоявшие на коленях в ожидании исповеди. За статуей Иоанна Крестителя[349], сбоку от алтаря, шептались трое мужчин — воры или дельцы.
В церковь торопливо вошёл человек в плаще и надвинутой на глаза шляпе. Он чуть не упал, споткнувшись о гробницу Морозини посреди церкви, попятился назад и выбранился сквозь зубы. Затем, подозрительно оглядываясь вокруг, направился к ризнице. Оттуда в эту минуту вышел священник, провожая женщину, которая только что у него исповедовалась. Он остановился у дверей ризницы, наблюдая, как человек в плаще неуверенными шагами шёл к нему.
Женщина, стоявшая на коленях у дверей ризницы, подложив под колени кожаную подушку, пристально всматривалась в лицо той, которая вышла от священника. Она была ей не знакома, но её раздражала сияющая улыбка женщины. После исповеди такая весёлость неприлична. Конечно, радостно сознавать, что все твои грехи прощены, смыты; испытывать блаженство в такую минуту естественно, но кокетливо ухмыляться и выставлять напоказ красивую щиколотку — это Бог знает что такое! Нетрудно догадаться, в каких грехах исповедовалась такая особа: по запаху слышно. Женщина, стоявшая на коленях, даже застонала. Смрад грехов людских раздражал ноздри, возбуждал её. И она спросила у священника, может ли дьявол преследовать человека в виде дурного запаха. Она уже исповедалась, но решила оставаться здесь всё утро и наблюдать за другими кающимися. Уже несколько раз ей была ниспослана радость: она видела, как соседи выходили из ризницы, и по выражению их лиц и поведению угадывала размеры наложенной на них епитимьи. В противоположность большинству женщин она мечтала, что во всех церквах Венеции будут поставлены деревянные исповедальни с решётками, как в Милане. Священники энергично восставали против этих «лож». Женщина же мечтала о них — и не из боязни каких-либо домогательств со стороны исповедников, а потому, что ей хотелось наблюдать за теми, кто исповедается.
Проследив за взглядом священника, стоявшего на пороге ризницы, она увидела человека в плаще, который неверными шагами направлялся к нему, и вздрогнула от радости. Если человек так торопится получить утешение духовника, он, наверное, виновен в убийстве или кровосмешении. Быть может, Господь чем-нибудь отметил его. Она внимательно следила за ним. Священник сделал шаг вперёд и остановился, ожидая, чтобы тот приблизился. Пришедший ещё больше заторопился и, подойдя, хотел было опуститься на колени, но священник схватил его за руки. Они вполголоса обменялись несколькими словами. И, несмотря на то что женщина помолилась святой Маргарите, покровительнице беременных и утешительнице женщин в беде, ей не удалось расслышать, о чём они говорили.
— Я его испытал, отец, — сказал человек в плаще, когда священник закрыл за ними дверь ризницы. — И сомнения быть не может: он — отъявленный враг Святой Церкви.
Священник снял с кафедры красное шёлковое облачение и спрятал его в шкаф. Он указал посетителю на стул, и тот сел.
— А выведали вы у него, сын мой, каким образом он намерен распространять свою мерзкую ересь?
— У него есть книги, отец, полные кощунств и хитроумных доводов против христианского учения. Если верить его утверждениям — но они совершенно очевидная ложь, — то Христос не Бог и душа не бессмертна, а Бог есть природа, как совокупность сил, форм и возможностей.
— Да, знаю, сын мой. Мы об этом уже говорили. Но выведали ли вы то, о чём я вас просил? Узнали его планы?
— Он много говорит о своей дружбе с государями и твердит, что на свете гораздо больше людей, стремящихся к добру, чем это думают тираны и обманщики, правящие миром, и придёт время, когда на земле опять наступит золотой век… И тому подобные глупости. Говорит ещё, что ему легко будет склонить на свою сторону Генриха IV, потому что Генрих уже сейчас разумно предпочитает сладостную женскую плоть и сок живого винограда телу и крови Христовой, вкушаемым при святом причастии… — Рассказчик содрогнулся и ударил рукой по столу так, что два серебряных кадила подпрыгнули и зазвенели, ударившись друг о друга. — Отец мой, я только передаю его проклятые речи. Но они оскверняют мои уста. Отпустите мне грех, который я совершаю, произнося их. Я заражён, загрязнён. Наложите на меня любую епитимью. Я пойду на богомолье. Мне всё равно, какое покаяние вы наложите на мою душу, только бы освободить её от влияния этого проклятого Бруно. Я больше не могу так жить.
— Крепитесь, сын мой. — Священник присел на обитый железом корабельный сундук, принесённый сюда накануне с хоров для просмотра хранившихся в нём бумаг. — Вы трудитесь ради блага Святой Церкви, по моему предписанию. Вам не в чем упрекать себя. Что ещё говорил он о Генрихе?
— Только те мерзкие слова, которые я вам уже сообщил, отец мой. Он насмехается над святой мессой в часы трапез, говоря о corpus Cereris et sanguen Bacchi[350]. Я убеждён, что он помешан. Отец, я боюсь, что мой дом проклят с тех пор, как в нём произнесены такие слова. Может быть, Святая Инквизиция прикажет срыть его до основания?
— В нынешнее время такие приказы редки. Не бойтесь. Сатана так силён, что если бы все места, где произносились богохульные речи, считать навеки проклятыми и негодными для человеческих жилищ, то пустовали бы целые кварталы.
— Да, печальный бы это был конец для рода Мочениго…
— Святая Церковь милосердна, сын мой. Она может снять грех с того, кто искренно кается. Она утешит и поддержит вас. Она неистощима в сострадании и любви, ибо она — супруга Христова. Не бойтесь.
Мочениго схватил священника за руку.
— Отец, вы вдохнули в меня новые силы. Я ещё больше выведаю от этого изменника. Я буду терпеть скверну в моём доме, хотя мне это нелегко, потому что он живёт на мой счёт, ничего не давая взамен. Все его обещания оказались ложью. Он не открыл мне ни единой из своих тайн.
— Сын мой, сын мой! — прервал его священник полуукоризненно, полууспокоительно. — Думайте не о личных потерях, а о том, что приобретёт Церковь Христова.
— Да, отец. Мне ничего не жаль, только бы в конце концов поймать его. Я всё время так и думал, что ему непременно придётся иметь дело со Святой Инквизицией. Как вам известно, я был её асессором и предан её делу. С Божьей помощью я хотел бы искоренить всю ересь и сжечь всех еретиков.
— А он ничего не говорил о еретических учениях в Испании? Он ни с кем там не переписывается?
— Нет, отец мой, мне об этом ничего не известно. Впрочем, он многое от меня скрывает. Он откровенен со мной ровно настолько, чтобы дразнить меня, заставляя испытывать муки Тантала[351], и смущать кощунственными речами. С тех самых пор как он приехал, он строит против меня козни. Боюсь, что он ускользнёт от меня.
Священник с минуту размышлял.
— Не надо больше медлить. Ваш долг — обо всём донести Святой Инквизиции. Я вам это предписываю. Иначе я не могу выполнить свою святую обязанность — успокоить вашу совесть и вернуть мир душе вашей после искреннего покаяния в какой бы то ни было близости с этим человеком.
— Я соприкасался с ним только в делах, вполне дозволенных Церковью. На мне нет иной вины, кроме той, что я допустил еретика разделять со мной кров и пищу. Это, разумеется, был бы тяжкий грех, если бы я не открыл вам всё. Но я ведь вам обо всём сообщал…
— И этого достаточно. Немедленно напишите отцу инквизитору.
— Да, да. Бесполезно ожидать чего-нибудь от такого лгуна. Он меня обманул, прельстил и насмеялся надо мной. Он всё время надо мной издевается. Всякий раз, как я неожиданно посмотрю на него, я ловлю на его лице усмешку. Он соблазнил мою экономку и бесстыдно развлекался с моим пажом.
— А вы уверены в этом? — спросил священник мягко, но настойчиво. — Если у вас нет веских доказательств, лучше не говорите об этом. Могут подумать, что обвинение более серьёзное — обвинение в ереси — вы возвели на него по злобе. Вы хорошо знакомы с процедурой суда Святой Инквизиции и должны знать, что у обвиняемых есть излюбленный способ самозащиты — приписывать обвинителю оговор по злобе. Правда, Святая Инквизиция в мудрости своей и ревностной любви к Христу не сообщает обвинённому имя обвинителя. Ибо, если бы он его знал, он затягивал бы процесс суда своими попытками опорочить обвинителя. Но в данном случае весьма вероятно, пожалуй даже несомненно, что обвиняемому будет известно, кто именно обвинил его. Поэтому я вам советую не примешивать к этому личных обид, чтобы не смущать судей.
Мочениго грыз ногти.
— Отец мой, должен вам сказать, что я раз-другой угрожал ему, но потом брал свои слова обратно. Я, Мочениго, унижался во имя Христа. Угрозы мои состояли в следующем: я говорил этому еретику, что кроме меня есть и другие, которые могут пожелать заглянуть к нему в душу, и что Мать Церковь имеет свои средства защиты от поборников дьявола. И не только это. Когда он говорил о своём намерении искать милости его святейшества, я ответил, что ему следовало бы сперва усмирить псов, лежащих у порога, разумея под этим Инквизицию, которая сторожит Церковь от врагов и (как я имел мужество сказать ему) уничтожает плевелы, попадающие в святой хлеб. «А какую приманку, — сказал я ему, — вы припасли для сторожевых псов, вы, который приходите, яко тать в нощи?» — «Так придёт и Христос во второе своё пришествие, — отвечал он мне и, лукаво усмехаясь, добавил: — Полагаю, что вы ещё увидите, как этот тать придёт в нощи, если вообще кто-нибудь доживёт до этого». Вот какие речи я должен выслушивать от него изо дня в день! «Берегитесь, — говорил я ему, то, о чём я только молю, другие могут от вас потребовать». — «Что же, — отвечал он, — я готов всё сказать тем, кто имеет право спрашивать. Вы же — слепец, просящий, чтобы я сделал его зрячим. Я такими пустяками не занимаюсь, я не творю фальшивых чудес. Я смотрю глубже, ищу подлинную суть вещей».
— Довольно, — сказал священник, успокаивая взволнованного Мочениго. — Всё это вы изложите письменно и передадите отцу инквизитору.
— Да, — пробормотал Мочениго. — Я это сделаю с радостью. Будь он проклят!
— Делайте, как я вам сказал, — перебил его священник мягко, но решительно. — А теперь идите, сын мой.
— Благословите, отец.
Он вышел шатаясь, как человек, который борется с сильным ветром. Священник, лицо которого оставалось бесстрастным, заметил, что Мочениго, проходя, задел и сбросил на пол чистые ризы, сложенные на скамье. Он рассеянно окинул взглядом ризницу, ища места, куда бы их положить, потом повесил их на деревянную вешалку. Потирая руки, он стоял минуту с закрытыми глазами, молясь про себя, затем подошёл к двери. Он ожидал свою любимую прихожанку, жену богатого торговца, которая всегда делала щедрые пожертвования Церкви.
Перед лавками шёлкоторговцев и книжными лавками, которых больше всего было на Мерчерии, шумели уличные мальчишки, переругиваясь от скуки, когда не оказывалось прохожих, к которым можно было бы приставать. Мочениго быстро прошёл по мостовой, не замечая криков. Он сознавал только одно — что он спасается бегством, что надо бежать. Он готов был вопить о пощаде, он не замечал людей вокруг. Он помнил только о враге, который находится где-то за его спиной. С мгновенным чувством облегчения выбрался он на открытое место и пошёл дальше, шагая ещё торопливее.
Потом до его сознания смутно дошло, что перед ним какой-то фасад из полосатого мрамора, красные мраморные ступени. Он нашёл то, чего искал. Не слушая слов привратника, достал требуемую монету, и его пустили. Поднимаясь по лестнице, он чувствовал, как его охватывает блаженное успокоение. Наконец спасён! Он посмотрел в сторону моря, за сверкающие воды Адриатики, потом на запад, на невысокие Евгенские холмы, окутанные дымкой голубой дали. Сказочная прелесть этой картины, тишина земли, преображённой в тончайшее сочетание света и линий, до слёз взволновали Мочениго. Эти воздушные очертания были вместе с тем так чётки, что казалось, их можно было осязать. Он протянул руку и почувствовал, что враг всё ещё за его спиной, ещё ближе прежнего. У него закружилась голова. Плоские крыши Венеции заплясали внизу перед его глазами, он чуть не упал. Он подумал о другом, которого тоже искушал дьявол, возведя его на высокое место.
— Я не боюсь тебя, сатана! — завопил он. — Я отрекаюсь от царствия земного!
Потом, весь в холодном поту, он увидел громадного позолоченного ангела, который парил над ним и простёртой вперёд рукой благословлял народ Венеции. Вертевшиеся перед глазами круги света ослепляли его, он прижался к камню и вспомнил, где он: на верхушке колокольни Святого Марка. Он — человек, над которым насмеялись и который ещё не отомщён. Мочениго расстегнул чёрный камзол, застёгнутый до горла, и произнёс, словно повторяя урок:
— Я должен написать отцу инквизитору.
Затем он услышал весёлые голоса и топот ног на лестнице (это поднимались люди, осматривавшие собор) и понял, что он спасён. С надменным видом прошёл мимо компании торговцев с жёнами и стал спускаться вниз.
XVI. То, чего ожидали
Тихонько вошёл Джанантонио. Бруно, беспокойно шагавший из угла в угол, обрадовался развлечению. Бросил перо на стол.
— Входи же!
«Ах, если бы это был Беслер! — подумал он. — Такие вещи нужно диктовать, уж очень скучно это писать самому».
— Вас зовут, — сказал Джанантонио и радостно засмеялся. Да, мальчик несомненно повеселел в последнее время. И день сегодня ясный, солнечный, с лёгким ветром. По чистому небу изредка пробегали пушистые облачка и исчезали опять.
— Чему это ты? — спросил Бруно с оживлением.
Джанантонио, тряхнув кудрями, закрыл дверь и прислонился к ней спиной.
— Он в очень хорошем настроении. Подарил мне браслет, который раньше носила его жена. Я его спрятал в надёжном месте, а то как бы хозяин вдруг не передумал и не отнял его у меня.
Юность Джанантонио пленяла Бруно, как нечто вдохновенное, как сияющая маска, которую легко отделить от подлинного лица, — лица, отражавшего слабость и порочность. Он вспомнил, как жадно наблюдал вчера на улице молодёжь, и подумал: «Я наконец действительно старею». Было странно так идеализировать молодость с её смутными печалями и неосознанной остротой вожделений. Он припоминал бесплодные мучения стыда и яростной решимости, которые так омрачали его юность, сочувствовал Джанантонио и думал: «Вот я, который умел быть безжалостно прямолинейным в менее важных вопросах, теперь трачу время на мимолётную нежность, на банальное сострадание, которое только приносит вред, и не кончаю работы, от которой зависят судьбы мира». И одиночество огромной тяжестью навалилось на него.
— Ты слышал, как я говорил твоему господину разный вздор? — спросил он. — Ты поверил всему этому?
Джанантонио кивнул головой и высунул кончик языка.
— Это неправда, мальчик. Жизнь вовсе не такова. Я, может быть, иногда и сходился с женщинами, но когда человек пишет такие книги, как мои, то он почти всё своё время отдаёт работе. Понимаешь?
Джанантонио утвердительно кивнул головой.
— У тебя сегодня очень хороший вид, — сказал Бруно и потрепал мальчика по щеке. — Что, Бартоло всё ещё даёт тебе, как обещал, уроки фехтования?
Джанантонио опять ответил только кивком головы. Глаза его коварно блестели.
— Что же ты молчишь, плутишка?
Джанантонио подошёл ближе, обнял руками шею Бруно и зашептал:
— Я так счастлив. Я боюсь, как бы это не выскочило у меня изо рта, как мышь. Я держу его крепко в себе.
Бруно чувствовал, что душу его наполняет непонятная, беспричинная радость. Ему хотелось смеяться, глупо шутить, как шутят только с самыми близкими друзьями.
— А зачем меня зовут? — воскликнул он.
— Сойдите вниз и увидите, — ответил Джанантонио, ловя его руку.
Внизу Мочениго с улыбкой объяснил, что он затеял поездку в Мурано, где Бруно хотелось побывать. Они сошли по ступеням к воде. Джанантонио, подпрыгивая, шёл за ними. Большая гондола с неизменной чёрной покрышкой была привязана к столбу, и слуги укладывали в неё провизию.
— Мы там достанем устрицы, — заметил Мочениго, — свежие, прямо со скал. Я уверен,что они вам придутся по вкусу. Там они мелкие и зеленоватые, но очень вкусные. А на заводе вы, если пожелаете, сможете сами выдуть какое-нибудь изделие из стекла.
Весёлость Бруно уже улетучилась, но он старался отвечать любезностью на любезность Мочениго. Он говорил себе, что в конце концов достаточно уже жаловался на вспыльчивость, подозрительность и мрачность Мочениго. И когда Мочениго настроен весело и шутливо, остаётся только это приветствовать. Но шутливость у Мочениго как-то не выходила, и Бруно пришлось против воли играть роль, которая ему претила.
— Вы увидите Августинский монастырь, основанный блудницей Маргаритой-Эмилианой, — сказал Мочениго.
— А зачем она его основала? — спросил Джанантонио.
— Затем, что была шлюха, — ответил Мочениго и шумно захохотал.
— А зачем она была такая?
— Затем, чтобы могла основать монастырь. — Мочениго захохотал ещё громче.
На лице Джанантонио выразилось замешательство, да и Бруно не хотелось смеяться. Чтобы скрыть овладевшее им неприятное чувство, он сказал:
— Да, надо будет осмотреть этот монастырь. Я слышал, что путешественники первым делом направляются туда. Не хотелось бы уехать, так и не увидев этот монастырь, несмотря на то, что я уже второй раз в Венеции.
— Но ведь вы же не собираетесь нас покинуть? — сказал Мочениго резко. И, не ожидая ответа, повернулся к слуге, который уронил в воду несколько фиников. Он ударил его ногой, и слуга кинулся в воду за упавшими финиками. Он нырнул подлодку и не всплыл больше. Один из гондольеров, стройный и ловкий, сердито крикнув что-то по адресу Мочениго, сорвал с себя рубашку и нырнул за слугой.
— Что он крикнул мне? — спросил Мочениго, дрожа от ярости. — Что он крикнул?
Но его никто не слушал. Гондольер выплыл на поверхность, держась за канат, отбросил волосы со лба и несколько раз глотнул воздух. Потом нырнул снова.
— День уже испорчен, — твердил Мочениго. — А я хотел, чтобы сегодня все мы были счастливы! — И на глазах у него выступили слёзы.
Гондольер всплыл опять, на этот раз с телом слуги в объятиях. На лбу у слуги зияла рана. Другие гондольеры положили бесчувственное тело в лодку, где подушки и скамьи были залиты водой и грязны. Мочениго вопил, чтобы все вышли из лодки, но на него никто не обращал внимания.
— Всех вас велю высечь! — визжал он.
Взволнованные слуги наконец услыхали его крики и испуганно выбрались из лодки на берег, унося полумёртвого товарища. На маленькой пристани они стали приводить его в чувство. Спасший его гондольер стоял в ленивой позе у самой воды подле лодки, смуглый, гибкий и сильный, великолепная фигура, почти обнажённая. С него ручьями текла вода. Мочениго, бормоча проклятия, вынул крону из висевшего у него на поясе кожаного мешочка и бросил гондольеру.
— На, получай!
Тот и не поглядел на монету, упавшую в нескольких шагах от него, подле того места, где стоял Бруно. Бруно ногой отшвырнул её в канал.
Мочениго мигом накинулся на Бруно:
— А, вы натравливаете на меня чернь! Вы хотите, чтобы всех нас зарезали в постелях!
Гондольер улыбнулся Бруно, и для Бруно эта улыбка, уверенная и дружеская, была достаточной наградой за всё, что он выстрадал, за всё, что ему ещё предстояло. Он не сказал ничего, даже не взглянул на Мочениго, который продолжал кричать. Гондольер отвернулся, грациозно прыгнул в воду и поплыл через канал. Шум на пристани сразу утих. Все, в том числе и Мочениго, стояли молча, наблюдая, как мощные руки и плечи гондольера рассекали воду. Он доплыл до перевоза на противоположном берегу, взобрался по ступеням на берег, остановился на минуту, чтобы помахать рукой следившей за ним группе людей, и скрылся за лодочным сараем. Чары рассеялись, и Мочениго снова набросился на Бруно:
— Вы поощряете наглость этих тварей! Впрочем, чему тут удивляться, раз вы проповедуете, что ада нет, нечестивец вы этакий! Что же вы думаете, нищие классы будут смирно оставаться на своём месте, если ваше учение распространится?
— Нет, этого я не думаю, — сказал Бруно и вошёл обратно в дом.
Он до сих пор всегда разделял и не раз высказывал общепринятое мнение, будто культурная часть общества может руководствоваться разумом, но простому народу необходима религия. Теперь это убеждение Бруно было поколеблено в самой своей основе, и сделали это не размышления, а кипевшая в нём страстная ненависть к Мочениго и его классу. Но в то же время он вспоминал, в какой он был ярости, когда на пути из Англии во Францию его лакей обворовал его, или когда толпа напала на него в Лондоне. С тех пор лондонская чернь оставалась в его представлении символом варварства и разрушения. Задача оказывалась неразрешимой, он перестал о ней думать и только с удовлетворением отметил, что в нём живёт неумолимое отвращение к Мочениго и к власти, которая во лжи и неразумии видит основное условие своего существования, только ими и держится.
Поднимаясь по лестнице, он слышал за собой тяжёлое дыхание Мочениго, бегом догонявшего его.
— Подождите! — кричал Мочениго. — Я говорил это не всерьёз. Не в том смысле, в каком вы поняли. Вы должны понять, что я чувствую. Ну вот, теперь для меня день окончательно испорчен!
— Я уезжаю, — сказал Бруно, не оглядываясь и не останавливаясь, чтобы подождать Мочениго. Из окон галереи падали лучи солнца, сверкая на двух скрещённых алебардах[352], висевших на стене. Бруно вдруг охватило желание снять эти алебарды, предложить одну Мочениго, другую взять себе и вызвать его на смертный поединок. Ему надоело воевать с настроениями, сложными психологическими воздействиями, скользкими обобщениями и сентенциями[353] о жизни и смерти. Хотелось увидеть перед собой живого противника с жаждой убийства в глазах и стальным клинком в руке.
Бартоло, который, как казалось Бруно, оставался внизу, неожиданно появился перед ним из каких-то дверей и загородил ему дорогу.
— Вас зовёт мой господин, — сказал он с поклоном, потирая руки.
Мочениго остановил Бруно и схватил его за руку.
— Давайте не будем больше ссориться из-за пустяков.
— Согласен.
— Вы наконец объясните мне всё?
— Вы ещё даже не одолели рукопись «Наблюдения над лампой Луллия», которую я дал вам.
— Я там всё отлично понял. Таких вещей мне объяснять не нужно. Это — детские игрушки. Я хочу постигать всё так же непосредственно, как ангелы.
— Я уезжаю, — повторил Бруно, избегая жадно пытливых глаз Мочениго.
— Но почему? — стиснул руки Мочениго.
Бруно заметил, что Бартоло занял позицию на верхней площадке лестницы и стоял с видом смиренно-подобострастным, но вместе с тем и бдительным.
— Мне надо ехать во Франкфурт.
— Нет, вы хотите уехать из-за того, что сегодня произошло. Вы всё это нарочно подстроили, чтобы мне досадить. Я видел, как вы смотрели на того мерзавца, оскорбившего меня. Вы были с ним в заговоре. Берегитесь, я опасный человек, когда меня разозлят. Я никогда не прощаю.
— Опять угрозы? — Присутствие Бартоло придавало Бруно хладнокровия. Он держал себя так, как будто спорил с каким-нибудь негодяем-трактирщиком, который, чтобы его запугать, призвал на помощь конюха. Он посмотрел на Мочениго, потом на Бартоло и усмехнулся.
— Я никогда не угрожаю, — заорал Мочениго. — Угрозы — оружие слабых людей. Я просто иногда предупреждаю о том, что намерен делать.
— А что вы намерены делать?
— Спросите у своей нечистой совести.
Спокойствие начало изменять Бруно. Никогда ещё в голосе Мочениго не звучало так явственно глумление, насмешка, резкая, как петушиный крик. Бруно чувствовал, что его загнали в угол, что надо защищаться, как он ещё никогда не защищался. Но какое-то гнетущее чувство стыда парализовало его. У него перехватило дыхание. Наконец он с трудом заговорил, стараясь придать своему голосу обычные интонации:
— Говорю вам, мне необходимо уехать, печатание моих книг во Франкфурте затягивается. Я и так уже пробыл здесь дольше, чем рассчитывал, потому что хотел вам помочь… — Он не знал, как ему лучше выразиться, не желая раздражать Мочениго. Хотелось только одного — поскорее уйти из этого дома.
— А я оказался слишком глуп, да? Это честно — есть мой хлеб и пользоваться моим покровительством для своих грязных целей? Я слишком глуп, чтобы понимать такого великого философа, не так ли?
В голосе Мочениго послышались интонации Пьерины, он повторял злобные фразы, которыми она насмехалась над ним, твердя, что Бруно презирает и дурачит его. В тот момент Бруно не понял перемены в голосе Мочениго, хотя он её уловил и смутно встревожился. Но позднее, когда он думал о словах Мочениго, перед его закрытыми глазами встала Пьерина такой, какой она стояла в коридоре, сложив большие руки на животе, с хмурой усмешкой, в которой тупость маскировалась хитростью.
— Я понимаю больше, чем вы думаете. Берегитесь! — проскрежетал Мочениго уже своим обычным голосом. Утрированная мелодраматичность слов и тона мешала им произвести впечатление, внушить страх. Бруно отвёл глаза, испытывая непреодолимую жалость к Мочениго и стыд за него. Ведь слышит же Мочениго собственный голос и наверно внутренне корчится от муки, что играет такую жалкую роль, наверное готов сделать что угодно, только бы заглушить вырвавшиеся у него нелепо-фальшивые ноты. В жалости своей Бруно готов был изменить себе и, чтобы помочь Мочениго, сделать вид, что не было этой унизительной сцены. «Отчего, — спрашивал он себя, — всякое бурное проявление чувств непременно кажется мне чем-то неестественным, фальшивым, ненастоящим, чем-то, что нужно отмести, нарушением элементарного приличия и человеческого достоинства? А между тем в отвлечённых спорах я способен очень пылко защищать свои взгляды и возражать… Или это я, а не другие, даю всему неправильную оценку?»
Молчание Бруно остановило поток шумных угроз и намёков со стороны Мочениго. Бартоло всё время стоял на лестнице, потупив голову и держа руки по швам. Но где же Джанантонио? Наверное, прячется за портьерами. А Пьерина, с её пышной грудью и тупой, злобной усмешкой? За одной из дверей. Бруно хотелось расхохотаться. Вся свора сплотилась против него. Но что они могут ему сделать?
— Не уезжайте, — просил Мочениго, сплетая и расплетая пальцы. И огорчение в его голосе, как ни неприятно было оно Бруно, звучало довольно искренно. — Вы указали мне путь, и я теперь не успокоюсь, пока вы не доведёте меня до конца этого пути… пока я не проникну в самые глубины, в самое сердце тайны. Вы должны объяснить всё, ввести меня в чрево жизни. Я до смерти устал от хождения вокруг да около. Дайте мне ключ от двери, и я найду себе дорогу в лабиринте. Дайте мне этот ключ, и я вас отпущу. Какая из ваших книг даёт этот великий ключ ко всему?
— Она ещё не написана мною… Я написал только несколько глав, они рассеяны в различных моих сочинениях по мнемонике и диалектике… Если вам нужен только ключ, его легко найти на каждом шагу в моих книгах.
В первый раз Бруно серьёзно испугался, как если бы здесь происходило насильственное вторжение в недра его души. Силы его убывали, он чувствовал себя так, словно его вскрыли и обнажили всё сокровенное внутри.
— Ба! — сказал Мочениго. — Вы сами признаете, что в тех книгах, которые напечатаны, вы никогда не высказывались до конца. Что есть веши, скрытые от непосвящённых.
— Я сказал всё, что мог сказать, всё, что можно выразить старыми словами. Я кую новую логику, новые слова. Не трусость удерживала моё перо, заставляя избегать некоторых тем.
Чувство безнадёжности, бесплодности всех этих объяснений охватило его при взгляде на Мочениго, искоса следившего за ним налитыми кровью хитрыми глазами.
— Клянусь вам, что это правда, — воскликнул он громко, в первый раз сравнявшись несдержанностью с Мочениго. И сразу же это заметил и ужаснулся тому, что пал так же низко, как Мочениго, что серьёзно и горячо обсуждает безумные идеи, обуревавшие больной мозг Мочениго. Но какой другой ответ можно было дать Мочениго? Как тот мог бы его понять, если бы он не говорил с ним его языком? Однако в этом-то подчинении необходимости и был провал, и заключался весь ужас. Говоря с Мочениго его языком, становясь на его точку зрения, он тем самым как бы признавал его правоту, признавал доводы Мочениго, всё равно соглашаясь ли с ними или возражая против них, внушал Мочениго смелость и уверенность, а самого себя лишал силы сопротивления.
Мочениго, видимо, был доволен тем, что вывел Бруно из себя.
— Когда вы уезжаете? — спросил он спокойно.
— Завтра, — ответил Бруно, ещё больше упав духом, и пошёл наверх, в свою комнату. Ни Мочениго, ни Бартоло не двинулись с места. Бруно запер дверь изнутри на засов и подошёл к окну. Мир, огромный, деятельный мир лежал там внизу. Бруно прижался лбом к стеклу и зарыдал от благодарности.
XVII. Уход от Мочениго
Он хотел выйти из комнаты, но не решался. Выйти надо было, чтобы убедиться, сторожат ли его за дверьми, остановят ли. Но он не осмелился сделать это, так как все его мысли вертелись вокруг завтрашнего отъезда, против которого Мочениго не возражал. Несколько раз он вставал с места, твердя себе, что это безумие — сидеть взаперти, как заключённый, что теперь настал подходящий момент изобличить Мочениго: если его сегодня не выпустят из дому, значит, уже наверное завтра помешают уехать. Но он упрямо цеплялся за тот факт, что Мочениго согласился отпустить его завтра. Преждевременная попытка выйти сегодня может всё погубить. Мочениго возьмёт обратно своё обещание, которое относилось к завтрашнему дню, а не к нынешнему.
Он ходил из угла в угол, сознавая, что эти доводы — самообман и нелепость, но не мог им противиться. Каждую секунду подходил он к окну и с трепетом радости глядел на запруженный лодками канал, на дома напротив, людей на террасах. Внешний мир, недоступный ему сейчас, представлялся ему раем, в существовании которого ему никогда не надоест убеждаться. Но когда он сойдёт вниз, в этот мир, и станет одним из мириад одержимых, он забудет свои восторги, и жизнь человеческая больше не будет казаться ему чем-то опьяняющим в своей беспощадности.
Потом Бруно сообразил, что, если бы даже ему удалось ускользнуть незаметно, пришлось бы оставить здесь все книги и рукописи. А выбравшись из дворца Мочениго, он никогда не найдёт в себе мужества вернуться за ними! Правда, он мог бы послать за ними кого-нибудь, например Беслера или Чьотто. Но Мочениго ещё, пожалуй, вздумает отрицать, что у него в доме оставлено что-либо. Может быть, он вернёт книги, а рукописи утаит и присвоит, отчасти по злобе, отчасти в надежде на то, что, изучая их, он найдёт мифический «ключ», которым, как он думал, владеет Бруно. Бруно не мог решиться оставить здесь свои рукописи. Он попробовал отобрать самые нужные листы, чтобы, спрятав их под камзол, уйти из дому. Но, не говоря уже о том, что он должен был оставить здесь все другие, менее важные рукописи, ему не удавалось свёрток наиболее ценных бумаг сжать до таких размеров, чтобы его можно было незаметно спрятать под платьем.
День клонился к вечеру, а он всё сидел у окна, глядя на запад, на ширь заката. Он усилием воли стряхнул с себя уныние, и оно постепенно спадало с него, как шелуха, от которой его «я» всё больше очищалось, всё больше начинало жить одной жизнью с телом, купавшимся в воздушной прозрачности и теплоте закатного неба. Но по мере того как небо темнело, всё настойчивее подступала к нему глубокая, зловещая тишина этого дома. Ему страшно было лечь в постель. Вдруг он услышал, что кто-то скребётся в дверь.
Дрожа, но вместе с тем обрадовавшись, что наконец кончается пугающая неопределённость его положения, он отпер дверь и увидел поварёнка, принёсшего суп, хлеб и жареную рыбу.
— Так как вы не пришли вниз, хозяин приказал отнести это вам сюда.
Бруно поблагодарил мальчика, который, видимо, относился к нему дружелюбно, и, когда дверь за ним закрылась, обругал себя мысленно за то, что не догадался дать ему денег. В этом доме ему нужны союзники, хотя бы и в лице поварёнка, а он ничего не сделал, чтобы расположить мальчика в свою пользу. Тот ведь мог бы подслушать что-нибудь важное для него, Бруно. Он съел несколько ложек супа — и только. Кусок не шёл ему в горло. Лёг не раздеваясь, заперев сначала дверь на засов. Мрак в комнате сгустился, а он всё не спал и беспокойно ворочался. Ему не раз приходилось спать на соломе. Однажды, когда на постоялом дворе, где они остановились, не оказалось свободных комнат, он ночевал в набитой людьми маленькой карете. Он испытал жёсткость холодных и унылых монастырских коек и грязных, кишевших блохами постелей в гостиницах. Но ни на одной постели он не терпел таких мучений. Через некоторое время пришлось снять камзол, но уснуть ему так и не удалось. «Вот теперь самый подходящий час для бегства», — думал он… и всё лежал, устремив глаза в тёмный потолок. Однако, несмотря ни на что, под его отчаянием таилось какое-то удовлетворение, словно предчувствие близкой развязки — осуществления его задачи.
Проснувшись после горячечного полусна, сморившего его перед рассветом, он ощущал боль во всём теле и какое-то томление в желудке. Но его поддерживала могучая экзальтация. Свет наступавшего дня принёс успокоение. О чём тревожиться? Мочениго не властен удержать его здесь. Даже странно, что человек способен так одуреть от страха, что обычные явления искажаются в его представлении и он движется среди теней, отбрасываемых невидимыми предметами. «Страх этот, — думал Бруно, — страх перед тем, что отжило. Его внушают нам не живые люди, а смутные видения памяти, этот ключ ко всему».
Но эта мысль, вполне чёткая и зрелая, не помогала ему сейчас, хотя он и был убеждён в её правильности.
Он лежал в постели, размышляя, забыв о Мочениго. Наконец раздался стук в дверь, и мгновенно сжавшая сердце тревога показала Бруно, как ненадёжно его напускное спокойствие. Он встал с постели, с удивлением убедившись при этом, что сильно ослабел и у него болят все кости. Отпер дверь, стараясь не шуметь засовом. Он надеялся увидеть за дверью Мочениго, вступить с ним в спор о чём-либо страшно важном, — всё равно о чём. Но к его неожиданному облегчению это оказался только поварёнок с хлебом и вином.
На этот раз Бруно сделал попытку выведать что-нибудь у мальчика и подарил ему крону. Но тот багрово покраснел и не взял денег, сказав:
— Не спрашивайте меня ни о чём. Я знаю только одно: что они — дьяволы.
— Вино не отравлено? — испуганно спросил Бруно.
— Нет, нет, — успокоил его мальчик. — То есть, я думаю, что нет. Я сам его наливал.
— Что делает сейчас твой господин?
— Он у себя в спальне, — ответил поварёнок и добавил злобно: — С Джанантонио. — Потом, испуганный своей запальчивостью, пятясь, выскочил за дверь, раньше чем Бруно успел спросить, стерегут ли его. «Впрочем, — сказал он себе, оставшись один, — мне стоит лишь открыть окно и закричать, меня услышат лодочники на канале. Никто не может задержать меня насильно».
Он съел хлеб, обмакивая его в вино, забыв о своих опасениях относительно отравы. Потом надел башмаки и камзол, привёл себя в порядок, как мог, перед небольшим бронзовым зеркалом. Сошёл вниз, отчасти за нуждой, отчасти чтобы проверить, вызовет ли это какие-нибудь попытки ограничить его свободу. Никто не обратил на него внимания, хотя он прошёл мимо Бартоло, взглянувшего на него со своей обычной кислой усмешкой, и мимо Пьерины, которая в это время входила в одну из комнат и не заметила его. Ободрившись, Бруно вернулся к себе в комнату, взял рукопись уже готовой части своей книги «Семь свободных искусств», спрятал её под камзол, прижимая руками, чтобы не выпирала, и сошёл вниз. У входной двери стояли Бартоло и Джироламо, исполнявший обязанности привратника, лакея и помощника Пьерины.
— Доброе утро, — сказал Бартоло. — Уезжаете сегодня?
— Я хочу распорядиться насчёт багажа.
— Понятно.
Бруно хотел выйти, но Бартоло по-прежнему стоял между ним и дверью, посасывая щепку, зажатую в его насмешливо ухмылявшихся губах. Наконец он вынул её изо рта и сплюнул.
— Я чистил зубы, как вы изволите видеть, синьор. Вам что-нибудь нужно?
— Ничего. Я уже вам сказал, что мне нужно распорядиться насчёт багажа, и я иду это сделать. Вот и всё.
— Прошу прощения, синьор, но если вам для этого нужен старый Карпуччи, так зачем же вам выходить? Джироламо только что говорил мне, что он не прочь размять ноги. Он сбегает к старому Карпуччи и велит ему прийти наверх. Этому народу не мешает потрудиться для господ. Ну-ка, Джироламо, живее беги, позови старого Карпуччи к синьору Бруно. Да скажи ему, чтобы не шумел на лестнице.
Бруно стоял в нерешимости. Хотел было сказать: «Спасибо, я сам всё сделаю», или: «Всё равно я хочу подышать свежим воздухом, я пойду погуляю». Но не сказал ничего. Он мысленно оценивал положение. Конечно, Бартоло не послал бы за Карпуччи, если бы его, Бруно, намеревались силой удержать в этом доме. Зачем же вызывать враждебные действия, если предложение Бартоло сделано без всякой задней мысли? Кроме того, если сказать сейчас, что он идёт прогуляться, могут подумать, что Карпуччи ему вовсе не нужен, что он солгал. С другой стороны, хотя выйти из дому он сейчас хотел не ради Карпуччи, в случае мирного ухода отсюда со всеми книгами и рукописями Карпуччи ему будет совершенно необходим.
Глядя, как Джироламо уходил, почёсывая грязную голову, Бруно не в силах был ни заговорить, ни сделать что-либо. Наконец он собрался с мыслями и решил идти обратно к себе в комнату и ожидать прихода Карпуччи. Если тот явится, значит, всё в порядке и все намёки и угрозы Мочениго ничего не стоят. Если же Карпуччи не придёт, надо высунуться в окно и звать на помощь. Хоть он и не охотник до скандалов, которые поднимут вокруг него шум и всякие толки, но рисковать нельзя. Придётся кричать в окно.
Он повернулся спиной к Бартоло и ушёл в свою комнату.
Карпуччи пришёл, и все приготовления к отправке вещей были сделаны. Радость бурлила в сердце Бруно, и он своей возбуждённой болтовнёй совершенно ошеломил старого барочника. Теперь ему казалось несомненным, что Мочениго не имеет безумного намерения запереть его в своём доме, как в тюрьме, пока он не откроет ему воображаемые тайны. Он дал Карпуччи щедрую подачку и добился от него обещания, что завтра рано утром придёт полка, чтобы отвезти его багаж в Падую, откуда он будет на лошадях отправлен во Франкфурт.
Карпуччи, мужчине с опухшим красным носом и лысой головой (только на затылке сохранилась грива жирных седоватых волос, падавшая на воротник), наконец удалось уйти от многоречивого Бруно. А Бруно опять начал ходить по комнате из угла в угол. Но вчерашняя его угнетённость исчезла. Сегодня он испытывал беспокойную потребность действовать, предвкушал восторг, с которым опять пустится в этот подлый, но бесконечно увлекательный мир. В конце концов, он даже засел за свою книгу «Семь искусств» и написал несколько страниц. Несмотря на беспокойство, побуждавшее его часто отрываться от работы и выглядывать в окно, он нашёл, что к нему вернулась былая лёгкость пера. Да, никогда ещё он не писал так хорошо! Он засмеялся и перечёл написанное.
Как хорошо! Эта книга, несомненно, сделает своё дело, убедит Папу. Всё закончится прекрасно.
Он испытывал приятное воодушевление и забыл весь свой гнев. У него не осталось в душе ни капли возмущения против Мочениго, и он способен был говорить с ним самым мирным образом. Но он ещё сохранил трезвое самообладание, чтобы понимать, что было бы неразумно опять говорить с Мочениго. Их разговоры всякий раз приводили к неожиданным стычкам. Самое безобидно-благодушное замечание Бруно подхватывалось Мочениго и много часов спустя цитировалось со всякого рода двусмысленными комментариями и гнусными намёками, усмотренными Мочениго в этих словах.
Но на остальных обитателей дома Бруно намеревался щедро излить свои добрые чувства. Бартоло он решил оставить большие чаевые, как ни трудно ему это теперь. А Джанантонио и Пьерине он обещает прислать подарки из Франкфурта. Что им купить? Женщине — гребень слоновой кости: Джанантонио как-то рассказал, что у неё есть только деревянная гребёнка со сломанными зубьями. А мальчику — что-нибудь для соколиной охоты или нарядный берет.
Наступили сумерки. Он бросил работу и смотрел, как садилось солнце. Но сегодня закат был скучный, и он забыт о нём, размышляя о том, что он будет делать во Франкфурте. Люди, с которыми он там встречался, вставали в его памяти и все казались удивительно милыми и достойными уважения. Правда, когда он в первый раз приехал во Франкфурт, чтобы там поселиться, у него были кое-какие неприятности, и бургомистр не разрешил издателю Вехелю приютить его, но всё же он очень тепло вспоминал этот город. Негодяй Гофман, проректор Хельмстедтского университета, насолил ему тогда, написав о нём клеветнические письма. Но потом, когда об этом забыли, никто не оспаривал его права жить во Франкфурте, а настоятелем Кармелитского монастыря, в котором он поселился, был славный весёлый старик, истинно смиренный и усердно творивший добрые дела. Они с Бруно никогда не вступали в споры о религии, но доброжелательность старика сыграла большую роль, внушив Бруно веру в то, что Католическая Церковь не совсем безнадёжна. Он надеялся убедить сановников Церкви, что людей разделяет неразумная догма, а объединит их разум и прямой призыв к братству. Это было по-детски просто, а между тем люди оставались глухи к этому. «Но у Церкви, — говорил себе Бруно, — есть организация, есть традиция братской общности, хотя и превратно понятая. И Церковь не безнадёжна, раз она способна воспитывать и вдохновлять таких людей, как этот кармелитский настоятель».
Отдавшись воспоминаниям о Франкфурте и Хельмстедте, Бруно опять пережил свою полемику с Гофманом, типичный пример тех столкновений, которые следовали за ним по пятам, где бы он ни находился. Он весь напрягся от гнева, как будто услышав снова блеющий, протяжный голос Гофмана, педанта-грамматика, богослова, который способен был полемизировать со Святым Духом на небесах, если бы тот осмелился не соглашаться с ним. Отъявленный сторонник Аристотелевой физики, он был твёрдо убеждён в том, что Солнце вертится вокруг Земли.
Долго сидел Бруно, вспоминая фразы из своего письма к Гофману, после того как главный пастор Боэций отлучил его от Церкви. Бруно и до того не причащался в протестантской церкви. Но когда его объявили еретиком, он был лишён возможности зарабатывать хлеб преподаванием. Гофман обвинил его в том, что он не выполняет обязательства, которое давали все профессора университета: «обучать истинной древней философии, ничего не меняя, не искажая и не вводя никаких новшеств», учить, что Земля — центр Вселенной и что библейское представление о Вселенной неопровержимо.
Взвинченный воспоминаниями об этой борьбе в далёком прошлом, Бруно принялся мысленно сочинять новое послание к Гофману. Забыто было всё вокруг, забыта темневшая за окном Венеция и злобный интриган Мочениго. «Знаменитейший преподобный проректор! Джордано Бруно, ноланец, отлучённый старшим пастором хельмстедтской церкви»… (да, так начиналось его послание. Перечисление полностью всех титулов всегда звучит очень иронически). «Лишённый публичной защиты, стал сам себе судьёй и исполнителем приговора». Это был ловкий выпад против старого суетливого Боэция, который постоянно хвастал тем, что он — поборник законности. «Бруно… смиренно протестует перед вашим великолепием и могущественнейшими сановниками Сената против публичного выполнения пристрастного и в высшей степени несправедливого приговора…» Хорошая фраза, её можно произнести не переводя дух. «Он требует, чтобы его выслушали, желает убедиться, справедливо ли это покушение на его честь и репутацию в обществе. Ибо, как говорит Сенека[354]: „Тот, кто судит, выслушав только одну сторону, не прав, хотя бы приговор его и был справедлив. (Всегда полезно подкрепить свои доводы ссылкой на Сенеку. У него, наверное, имеется какой-нибудь такой афоризм.) А посему Бруно просит ваше преподобие призвать к ответу достойного пастора, дабы он с Божьей помощью постарался доказать, что выступил против меня с грязным обвинением как добрый пастырь, а не по личной злобе“».
Окончив письмо, он чувствовал, что напряжение ослабевает. Он победил врага — и, очнувшись, увидел, что он в своей комнате в Венеции и что ночь давно наступила. Хотел было зажечь свечу и опять засесть за работу. Но решил, что лучше лечь отдохнуть. Все его мысли были теперь заняты предстоящим поутру отъездом. Он разделся в темноте и лёг.
Только он улёгся, как в дверь постучали. Стук был тихий, не настойчивый, и Бруно подумал, что это, вероятно, Джанантонио. Ему было немного обидно, что мальчик весь день не подходил к нему, но он твердил себе, что он не прав: нельзя требовать от Джанантонио, чтобы тот решился навлечь на себя гнев своего господина, от которого он всецело зависит, только для того, чтобы выразить дружеские чувства человеку, который завтра уедет и которого он больше никогда не увидит.
Бруно соскользнул с кровати и, как был, голый, подошёл к дверям, с нежностью думая о Джанантонио. Нащупал в темноте засов и, повозившись с ним, наконец отодвинул его.
Дверь тотчас распахнулась. На пороге стоял Мочениго, а за ним при свете фонаря виднелось пять-шесть мужчин, выстроившихся в ряд.
— Что это значит? — спросил Бруно глухим голосом, отступая в глубину комнаты и ища глазами свою шпагу. Было неловко и глупо стоять голым перед всеми этими одетыми людьми, смотревшими на него. Уже это само по себе давало им преимущество перед ним, не говоря о том, что он был безоружен и что их было много, а он один. У Мочениго на поясе висела шпага, а в руках он держал обнажённый кинжал. Бартоло с фонарём вошёл в комнату и встал между Бруно и стулом, на котором была сложена его одежда.
— Как видите, я сдержал слово, — сказал Мочениго вызывающим тоном.
— Убирайтесь все из моей комнаты! — крикнул Бруно.
— Вам были предоставлены всё возможности, — возразил Мочениго. — А вы задумали убежать от меня. Я вас предупреждал…
Бартоло сделал знак вооружённым людям, и те двинулись к Бруно. Одного из них, с клочковатой бородой, Бруно знал в лицо — это был лодочник с соседней «трагетто», стоянки гондол. Видимо, Мочениго, для большей верности, нанял несколько местных головорезов. Они схватили Бруно за руки.
— Дайте мне одеться, — сказал он, вырываясь.
Но на его слова никто не обратил внимания. Мочениго первый вышел из комнаты и стал подниматься по лестнице, а за ним вели Бруно со связанными руками. Шествие замыкал Бартоло с охапкой одежды. Когда они проходили мимо комнаты Пьерины, она открыла дверь и злорадно уставилась на раздетого и растрёпанного Бруно. Эта минута была для него унизительнее всего, и он ни о чём другом не мог думать, пока его тащили по лестнице на чердак. Мочениго открыл дверь и придерживал её, в то время как Бруно вталкивали внутрь. Бартоло вошёл вслед за ним и тщательно обыскал принесённую им одежду Бруно. Найдя только листы рукописи, всё ещё спрятанной в камзоле, он отдал платье Бруно, и тот сразу же стал одеваться. Мочениго жадно схватил рукопись. Когда Бруно оделся, двое мужчин опять набросились на него и связали. Сначала — руки и ноги, потом, так как остался ещё длинный конец верёвки, они обмотали её вокруг ляжек и пояса и привязали конец к балке.
Потом все вышли, за исключением Мочениго.
— Ну что? — начал Мочениго, до тех пор внимательно просматривавший рукопись при свете фонаря, который он держал у самого лица. — Теперь вы скажете мне? Откроете мне формулу Памяти и Геометрии? Вы видите, я благоразумен. Я не спрашиваю у вас рецепт Эликсира, хотя и убеждён, что вы наконец нашли его. У меня есть неоспоримые доказательства, что вы хотели бежать в Прагу, куда вас сманивали агенты императора. Вы смеете отрицать это! — взвизгнул он, заметив на лице Бруно протестующее выражение и угадывая слова, готовые слететь с его губ.
— Это ложь, — сказал Бруно.
Мочениго пнул его ногой в пах и в грудь.
— Как вы смеете отрицать это, когда у меня абсолютные доказательства?
Бруно ничего не ответил. Мочениго торжествующе продолжал:
— Ага, вы поняли, что бесполезно лгать мне, раз я имею доказательства. Но я и без того вижу вас насквозь. Я по глазам и губам читаю мысли, которые возникают у вас в голове. Вы, так открыто меня презирающий, вряд ли владеете этим искусством. Значит, я, глупый и презренный Мочениго, имею всё же одно преимущество перед вами. Не правда ли?
Он опять пнул Бруно ногой. Бруно всё молчал.
Голос Мочениго завилял:
— Скажите мне, и я тотчас отпущу вас. Пожалуйста, скажите! Я очень хочу, чтобы с вами не случилось ничего дурного, но я должен получить своё по праву. Разве вы пострадаете от того, что скажете мне?
Бруно подумал: «Хоть бы он ушёл наконец, тогда я больше ни на что не буду жаловаться. Пускай со мной делают что угодно, только бы он ушёл и не приставал ко мне с этим безумным вопросом».
И ещё он сказал себе: «Вот против таких людей я боролся всю жизнь. Я боролся за свободную науку, чтобы сочетать её с пользой, за уничтожение слепой алчности, стремящейся сделать свободное познание орудием своих низких целей — личного повышения и обогащения»…
Наблюдая Мочениго, он ощущал в себе силу. Он наконец знал, ясно понял, против чего борется. Но когда Мочениго начинал повторять свои бессмысленные вопросы, его охватывал настоящий ужас, тягостное желание умереть, ибо на эти вопросы не было ответа. В них Бруно остро чувствовал неумолимость врага. И эта неумолимость, как он сознавал со странной, омрачающей душу жалостью, была результатом не какой-то исключительной душевной извращённости, а ложного понимания связи между явлениями, результатом движущей силы страха, возникающего от того, что ложь ненадёжна. Мочениго искренно верил, что существует какой-то способ использовать природу для магического возвышения его над другими людьми. И в неспособности Бруно ответить на его вопросы он видел только предательство и обман, нежелание вступить с ним в союз…
Эта ложь, управлявшая жизнью Мочениго и жизнью столь многих людей, — как она родилась? Её создала неправильная система общественных отношений, её питали тёмные первобытные инстинкты жестокости. Вот в чём всё зло: в этих жалких бесноватых, готовых высосать из жизни всю кровь до последней капли потому только, что они всё брюзжат, будто их чего-то несправедливо лишили, что они хотят без всякого труда получить что-то от жизни.
— Я ничего не знаю, — сказал Бруно тихо.
Мочениго начал его бить.
— Христос! — простонал Бруно, от боли не сознавая, что говорит.
Мочениго отскочил и с пронзительным криком рванул дверную щеколду в бешеном усилии выйти из комнаты. Огонь в фонаре заплясал, дверь с треском захлопнулась, и благодетельная темнота окутала Бруно, легла на его воспалённые веки.
Связанный, он не мог шевельнуться. Умудрился только повернуться так, чтобы помочиться, не замочив одежды. Но потом он не мог разогнуться снова: он был слишком крепко связан и слишком ослабел.
Настало утро, издалека доносились голоса. Ему казалось, что он плавает в огромном пространстве, больше не испытывая страха, ничего не помня. Минутами Бруно впадал в полузабытьё, и ему мерещилось, что он воюет с каким-то невидимым врагом, втянут в какую-то ужасную, но скрытую борьбу. Затем он внезапно просыпался, и его ужасало не воспоминание о снах, не мысль об угрозах Мочениго, а несоответствие между сном и действительностью. Казалось, будто он чего-то не понял в том, что с ним происходит. Будто Мочениго — только игрушка сил, неизмеримо более могущественных, чем это жалкое существо. И только поняв, что это за силы, можно победить Мочениго. Значит, нужно разгадать странные образы, которые принимал страх в его сне, и тогда он поймёт роль Мочениго, его побуждения и намерения.
Дверь скрипнула. Он не мог видеть, как она открылась, но узнал бесшумные шаги Мочениго. Одно мгновение оба молчали.
Потом Мочениго сказал низким, сдавленным голосом:
— Ну что? Вы скажете или нет?
Бруно не отвечал, и тогда Мочениго добавил тихо:
— Вы плут.
— Мне кажется, — отозвался Бруно, взметая своим дыханием пыль между половиц, — мне кажется, что я научил вас гораздо большему, чем обещал, и, значит не заслуживаю такого обращения.
Он инстинктивно понимал, что такой мирный тон — лучший способ самозащиты, тем более что Мочениго говорил своим прежним вкрадчиво-мурлыкающим голосом.
— Ну, ну, это мы ещё увидим, — сказал Мочениго всё так же сдержанно. — В конце концов, теперь дело будем решать уже не мы с вами, не правда ли?
— Что вы хотите этим сказать?
Сердце Бруно сжалось от страха. Если бы только он мог видеть Мочениго, он бы угадал правду по его лицу. Но гордость не позволяла ему попросить Мочениго, чтобы тот поднял его. Он предпочитал стерпеть какое угодно издевательство, только бы Мочениго не увидел, что он обмочил спои штаны.
— Обращаюсь к вам в последний раз. За все мои услуги и дары неужели вы не поделитесь со мной своей тайной?
Бруно поперхнулся и закашлялся, глотая пыль. Он ощущал пустоту в груди. Кашлять было мучительно больно из-за туго стянутых верёвок. Боль острыми режущими кольцами обвивалась вокруг онемевшего тела. Но ещё сильнее была мука душевная, вызванная вопросом Мочениго.
— Я не могу ничего сказать, — пробормотал он сквозь кашель.
— В таком случае вы сами передаёте это дело из моих рук в другие. Это не моя вина. Вы меня вынуждаете осведомить власти о ваших кощунственных замыслах.
— Это меня не страшит. — У Бруно было только одно желание — избавиться от Мочениго. Ему казалось бесконечно более приятным быть переданным любой власти, светской или духовной, с представителями которой он может говорить разумным языком, на основе существующих законов, вместо того чтобы иметь дело с неустойчивыми суждениями сумасшедшего. Он так жаждал, чтобы Мочениго передал его властям, что решил скрывать свои истинные чувства, чтобы тот, назло ему, не передумал.
— Я никого не обижал, — сказал он, — и не говорил ничего такого, что лежало бы у меня на совести. Самое худшее, что со мной могут сделать, — это заставить меня опять надеть рясу.
— А, значит, вы допускаете, что вас могут наказать, как духовное лицо, лишённое сана за развратный образ жизни…
— Не начинайте вы опять приставать ко мне в такой поздний час. Я отлично без вас улажу свои дела.
— Как вы это сделаете, когда имеются неопровержимые доказательства, что вы еретик и вели нехристианскую жизнь? Докажите, что вы мне истинный друг, и я ещё сейчас готов помочь вам.
Слёзы выступили на глазах Бруно. Что пользы сражаться честным оружием с этим одержимым?
— Вы переоцениваете мои силы, — сказал он. — Клянусь вам, что это так.
— Значит, вы меня обманывали.
— Нет, вы меня неверно поняли. Это очень печально, но тем не менее это правда. Однако правда и то, что я надеюсь в своих открытиях пойти ещё гораздо дальше. Если вы меня освободите, я клянусь всем, что для меня священно, вам первому сообщить то, что открою. Я опять попробую объяснить вам все явления в окружающем нас мире. Я оставлю вам любые книги и рукописи, какие вы захотите, — только книгу «Печати» Альберта Великого хотел бы взять с собой. Я не успел её прочесть. Впрочем, и её могу оставить, если вы настаиваете. Только отпустите меня…
Мочениго рассмеялся своим хриплым отрывистым смехом.
— Так это всё, что вы можете сказать? Увидим, что вы скажете, когда вас вздёрнут на дыбу и будут ломать пальцы. У Святой Церкви есть достаточно способов заставить говорить таких негодяев, как вы.
Бруно молчал. Он решил, что скорее умрёт, чем скажет ещё хоть слово. Наступила долгая пауза. Наконец Мочениго тихонько вышел и закрыл за собой дверь.
В середине дня Бруно (который до тех пор оставался без пищи) вывели из оцепенения топот и грохот на лестнице. Потом его подняли, и он увидел перед собой человека в форме капитана. Двое мужчин держали Бруно за руки, третий за ноги. Он не вслушивался в громкий разговор, происходивший вокруг него. Его потащили вниз и бросили в подвал. С визгом захлопнулась дверь. Он лежал в сыром мраке и стонал. Начав стонать, он уже не мог остановиться. Стоны не приносили облегчения. Они не были выражением боли, или ярости, или мольбы, они не зависели от его воли. Он попросту не мог их удержать. Но всё время молился про себя, чтобы никто не подошёл к дверям и не услышал этих стонов.
Но вот послышались шаги — и тут он нашёл в себе силы сдержать стоны. С разом вспыхнувшей надеждой он припомнил человека в капитанской форме. Очевидно, Мочениго выполнил свою угрозу донести на него, Бруно. Значит, его увезут из дворца Мочениго, и он избавится наконец от этого человека. Это главное.
Дверь отворилась, кто-то вошёл, и сияние свечи ослепило Бруно. Потом, открыв глаза, он увидел, что это Пьерина. Она поставила на пол подсвечник и тарелку с супом, брезгливо посмотрела на гниющий мусор, разбросанный вокруг, и подобрала юбки, чтобы не запачкаться. Но так как юбки всё ещё спускались до пола, она высоко подоткнула их, открыв толстые ноги. Бруно с каким-то удивлением следил за игрой света и тени на её массивных коленях.
Молча, без единого слова, подняла она миску с супом и подошла к узнику. Он смотрел на неё глазами, расширенными страхом, но всё же открыл рот. Пьерина сначала принялась кормить его с ложки. Потом, когда ей это надоело, поднесла миску к губам Бруно и влила остальной суп ему в рот, не обращая внимания на то, что он захлёбывался и что суп лился на подбородок и камзол. Бруно видел её сильные белые руки, покрытые пушком на тыльной стороне, там, куда падал свет. Он ощущал кислый запах пота, исходивший от неё. Вспомнил то, что рассказал ему Джанантонио. Муж этой женщины был задушен, а тот, кого обвиняли в убийстве, был схвачен и казнён. Но молва утверждала, что этот человек был вовсе не бандит, а случайный любовник Пьерины, убежавший из её дома, когда муж застал его с ней. Она сама задушила мужа и обвинила в убийстве этого человека, бродячего солдата, который в тот день постучался к ней в дом, прося милостыни, и которого она зазвала к себе. Когда Джанантонио рассказывал эту историю, Бруно не придал ей никакого значения и сказал, что сплетня может белое сделать чёрным. Но сейчас, глядя на сильные, бесшумно двигавшиеся руки Пьерины, слыша её тяжёлое, нетерпеливое дыхание, он поверил, что это правда.
Когда миска опустела, Пьерина вытерла руки о рукав его камзола и отодвинулась от него. Её полнейшее невнимание к состоянию Бруно, её обращение с ним, как с животным, заставили Бруно побороть страх перед ней. Ему хотелось каким-то образом выразить возмущение, но он не мог ничего придумать. Когда Пьерина нагнулась, чтобы взять с пола свечу, она издала неприличный звук, ничуть не смущаясь присутствием Бруно, как будто его тут не было или как будто на него можно было не обращать внимания как на собаку. Потом, зевая, вышла и с грохотом захлопнула дверь. Стук задвигаемого засова ударом кинжала вошёл в сердце Бруно. Тьма зашелестела вокруг. Через некоторое время через подвал торопливо пробежала крыса.
В тот же день, 23 мая, пришёл другой капитан, Матте Аванта, со сдержанными манерами и водянистыми глазами. Он именем Святой Инквизиции арестовал Бруно. Окружённый людьми, бряцавшими оружием, при свете ярко пылавших факелов, Бруно был уведён из дворца Мочениго и доставлен в тюрьму Инквизиции за городской тюрьмой, которая находилась напротив Дворца дожей.
Часть третья
Суд
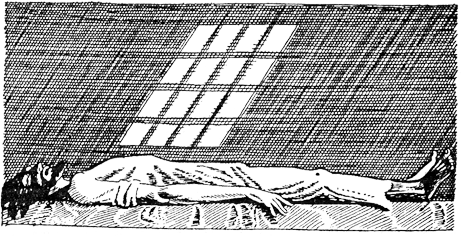
XVIII. Обвинения
ДОНОС ДЖОВАННИ МОЧЕНИГО НА ДЖОРДАНО БРУНО ОТЦУ ИНКВИЗИТОРУ ВЕНЕЦИИ 23 МАЯ 1592 ГОДА
Высокопреподобный отец и достопочтенный синьор, я, Джованни Мочениго, сын благородного мессера Марка Антонио, вынуждаемый своей совестью и повелением духовного отца моего, доношу вашему преосвященству на Джордано Бруно, от которого я несколько раз, во время разговора со мной в моём доме, слышал следующее:
Что позорно для католиков утверждать, будто хлеб претворяется в тело Христово. Что он, Бруно, враг богослужений и никакая религия ему не нравится. Что Христос был жалкое ничтожество и творил зло, вводя людей в заблуждение, а, следовательно, мог легко предугадать, что его повесят. Что Бог не делает различия между людьми, ибо, если он это делал, это указывало бы на его несовершенство. Что наш мир вечен, и существует бесконечное множество миров, и Бог непрерывно создаёт эту бесконечность. Что Христос творил чудеса лишь видимые, что он был маг и апостолы также и что он, Бруно, мог бы делать то же, что они, и даже больше. Что Христос не хотел умирать и убегал от смерти до тех пор, пока это было возможно. Что нет никакой кары за грехи. Что души, созданные природой, переходят от одного животного к другому, и как дикие звери рождаются во грехе, так и человек во грехе рождён вновь после потопа.
Он замыслил найти новую веру, которую он именует новой философией. Он говорит, что непорочная дева не могла бы родить дитя и что наша католическая вера полна кощунств, умаляющих величие Божие. Что не следовало бы допускать, чтобы монахи требовали себе определённого дохода и пользовались им, ибо они оскверняют землю. Что все они — ослы, и наши верования — верования ослов, и у нас нет никаких доказательств, что вера наша угодна Богу. Что если мы будем поступать со своими ближними так, как мы хотим, чтобы они поступали с нами, то этого уже достаточно для хорошей жизни. Что для него все другие грехи, кроме греха перед ближним, смехотворная ерунда. И что его поражает, как это Бог терпит столько католических ересей. Он говорит, что намерен заняться искусством прорицаний и чёрной магией и что весь мир пойдёт за ним. Что Святой Фома и все учёные — невежды по сравнению с ним, Бруно. Что он мог бы выступать против величайших богословов мира и они не нашли бы, что возразить ему.
Он сообщил мне, что когда-то в Риме инквизиторы выдвинули против него обвинение по ста тридцати пунктам и он вынужден был спешно уехать, так как про него говорили, будто он бросил в Тибр человека, который его обвинял перед Инквизицией или которого он считал своим обвинителем.
Я уже докладывал вам устно, что хотел учиться у него, не зная, какой это опасный еретик. Я записал все его слова, чтобы донести вам, преподобный отец. Когда же у меня возникли опасения, что он уедет, я запер его у себя в доме, для того чтобы вы могли его допросить. И так как я полагаю, что он одержим дьяволом, то прошу о скорейшем рассмотрении этого дела. Книготорговец Чьотто и мессер Джакомо Бертрано, также книготорговец, могут подтвердить перед судом Инквизиции мои обвинения, ибо означенный Бертрано беседовал со мной о Бруно, показал мне, что он — враг Христов, враг нашей веры и высказывал при нём, Бертрано, явно еретические мысли.
Посылаю вам, преподобный отец, три напечатанные книги Бруно со сделанными мною наскоро пометками, а также написанный его рукой небольшой трактат о Боге (выдержки из некоторых его общих утверждений), дабы вы сами могли иметь о них суждение.
Затем имею добавить, что он посещал учёные собрания в доме синьора Андреа Морозини, сына благороднейшего синьора Джакомо Морозини, где бывают многие из наших дворян, которые, быть может, также слышали, как он излагал свои взгляды.
Я готов представить на ваше рассмотрение все незначительные факты его поведения относительно меня, ибо я хочу во всём быть покорным и верным сыном нашей Святой Церкви.
Почтительно целую руки вашего преосвященства.
Писано в моём доме 23 мая 1592 года смиреннейшим слугой вашего преосвященства
Джованни Мочениго.
ВТОРОЙ ДОНОС ДЖОВАННИ МОЧЕНИГО ПО ОБВИНЕНИЮ БРУНО 25 МАЯ 1592 ГОДА
Высокопреподобный отец и достопочтенный синьор, в тот день, когда я посадил Джордано Бруно под замок и говорил ему, что он должен научить меня тому, чему не научил (хотя и обещал научить за множество моих милостей и даров), иначе я донесу о его кощунственных речах против Господа нашего Иисуса Христа и Святой Католической церкви, Бруно ответил, что Инквизиции не боится, так как он своим образом жизни не причинил вреда ни единому человеку и не помнит, чтобы говорил что-либо предосудительное, а если и говорил, так мне наедине, следовательно, ему нечего бояться моего доноса. И даже если бы он и попал в руки Инквизиции, то самое большее, что с ним могут сделать, это — заставить его надеть рясу, которую он скинул.
«А, так вы были монахом?» — спросил я у него. И он ответил: «Я произнёс только первоначальный обет, так что во всяком случае могу всегда свой грех загладить». Я возразил: «Как вы можете загладить что-либо, если вы не верите в Святую Троицу, считаете, что наши души созданы из праха, что всем в мире управляет судьба? Вы сначала измените ваши взгляды, а потом уж вам легко будет уладить всё остальное. Для этого я предлагаю вам всяческую поддержку, чтобы доказать, что, несмотря на ваше недоверие ко мне и неблагодарность за все мои услуги, я хочу быть вашим другом при любых обстоятельствах».
В ответ на это он только стал меня умолять, чтобы я выпустил его на свободу, уверяя, что он уложил свои вещи и говорил об отъезде только для того, чтобы обуздать моё нетерпеливое стремление к знанию, из-за которого я постоянно надоедал ему, и, если я его выпущу, он научит меня всему, что знает сам, мне од ному доверит тайны своего искусства и содержание его будущих книг, ещё более чудесных, чем уже написанные. Что он будет моим рабом, не требуя иного вознаграждения, кроме того, которое уже получил от меня, и, если я захочу, оставит мне все свои вещи, кроме небольшой книги заклинаний, которую я нашёл среди его рукописей.
Я счёл нужным донести обо всём вашему преосвященству, чтобы вы присовокупили это к остальному и вынесли суждение, достойное вашей мудрости.
У меня остались деньги, одежда, бумаги и книги Бруно, которые я предоставляю в ваше распоряжение. И так как, по великой доброте и милости вашей, вы соблаговолили простить мне, что я медлил с этим обвинением, я молю вас оправдать меня перед достопочтенными судьями ввиду моих добрых намерений. Я не мог выведать всё сразу, кроме того испорченность этого человека стала мне ясна только после того как он прожил у меня в доме около двух месяцев, ибо, приехав сюда, он некоторое время жил не у меня и большей частью находился в Падуе. Затем я желал воспользоваться его знаниями, а его поведение убеждало меня в том, что он не уедет, не предупредив меня. Поэтому я не спешил, обещая себе мысленно передать его для исправления Святой Инквизиции, что я и делаю, и в смиренной благодарности вашему преосвященству за отеческое попечение почтительнейше целую ваши руки.
Писано в моём доме 25 мая 1592 года
Джованни Мочениго.
НОВОЕ ПОКАЗАНИЕ ДЖОВАННИ МОЧЕНИГО ПО ДЕЛУ БРУНО В ДОБАВЛЕНИЕ К ДОНОСАМ, ПРИВЕДЁННЫМ ВЫШЕ, 29 МАЯ 1592 ГОДА
Так как ваше преосвященство требует, чтобы я самым тщательным образом восстановил в памяти всё сказанное Джордано Бруно против нашей католической веры, то я припоминаю, что, кроме всех утверждений, о которых я уже писал вашему преосвященству, он говорил ещё следующее:
Что в наше время церковь поступает с людьми не так, как поступали апостолы, ибо апостолы обращали людей в истинную веру проповедью и примером праведной жизни, а теперь всех, кто не приемлет католической веры, преследуют и пытают, и церковь вербует верующих силой, а не любовью. Что мир не может оставаться таким, каков он сейчас, — очагом невежества, без настоящей религии. Что, в сущности, католическая вера ему, Бруно, нравится больше других, но она нуждается в реформе не менее, чем остальные, и в таком виде, как сейчас, его не удовлетворяет. Что, впрочем, очень скоро мир сам себя переделает, так как он не может дольше оставаться таким несовершенным. Что он, Бруно, возлагает большие надежды на короля Наваррского и потому торопится писать, чтобы создать себе имя, ибо он желает быть вождём, когда наступит время преобразований. И что он не останется навсегда бедняком, ибо к его услугам будут сокровища, собранные другими.
Ещё Бруно, говоря о недостатке знаний в наши дни, сказал, что теперь невежество процветает больше, чем когда бы то ни было, потому что люди утверждают то, чего они на самом деле не понимают, а именно, что Бог — един в трёх лицах. Между тем это вещь невозможная, это заблуждение и величайшее оскорбление величия Божия.
Когда же я попросил его замолчать и поторопиться с тем, что он обещал для меня сделать, так как я католик, а он хуже лютеранина и поэтому мне невыносимо слушать его, Бруно сказал мне: «Вот увидите, как вам поможет ваша вера!» — И, захохотав, посоветовал мне дождаться Страшного Суда, когда мёртвые воскреснут, и тогда я увижу, как воздаётся праведникам.
А в другой раз он сказал: «Ваша республика славится великой мудростью. Ей следовало бы поступить с монастырскими доходами так же, как поступили французы. Во Франции монастырские доходы перешли к дворянству, а монахи питаются одним супом. Все нынешние монахи — ослы, и предоставлять в их распоряжение такие богатства — великий грех!»
Он говорил мне также, что любит женщин, но числом любовниц ещё не сравнялся с царём Соломоном[355]. Что Церковь напрасно объявляет развратом то, что является полезной услугой природе и, по его мнению, весьма похвально.
Всё это — истинная правда, в чём я клятвенно заверяю ваше преосвященство и смиренно целую ваши руки.
Препровождаю вам ещё книгу вышеозначенного Джордано, в которой я отметил, как вы увидите, циничные фразы, для того чтобы вы приняли их во внимание вместе со всем остальным.
Писано в моём доме 29 мая 1592 года вашего преосвященства смиреннейшим слугой
Джованни Мочениго.
XIX. Перед судом Инквизиции
Во вторник двадцать шестого мая Святой Трибунал собрался, чтобы рассмотреть дело Джордано Бруно, отлучённого монаха, обвиняемого в ереси. В этот день в состав трибунала входили: Лудовико Таберна, папский нунций; Лоренцо Приули, патриарх Венеции; Ализио Фускари, на обязанности которого лежало докладывать Сенату решения трибунала, и отец инквизитор Габриелли из Салуццо. Они собрались во дворце патриарха на Рио ди Палаццо, расположенном напротив тюрьмы, но несколько выше. Председательствовал патриарх.
Книготорговец Чьотто был приведён к присяге и затем дал показания. Он заявил, что лично не знает об обвиняемом ничего такого, что могло бы показать против него. Но во Франкфурте он слышал, как о нём дурно отзывались: люди говорили, что Бруно — человек, не признающий никакой религии. Это всё, что ему, Чьотто, известно и что он может сказать. Если бы ему было известно ещё что-нибудь, он бы непременно сообщил это трибуналу.
Чьотто, как полагается, заставили дать клятву молчания и отпустили. На этом окончилось первое заседание суда.
Двадцать девятого мая суд собрался снова для рассмотрения всех трёх доносов Мочениго. Был допрошен книготорговец Бертрано, пожилой фламандец, двенадцатью годами старше Чьотто. Он заявил, что не знает о Бруно ничего, кроме слухов. «При мне он не говорил ничего такого, что не подобает христианину».
После полуденного перерыва привели обвиняемого. Секретарь суда занёс в протокол его приметы: «Мужчина среднего роста с каштановой бородой, от роду сорок лет и на вид столько же».
Предупреждённый, что он обязан говорить правду при перекрёстном допросе, Бруно воскликнул:
— Да, я буду говорить правду! Мне часто угрожали Инквизицией, и я принимал эти угрозы за шутку. Я готов сообщить о себе всё.
Он стал рассказывать свою жизнь. Начал с того, как во Франкфурте получил от синьора Джованни Мочениго приглашение приехать к нему в Венецию.
— Он писал, что будет меня всемерно поддерживать и постарается, чтобы я им был доволен. Но вышло всё иначе. Мочениго оказался невыносимым человеком и в конце концов из-за своей подозрительности помешал мне уехать.
Потом обвиняемый рассказал о своём детстве, проведённом в Ноле и Неаполе, о том, как в пятнадцать лет стал доминиканцем, как позднее был посвящён в духовный сан и, приняв священство, служил свою первую мессу в монастыре Святого Варфоломея в Кампанье, на территории Неаполитанского королевства. До 1576 года он носил рясу доминиканца, совершал богослужения и был в послушании у всех, кто старше его саном, и у настоятелей монастырей, в которых он жил. В Неаполе против него из-за каких-то пустяков возбудили судебное дело.
Но человек, затеявший дело с целью запугать Бруно, в тот же день разорвал все бумаги. Потом у него вышел спор с Монтальчино, монахом того же ордена, который утверждал, что еретики — люди невежественные и неправильно употребляют схоластические термины. Он же, Бруно, возражал, что они, конечно, не делают таких выводов, как схоластики, а подходят к самой сути вопроса, как и отцы Церкви. И он продолжал доказывать Монтальчино, что Арий нашёл некоторую поддержку в творениях Святого Августина. Монтальчино донёс об этом разговоре, и против него, Бруно, опять затеяли судебный процесс, выдвинув ещё другие обвинения, а какие именно, ему и по сей день неизвестно, так как он испугался и бежал в Рим.
В Риме он пошёл в управление их ордена. Но, узнав здесь, что о нём опять наводили справки, бежал из Рима, сбросив монашескую рясу и приняв опять имя Фелипе, данное ему при крещении. Он отправился в Геную, оттуда в Нолу на Ривьера ди Поненте, где он в течение четырёх-пяти месяцев кормился тем, что обучал грамматике детей и географии некоторых высокопоставленных лиц.
На этом, ввиду позднего часа, показания Бруно были прерваны судьями, и он, после обычного предупреждения, был отправлен обратно туда, откуда его привели.
На другой день, в субботу, обвиняемого снова допрашивали. Вместо папского нунция присутствовал на этот раз его заместитель, дон Ливио Пассеро. Обвиняемый продолжал свой рассказ. Он говорил просто, горячо и с какой-то вызывающей откровенностью. Он рассказал, как из Нолы уехал в Савону, потом через две недели в Турин. Так как здесь было трудно найти приличный заработок, он отправился вниз по реке По, в Венецию, где прожил полтора месяца и за это время выпустил книгу под заглавием «Знамения времени», которую разрешил преподобный отец Ремиджио из Флоренции, также доминиканец. Из Падуи он перебрался в Бергамо, побывал в Милане и хотел было направиться в Лион через снежный перевал Мон-Сени. Но в Шамбери, монастыре доминиканцев, его встретили очень неприветливо, а один итальянский монах предупредил его, что дальше будет ещё хуже, поэтому Бруно вернулся в Женеву. Здесь он заказал себе короткие панталоны и ещё кое-что из одежды, а маркиз Вико и другие итальянцы снабдили его шпагой, шляпой, плащом и всякими необходимыми вещами, так что он превратился в мирянина и мог зарабатывать себе средства к жизни правкой корректур.
— Я часто посещал проповеди и диспуты еретиков, — сказал он, — но не потому, что они меня привлекали, а просто из любопытства. Удовлетворения мне это не приносило, так что после какой-нибудь проповеди, когда наступал момент причащения и раздачи хлеба по их обряду, я уходил и возвращался к своим делам. Я ни разу не принимал причастия и не исполнял ни одного из их обрядов.
Бруно указали, что этому трудно поверить, так как такой неуступчивостью он рисковал нажить себе врагов.
Он отвечал:
— Всегда, когда бы я ни преступал закон, я этого не скрывал и не лгал. Этого греха на мне нет, и в нём меня никогда не уличат. К тому же в еретических странах всегда встречаются католики, не выполняющие протестантских обрядов.
Так как ему объяснили, что он не сможет жить в Женеве, если не будет сообразоваться с требованиями кальвинистов, и так как он не получал от последних никакой помощи, Бруно решил уехать. Отправился в Лион и пробыл там месяц, но там ему жить было нечем. Он переехал в Тулузу. В Тулузе полгода занимался с группой студентов — знакомил их с небесной сферой и преподавал философию. Здесь он получил докторскую степень и был избран студентами на кафедру философии. Он выступал на диспутах, а когда началась гражданская война, уехал из Тулузы в Париж[356].
Ему предложили кафедру в университете, но он не мог её занять, так как профессора обязаны были присутствовать на богослужениях. Генрих III пригласил его ко двору, желая узнать, природные ли у него мнемонические способности или они приобретены с помощью магии. Когда он, Бруно, убедил короля, что магия здесь ни при чём, тот дал ему звание экстраординарного профессора на жалованье. Из-за назревавших в Париже смут он уехал в Лондон с рекомендательным письмом короля к французскому посланнику в Англии Кастельно.
В Оксфорде ему не повезло, и Кастельно принял его к себе в дом в качестве одного из дворян своей свиты. Он часто сопровождал посла ко двору королевы Елизаветы. Пробыв в Англии года два, он вместе с Кастельно вернулся в Париж, где жил некоторое время, сначала у одного из своих друзей, потом на собственные средства. Он делал попытки примириться с Церковью, побывал с этой целью у нунция и у одного из отцов иезуитов. У него были неприятности из-за диспута на тему «Сто двадцать доводов против перипатетиков»[357], и он уехал в Германию. Сперва в Метц, потом в Виттенберг, где один его приятель, юрист Альберико Джантиле, с которым он познакомился в Англии, рекомендовал его для чтения лекций об Аристотелевом «Органоне». Но старый герцог умер, сын его покровительствовал кальвинистам, которые ополчились против тех, кто поддерживал его, Бруно, так что ему пришлось из Виттенберга переехать в Прагу.
В Праге он прожил полгода, написал книгу по геометрии, посвятив её императору, за что получил триста талеров. Затем перебрался в Хельмстедт, где произнёс речь на смерть герцога Юлия, и за это молодой герцог подарил ему восемьдесят скудо[358]. Из Праги он отправился во Франкфурт, чтобы издать там две свои книги: «De minimo» и «De numere monade et Figura». Во Франкфурте через Чьотто получил приглашение Мочениго и поэтому в конце концов приехал в Венецию. Бруно заверял судей, что единственной целью его возвращения в Италию было увидеть его святейшество и попросить разрешения посвятить ему одну свою книгу. Об этом он советовался с Мочениго и некоторыми неаполитанскими монахами-доминиканцами.
— Я хотел принести к стопам его святейшества некоторые из моих одобренных книг. Среди моих книг есть и такие, которых я не одобряю, ибо в них я рассуждал больше как философ, а вовсе не как добрый христианин. В частности, я сознаю, что в некоторых моих сочинениях я подходил как философ к таким явлениям, которые следовало отнести к могуществу, мудрости и благости Божией, согласно догмату христианской веры. В общем я основывал своё учение на чувстве и разуме, а не на вере. Что же касается частностей, тут я сошлюсь на мои книги, потому что я не помню, чтобы проповедовал какие-либо специальные догматы, и буду только отвечать на ваши вопросы всё, что знаю и помню.
После этого обвиняемому было сделано обычное торжественное предупреждение, и его отвели обратно в тюрьму.
На следующий день члены Инквизиционного суда получили письменное показание от фра Доминико, подтверждавшее показания обвиняемого об их беседе.
Второго июня, во вторник, в заседании суда было прочитано это донесение. На этот раз в качестве представителя государства присутствовал Себастьяно Барбарико, огласивший разрешение верховной власти открыть заседание. Обвиняемый представил список своих сочинений, напечатанных и ненапечатанных, отметив при этом, что, как видно из их заголовков и содержания, они носят чисто философский характер.
— Я всегда рассуждал как философ, объясняя всё в соответствии с законами природы и в свете этих законов. Я не думал, прежде всего, о том, чтобы согласовать мои взгляды с религией. Я полагаю, что нет никаких оснований обвинять меня в стремлении хулить религию, тогда как я просто поддерживал философию, хотя, быть может, и высказывал много нечестивых мыслей, которые объясняются тем, что у меня на всё своя собственная точка зрения.
Никогда я не проповедовал ничего, прямо противоречащего католической вере, хотя меня в Париже обвинили в том, что я делал это косвенно, когда мне разрешено было выступить на диспуте против перипатетиков и других общепризнанных философов, и потом моя речь, с разрешения властей, была напечатана. Мне позволяли писать о законах природы без ущерба для истины с точки зрения религии, писать так, как я излагал и защищал свою философию в моих последних книгах на латинском языке, изданных во Франкфурте: «De minimo», «De Monade», «De immenso» и частично в «De compositione»[359]. В этих сочинениях я изложил свою теорию, которая в кратких чертах такова:
«Я полагаю, что Вселенная бесконечна, как творение бесконечной божественной силы. Ибо недостойно было бы божественной благости и силы создать только мир, ограниченный пределами, когда они способны создать бесконечность миров. Поэтому я учил, что существует бесконечное число отдельных миров, подобных нашей Земле. Я, как и Пифагор, считаю, что Земля наша есть звезда, Луна, планеты и звёзды подобны ей, и звёзд бесконечное множество. Все эти небесные тела образуют бесконечность миров. Они составляют бесконечное целое в бесконечном пространстве, бесконечную Вселенную, то есть Вселенную, заключающую в себе бесчисленное множество миров. Но это, может быть, до некоторой степени противоречит тому, что религия считает истиной.
В этой Вселенной, по моей мысли, обитает Провидение, по воле которого всё живёт, растёт, движется и пребывает в совершенстве своём. И я представляю себе Провидение двояким образом: во-первых, в виде души, которая присутствует во всей материи и в каждой её частице. Её я называю Природой, отражающей и запечатлевающей божественное начало. Во-вторых, в виде Бога, который есть некая сущность и сила, непостижимым образом присутствующая во всём и над всем не как часть его, не как дух, а как нечто не изречённое.
Далее я, как и некоторые богословы и величайшие мыслители, признаю три атрибута божества — силу, мудрость и благость, или интуитивный разум, знание и любовь. Все вещи сотворены интуитивной силой, управляются и распознаются интеллектом, а гармонию во всём создаст всеобъемлющая любовь. Ничто не может существовать отрешённым от этой божественной субстанции. Но распознавание и определение божества — результат умозаключений, дискурсивной мысли, а не реальная действительность.
Я согласен с Аристотелем, что всё существующее происходит от некой первопричины, так что можно говорить о сотворении мира, как указывал и святой Фома. Представляем ли мы себе эту зависимость извне или во времени, — всё есть следствие этой первопричины, а не существует само по себе».
Бруно принялся развивать свою мысль, цитируя Священное Писание и Вергилия[360], стремясь примирить учение о Святой Троице со своей теорией о том, что «смерти нет, есть только распадение и рассеяние частиц тела в природе».
На вопрос, верит ли он, что Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух едины в трёх лицах, он ответил, что с восемнадцати лет стал сомневаться в существовании различия между двумя последними. Но он никогда категорически не отрицал этого догмата, не возражал против него ни письменно, ни устно.
На вопрос, бывают ли у него сомнения в существовании Бога Отца, он ответил: «Никогда».
Спрошенный затем, верит ли он в воплощение Христа, Бруно сказал, что сомневается в нём и боролся в душе с этими сомнениями. Но когда цитировал слова Ария, то просто излагал его мнение, а вовсе не защищал его.
Наступило время перерыва на обед, и обвиняемого с обычным предупреждением увели в камеру.
Заседание возобновилось. Нунций и патриарх были представлены их заместителями.
Отвечая на вопросы, обвиняемый заявил, что в его сочинениях можно найти много спорного, но ничего, прямо отрицающего христианское учение. Всегда взывая к человеческому разуму, он рассуждал не как богослов, а как философ, и если в его сочинениях и встречаются еретические утверждения, так это только цитаты, которые он приводил.
На вопрос о воплощении Бруно отвечал:
— Я верую, что божественное слово заключается в человечности Христа, но никогда не мог поверить в сочетание бесконечного с предельным, бессмертного со смертным, подобного сочетанию души и тела в единой реальной сущности.
Спрошенный в упор, Бруно объяснил, что, выражаясь языком богословов, божественное может соединяться с человеческим лишь путём assistentia, то есть путём временного влияния или присутствия, но не стал отрицать божественной природы Христа.
На вопрос об его отношении к чудесам, которые творил Христос, он сказал, что они — истинное свидетельство божественной силы, но ещё большим свидетельством являются для него евангельские заветы.
На вопрос, правда ли, что он утверждал, будто Христос был не Бог, а обыкновенный преступник, Бруно воскликнул:
— Меня удивляет, как вы можете задавать мне такие вопросы! Я ничего не говорил против Христа. Я верую в него так, как велит Святая Церковь!
Он сокрушённо покачал головой и добавил:
— Не понимаю, как можно приписывать мне такие вещи. Я верил и верю в бессмертие души, ибо она — одна из форм существования субстанции. То есть, если перевести это на язык католической веры, душа не переходит из тела в тело, а идёт в рай, чистилище или ад. Но я, как философ, вникал глубже и думал, что, если душа не существует без тела и не присутствует в теле, она может переходить из тела в тело, равно как и материя может переходить из одной массы в другую. Если это и не так, то это очень близко к идее Пифагора.
На вопрос: «Вы — учёный богослов и хорошо знакомы с католическими догматами?» — он ответил:
— Не очень. Я занимался больше всего философией, которую считал своим призванием.
На вопрос, правда ли, что он с презрением отзывался о богословах, Бруно ответил отрицательно. Он сказал, что, наоборот, осуждал протестантское учение за то, что оно расходится с римско-католическим, и всегда отстаивал богословов-католиков, в особенности Святого Фому Аквината. Еретические книги он читал только из любознательности.
На вопрос, что он думает о значении добрых дел, Бруно процитировал отрывки из своих сочинений, где он доказывал, что добрыми делами можно спастись так же, как верой.
Во время дальнейшего допроса обвиняемый признал, что, по его мнению, апостолы проповедью, примером и чудесами достигали большего, чем в наше время Церковь добивается насилием. Но при этом утверждал всё-таки, что, как это видно из его книг, он всегда поддерживал Церковь, а не еретиков.
На вопрос, правда ли, что он утверждал, будто Христос творил чудеса с помощью магии, он поднял руки к небу и воскликнул:
— Кто выдумал такую дьявольскую ложь? Никогда у меня и в мыслях не было ничего подобного. Боже, что же это? Я скорее готов был бы умереть, чем сказать такую вещь!
Допрошенный относительно приписываемых ему кощунственных шуток насчёт Страшного Суда, он заявил:
— Никогда я не говорил таких вещей. Просмотрите мои книги. Те, кто меня обвиняют, — профаны, а вы не найдёте в моих книгах и следа всего того, в чём меня обвиняют. Мне это и в голову не приходило!
На вопрос об его отношении к плотскому греху он признался, что считает блуд наименьшим из смертных грехов и любил шутить на эту тему в компании легкомысленных людей. Но никогда он не порицал Церковь за её требования нравственности и признавал её взгляд на половые отношения.
Затем обвиняемому было объявлено, что его не должны удивлять заданные вопросы, так как он жил в еретических странах, много общался с еретиками и посещал их проповеди. И его собственных признаний достаточно, чтобы суд поверил тем обвинениям, которые выдвинуты против него.
Ему прочли эти обвинения. Затем предупредили, что он должен чистосердечно, ничего не утаивая, покаяться во всём, если хочет снова быть принятым в лоно Церкви. Ибо было бы чудом, если упорное отрицание не привело его к обычной участи нераскаявшихся грешников. Святая Инквизиция, по благочестию своему и христианскому милосердию, помогает узреть свет тем, кто ходит во тьме, стремится увести их с пути неправедного на путь истинный, прямой путь к вечной жизни.
— Да накажет меня Бог, — отвечал Бруно, — если все мои ответы не правдивы настолько, насколько мне верна память. Но для очистки совести я снова припомню всю свою жизнь, и, если я грешен ещё в каких-нибудь словах или поступках против католической веры, я чистосердечно в них признаюсь. Я всегда говорил лишь то, что считаю истинным и справедливым, и всегда буду поступать так же. Я уверен, что никогда никому не удастся доказать обратное.
На следующий день, третьего июня, суд собрался снова. Патриарх и нунций опять прислали своих заместителей. Были прочитаны снова все вопросы, заданные обвиняемому накануне, и у него спросили, виновен ли он в чём-либо из того, что ему приписывают. Он ответил, что он действительно не соблюдал постов, которых не признают еретики, так как только тогда, когда он живёт среди католиков, он знает, в какие дни полагается поститься. У него, конечно, были угрызения совести, но настаивать на таких мелочах значило бы просто выставить себя на посмешище. Он согласен, что добрый католик должен строго соблюдать посты, но Бог свидетель, что, не выполняя обрядов, он не хотел этим оскорбить Церковь. Он посещал проповеди протестантов из чисто отвлечённого интереса и никогда не причащался по их обряду.
На новые, более настойчивые вопросы Бруно отвечал:
— Я сказал всю правду о своих ошибках, и никогда вы не докажете, что это неправда. В тех краях есть множество католиков, которые не соблюдают религиозных обрядов, но от этого они не стали еретиками.
На вопрос, утверждал ли он, что человек происходит от животного, Бруно возразил, что это неправда, что он никогда не говорил о чисто животном происхождения человека и только цитировал Лукреция и Эпикура[361].
Относительно магии сказал, что он никогда не верил О заклинания, но пытался подойти к астрологии с чисто интеллектуальной точки зрения. Он никогда не учил, что миром правит судьба.
На вопрос, восхвалял ли он еретических государей, он сказал, что восхвалял лишь их нравственные качества, а не их религиозные убеждения. Кроме того, таких восхвалений требовал этикет. Поэтому он и королеву Елизавету величал «Diva»[362].
Когда его стали допрашивать об отношениях с королём Наваррским, он сообщил, что раз, когда зашёл разговор об этом короле, он, Бруно, высказал мнение, что Генрих признал свои религиозные заблуждения только потому, что он метил на французский трон. Генриха он видел, но не знаком ни с ним, ни с его министрами. Он только говорил в своё время, что если Генрих оставит в силе указы своих предшественников, то ему, Бруно, будет разрешено читать лекции в Париже, так как это ему разрешал Генрих III.
Отвечая на дальнейшие вопросы, обвиняемый заявил, что он не имеет никакого желания быть «полководцем» и охранять чужое богатство. Он — человек не воинственный, и его прельщает не богатство, а покой и досуг, чтобы можно было изучать философию и разные науки.
Затем суд задал обвиняемому вопрос, отрекается ли он от своих еретических идей и ненавидит ли их. Он ответил:
— Мне ненавистны и омерзительны все грехи, какие я когда-либо совершил против католической веры и повелений Святой Церкви. Я молю Святой Трибунал допустить меня в лоно Церкви и, зная немощность духа моего, поддержать меня средствами, ведущими к спасению души и свидетельствующими о милосердии Церкви.
После этого допросом были установлены его бегство из Неаполя и прежние обвинения его перед судом, на том заседание кончилось.
Следующее заседание было коротким. Присутствовали нунций и патриарх, отец инквизитор и Барбарико. Обвиняемому прочли протокол перекрёстного допроса, и он подтвердил, что всё записано точно и он ничего не имеет добавить.
Затем его спросили, интересуется ли он колдовством и прорицаниями. Он ответил, что книгу заклинаний, обнаруженную среди его вещей, он достал из чисто теоретического интереса к этим вопросам.
На вопрос, есть ли у него враги, Бруно сказал, что не может припомнить ни одного, кроме Мочениго. Он с жаром обвинял Мочениго в оговоре по злобе и в насилии над ним, объясняя это нездоровой завистью и властным характером.
Затем его увели обратно в тюрьму.
Недели через три снова состоялось заседание суда, и представителем Сената на нём был Томазо Морозини. Обвиняемого в суд не приводили. Было оглашено клятвенное показание Андреа Морозини:
«Несколько месяцев тому назад в книжных лавках Венеции появились в продаже книги по философии, на которых стояло имя Джордано Бруно, человека, известного своей разносторонней учёностью. Из того, что я слышал в Венеции, а также со слов Джованни Баттиста Чьотто, книгопродавца, я заключил, что этот человек находится в нашем городе, и счёл желательным его появление в нашем доме, где бывают некоторые дворяне, а также прелаты для участия в беседах литературных и философских. Поэтому я сказал Чьотто, чтобы он направил Бруно ко мне. Бруно приходил несколько раз и беседовал о различных предметах. Я ни разу не усмотрел в его рассуждениях ничего такого, что было бы направлено против религии, и всегда считал его католиком. Будь у меня хоть малейшее сомнение в этом, я бы не допустил его присутствия в моём доме».
Чьотто был снова вызван в суд и подтвердил показание обвиняемого, что он говорил ему, Чьотто, о намерении преподнести Папе книгу, которую он пишет.
Тридцатого июля, спустя два месяца после ареста, обвиняемый снова предстал перед судом. На этот раз присутствовали два представителя светской власти. Спрошенный, не может ли он теперь, после того, как у него было время на размышления, дать более достоверные сведения обо всём, Бруно ответил, что ничего не имеет добавить к прежним показаниям. Ему объявили, что его долгое и упорное вероотступничество навлекло на него тяжёлые подозрения Святого Трибунала. Можно думать, что за его уверениями скрывается нечто не высказанное. Он должен облегчить свою совесть.
Бруно ответил, что, несомненно, его признания и то, что он писал, могли навлечь на него подозрения в ереси. Он всегда испытывал раскаяние и стремился к исправлению. Он искал менее тягостного пути, чем подчинение суровому монастырскому уставу. Он надеялся, что заслужит милость его святейшества и ему будет дозволено пользоваться большей свободой, оставаясь священником католической церкви. Его поведение объясняется не отсутствием уважения к религии, а любовью к свободе и страхом перед суровостью Святой Инквизиции.
Ему сказали:
— Если ваше стремление было искренним, чем же объяснить, что вы, прожив так долго во Франции, и других католических странах, и здесь, в Венеции, ни разу не обратились за советом к какому-нибудь прелату? И вы до сих пор всё время проповедовали лживые и еретические идеи.
Бруно сослался на свои показания о том, что он советовался с прелатами и католическими монахами. Сказал, что его поведение в Венеции было безупречно. Он обсуждал философские вопросы с некоторыми аристократами — и только. Суд легко может в этом удостовериться. Он доказал своё стремление вернуться в лоно Церкви, но не в монастырь, и общался с монахами его родной провинции. Он убеждён, что один только Мочениго — его враг и обвинитель.
Ему возразили, что, раз он так долго оставался вероотступником и столько лет жил среди еретиков, его можно считать отъявленным грешником и он должен приготовиться очистить душу. Он ответил, что, быть может, у него заблуждений было больше, чем он может припомнить, но, как он ни проверял себя, он не нашёл больше ничего. Он с готовностью сообщил всё, что знает. Он предаст себя в руки достопочтенных судей. Он не знает, каково будет наказание, но от всего сердца готов нести его.
Ему предложили встать, спросили, имеет ли он что-нибудь ещё открыть судьям. Он ответил: «Ничего». Его увели в тюрьму, а судьи пошли обедать.
XX. В тюрьме
Светлый узор, отбрасываемый решёткой тюремного окна, скользил по сырой стене. Сначала — узкий, продолговатый пряник, потом чёткий квадрат на плитах пола, потом — опять пряник, который становился всё уже и уже и, наконец, исчезал совсем. Оставался только вверху решётчатый четырёхугольник голубого света, то светлевший, то темневший, обрызганный звёздами.
Для Бруно было развлечением каждый день ожидать появления на стене этой узкой полоски света. Так как окно камеры было обращено на юго-запад, приходилось ждать несколько часов, пока солнце заглянет сюда. Чтобы убить время, узник следил за движением светлого узора по стене и в ненастные дни чувствовал себя ограбленным, лишённым единственного теперь общения с миром и природой.
Он отмечал те точки на стене, где появлялась и исчезала узкая полоска света, а на полу — место, где светлый квадрат достигал наибольшего размера, и день за днём следил за едва уловимым перемещением этих точек.
Окошко было высоко, он не мог добраться до него и выглянуть наружу. И только в этом движении бликов света на стене заключалась вся его жизнь. Они роднили его с Солнцем, Луной и звёздами, созданными из тех же элементов, что и тело его, они успокаивали его, напоминая, что ещё существует этот комочек деятельной кипучей жизни, земля, на которой кишат временные гости — люди. Когда-то он полагал, что для христиан неприемлема его философия, отводящая человеку и земному шару самую ничтожную роль в огромной и дивной Вселенной. Теперь он думал иначе. Все формы жизни были для него одинаково священны, одинаково интересны. Навозный жук и Солнце — формы одной и той же материи, одной и той же силы.
Человек, покоряющий знанием изумительную Вселенную, вырос в его глазах, ибо этого сделать не могли никакие детские фантазии об аде и рае, о смерти и жизни.
Он отмечал дни на стене пуговицей, оторвавшейся от камзола. Казалось, это так просто: каждое утро, когда проснёшься, отмечать новый день. Но дни шли один за другим, одинаковые, без событий, он тупел и проводил долгие часы в дремоте, от которой просыпался всякий раз с ощущением тревоги, но тревоги неясной: это не был страх перед чем-нибудь определённым. Теперь уже он часто не помнил, отметил ли он на стене сегодняшний день. Он помнил тот момент, когда в последний раз царапал стену пуговицей, но ему казалось, что это было вчера. И когда что-нибудь случалось, например, когда он нашёл в хлебе большой камушек, или когда дождь брызнул в окошко, в то время как он спал, — любое такое событие настолько ярко запечатлевалось у него в мозгу, что ему казалось, будто оно произошло несколько минут тому назад. И только после усиленного размышления удавалось хоть приблизительно определить, когда это было. Так он тратил массу времени на то, чтобы возвращать явления к тем моментам, когда они происходили. Ход времени становился всё более беспорядочным и хаотичным, а Бруно чувствовал, что страшно важно не допускать этого. Было так, как будто живёт человек в комнате, полной безделушек, и Необходимо, чтобы каждая из них стояла на своём, отведённом ей месте, — такая наложена на этого человека епитимья за какой-то страшный грех. А неведомый враг всё время переставляет вещи на другое место. Не успеет человек с лихорадочной торопливостью навести порядок в одном месте, как оказывается, что за его спиной, в другом углу, всё опять переставлено. Теперь Бруно, отметив на стене какой-нибудь день, начинал мучиться сомнениями, не вчерашний ли это день он отметил. И ломал голову, пытаясь припомнить какие-нибудь мелочи, по которым можно было бы установить ход времени: звук шагов за дверью камеры, заглушённый крик, донёсшийся издалека, песню, прозвучавшую под самым окном, как слова надежды, воробья, севшего на перекладину решётки, таракана, плававшего в жидком капустном супе, муху, забравшуюся в его рукав и жужжавшую там. Ему казалось, что на него обрушится какое-то ужасное несчастье, если он спутает дни, в особенности если насчитает лишний. Но и пропустить по ошибке день он очень боялся, — словно это значило быть обделённым жизнью, утратить мир, отодвинуть дальше своё освобождение.
В те минуты, когда Бруно не был поглощён своей борьбой с временем, его больше всего мучил стыд за себя. Он вёл себя на суде, как слабый человек. Начал как будто хорошо, говорил с судьями, как равный, открыто, прямо, добровольно сознаваясь в том, чего он не считал нужным скрывать. Потом постепенно в душу его закрался страх. Безучастные лица судей, явнаяневозможность произвести на них впечатление или вызвать своей исповедью сочувствие, их нарочитая маска невозмутимого спокойствия и холодности — всё это сломило его решимость отнестись ко всему делу так, как оно того заслуживало, — как к шаблонной детской игре в допрос, навязанной людям, стоящим на более высокой ступени развития. За этой бесстрастной важностью лиц он неожиданно увидел кровожадность, почуял мягкую поступь тигра, крадущегося к добыче. Да, это игра довольно увлекательная для тех, кто наблюдает её из безопасного угла, но страшная своей неумолимостью для обречённых в жертву.
С той минуты он разом утратил бодрость и уверенность. Допросы представились ему в новом свете. Сначала они казались чем-то несерьёзным и ненастоящим, так как он не видел за ними никакой объективной цели, никакой общественной или личной проблемы. Теперь они стали «ненастоящими» в ином смысле. За путаной тарабарщиной слов поднимала голову жуткая угроза смерти. И больше всего он терзался тем, что не мог понять кровожадности этих людей, натравленных на него. Почему судьи, из которых каждый в отдельности, может быть, человек отзывчивый, культурный, способный всё понять, вдруг объединились для того, чтобы уничтожить его, Бруно, попавшего в смертоносную машину Инквизиции, как будто не имеющую опоры в индивидуальных особенностях тех людей, которые представляли её?
Машина убийства преображала этих людей — и, что ещё ужаснее, преображала их жертву. Он чувствовал, что его воля к жизни слабела, его убеждения рассыпались в прах, его уверенность исчезла. Ибо сама жизнь мутнела и расплывалась, как медузы на песчаном берегу в жаркий день. Оставалась только западня, грозившая смертью.
Что же, или смысл жизни всегда находишь только во взаимной связи явлений? Или личность, сумма таких бесчисленных соотношений, накопленных в прошлом, проявляется настоящим образом лишь в своей социальной группе, новом комплексе связей, в котором она растворяется? Или то жуткое ощущение распада, которое он сейчас испытывает, есть заключительный процесс органического изменения, переживаемый философом, который всегда стремился постичь тайну этих перемен в непрерывно меняющейся Вселенной? Ему чудилось, что он заключён среди мелькающих теней, которые без конца сплетаются и расходятся, как тени виноградных листьев на стене за беседкой в Савоне, где он однажды пролежал целый день полупьяный.
Так он утратил бодрость духа и во время допросов на суде уже неспособен был сохранять ту уравновешенность и прямоту, с которой он начал.
Он всё обдумал до суда, рассчитал безошибочно. Он хотел в немногих словах доказать благонадёжность своих взглядов, своей философии, всей своей жизни. И верил, что тогда среди судей не найдётся ни одного, в ком он не вызвал бы сочувствия и убеждения, что всё это дело, эта идея суда и наказания его, Бруно, — попросту ерунда, самое большее — пустая формальность, которую надо кое-как выполнить.
Но слова ему изменяли. Их замораживала холодная важность, напускное бесстрастие судей. Ему было бы легче, если бы они кричали на него, оскорбляли, били. Это восстановило бы в нём душевное равновесие.
Холодная безжалостность допроса, гнёт этой фантастической машины показали ему, что он восстал против какой-то невероятной силы, против чего-то, превосходившего всякое понимание. Он не мог уловить, что же это такое. А люди, приводившие в действие эту машину, считали то, что они делали, справедливым и разумным. Вот в чём был весь ужас. Либо эти люди не имели в себе ничего человеческого, либо он, Бруно, не такой человек, как все. Таков был результат его размышлений.
Итак, он пал духом, испытывал потребность спорить, доказывать свою невиновность. Ведь если он не найдёт какого-нибудь моста через пропасть, всё шире разверзавшуюся между ним и этими людьми, если не сумеет заставить их понять его, если не поспешит подать голос через эту пропасть страха, за которой плавали перед его глазами ледяные лица судей далеко, слишком далеко, там, куда уже не доносится его голос, — тогда нет надежды.
Но слова всё больше и больше утрачивали содержание. Диспут превращался в чистейшую бессмыслицу, получалось такое впечатление, словно его судили за утверждение, что дважды два четыре. Когда ему задавали вопросы о взаимоотношении между лицами Святой Троицы, о таинстве причащения, о том, верит ли он в непорочное зачатие, ему казалось, что он втянут в спор с помешанными, которые упорно твердят, что дважды два не четыре, а пять. И ему приходилось защищаться, пользуясь терминологией этих сумасшедших, иначе они никак не могли бы понять его.
Но этот метод его и погубил. Как он мог излагать свою точку зрения, что дважды два четыре, если всё время нужно было притворяться, будто дважды два пять, для того чтобы переходить от одной предпосылки к другой? Он вынужден был притворяться таким же безумным, как эти судьи, чтобы сражаться их собственным оружием, говорить с ними на специфическом языке, который для них был родным, который давал им целеустремлённость и спокойную совесть, у него же высасывал всю кровь из сердца, отнимал силы, потому что он чувствовал себя шарлатаном, когда излагал этим языком свои самые заветные мысли.
Он спрашивал себя, во что же он верит? Почему он не может принять чужие слова просто как символы? Приходится же пользоваться всякими терминами! Все термины неверны, ибо по самой природе своей считаются вещами в себе, тогда как они — просто попытки обобщить известные формы изменений. Так почему же не употреблять и тут, на суде, христианские термины, как ему всегда в какой-то мере приходилось их употреблять в своих книгах? В конце концов, весь человеческий язык состоит из символов, подобных условным математическим обозначениям. Только символы речи связаны с чувственными и эмоциональными восприятиями теснее, чем математические. Как философ, верующий в движение и относительность, Бруно скорее всякого другого должен был бы подчинять себе слово, объясняться при помощи любых символов — языком Платона или «Мистерий», апостола Павла и отцов Церкви, Пифагора или Раймонда Луллия[363]. Здесь, на суде, он говорил с людьми, для которых символы христианской веры — не просто символы, а кровь и плоть действительности, неотделимая от их собственной плоти и крови, «substantia», в том смысле, в каком это слово употреблялось схоластиками, а не Аристотелем. Он же, Бруно, умышленно употреблял этот термин в двойственном значении, чтобы затемнить его истинный смысл.
Итак, он старался отвечать на вопросы единственными словами, способными оправдать то, что он считал истиной, перед этими судьями с глазами убийц. Но всё время изнемогал от гнетущего ужаса, от ощущения нереальности, обманчивости всего, что с ним происходило.
Борясь с обвинениями, которые он считал совершенно вздорными и которые он, как нормальный, разумный человек, имел полное право опровергать какими угодно средствами, — он в то же время испытывал всё возраставший страх, что его обвиняют справедливо, ибо он действительно сеял заблуждения и дьявольскую ересь и стремится теперь обмануть судей не только двусмысленными речами, но и тем, что, защищая себя, он сам не вполне убеждён в правильности своих заветных стремлений.
Всё углублявшийся разлад между тем, что он говорил, и тем, что он чувствовал, убийственная настойчивость и священнодейственная важность судей, в основе которых лежала спесь и алчность, — всё это клином врезалось в его душевную жизнь. Скоро он перестал понимать свои собственные мысли и ощущения. Он замечал, что, как попугай, повторяет слова, некогда для него священные, как выражение нового познания, как провозвестники того дня, когда человек будет ходить, как новый Адам, в созданном вновь мире. А теперь эти слова значили для него не больше, чем фразы о воплощении, которые он повторял, как попугай, за судьями. Свою речь о бесконечности Вселенной он начал с таким чувством, как школьник отвечает скучный урок. Где-то вовне оставалась та часть его души, которую когда-то приводило в трепет это откровение, которая верила, что эти слова переживут века и никогда не отзвучат. Несколько лет тому назад, когда он в первый раз поднялся на кафедру, чтобы произнести эту речь, он верил, что разверзает пропасть между прошлым и настоящим человечества, он познал безмерное одиночество сильного, того, кто, подобно ликующему эхо, возвещает о братстве в ещё нерождённом свободном мире. Он обрушился на всех, кто калечит и подавляет, он стал рупором, передающим грозный клич свободы, вестником бури, которая сокрушит угнетателей и мракобесов, которая ошеломит их сверканием обнажённого меча правды. А теперь, когда он стоял под скучающими и жуткими взглядами судей, голос его звучал сухо, тускло, и только писцы, записывавшие показания, проявляли интерес к ним. Да и тех интересовало лишь одно: чтобы он не говорил слишком быстро. Раз Бруно поймал себя на том, что умеряет быстроту речи, чтобы писцы успели всё записать, — и тогда злые, горящие глаза обратились на него.
Написанное им когда-то звучало в глубине его души, как прибой будущего. «Насильники хуже червей, гусениц, губительнее саранчи и должны быть уничтожены». А от чьего же имени говорит этот суд, как не от имени насильников и паразитов?
Он боялся теперь уже не того, что не сумеет убедить судей в своей невиновности, а того, что сам внутренне не будет больше в ней убеждён. Он страстно умолял судей не верить обвинению его в богохульстве (в котором он на самом деле был виновен), ибо богохульство в его глазах было чем-то совсем иным, чем в глазах судей, и в этой-то разнице и заключался весь внутренний смысл его новой философии, его восприятия действительности. Таким образом, если он не сумеет убедить судей, что он не кощунствовал, — это он-то, славивший жизнь во всех её проявлениях! — значит, он и сам уже нетвёрд в той вере, которая когда-то ярко горела в нём и теперь угасала под упорными взглядами судей — этих людей, изгадивших всю человеческую жизнь!
Но он не знал, чего боялся больше, — того ли, что не убедит судей, или того, что убедит их. Ибо не убедить значило навлечь на себя всю тяжесть преследования, успех же окончательно убил бы в нём слабевшую с каждым днём веру в свои идеи, привёл бы к тому, что он, Бруно, навсегда усвоил бы язык судей и стал бы таким же сумасшедшим, как они… Но могло же всё выйти иначе! Может быть, если бы он убедил судей в своей невиновности, ему вернули бы свободу и он обрёл бы новую уверенность в себе, зашёл бы ещё дальше в том, что эти люди считали богохульством. А если он покажет, что не имеет ничего общего с судьями и их мировоззрением, его осудят и, может быть, к нему вернётся та вера, которая теперь казалась ему дороже всего на свете. Вера в вечное изменение Вселенной, в безграничные её возможности. Вера в бесконечные силы, которые подчинит себе человек, когда он создаст диалектику, при помощи которой постигнет природу движения.
Страх, испытываемый им перед судьями, доказывал, что в его философии есть пробелы. Сознание этого преследовало его со времени приезда в Венецию. Он вдруг понял, в чём заключается этот пробел, когда, излагая судьям свой символ веры, дошёл до слов: «…так же, как ничто не может быть прекрасно, если в нём нет красоты». Ибо этот тезис, которым он рассчитывал угодить судьям, прямо противоречил новому уклону его мысли. Конечно, он много писал когда-то в таком платоновском духе. Но всё это он зачеркнул, когда в своём сочинении «De Immenso» сказал:
«…нечто абстрактное, логически существующее, но нереальное. Если творятся дела справедливые, это и есть справедливость. Если творятся дела добрые, это и есть добро. Мудрые дела — это и есть мудрость. Есть боги и звери, но нет божественного начала и животного начала».
В испарине страха перед тем, что судьи знают его сочинения не хуже его самого, он ждал, не процитирует ли кто-нибудь из них это место. Дилемма, встававшая перед ним, заключалась не в том, будет ли он опровергать или защищать антиплатоновскую точку зрения. Тут всё дело было во внутреннем выборе, который ему не удавалось сделать. В невозможности отождествить того Бруно, который писал о «мировой душе», с тем, который признавал все абстракции.
И это ощущение раздвоения, этот страх перед своей внутренней несостоятельностью, которую неожиданно выявил перекрёстный допрос, становились всё острее с каждым заданным вопросом. Когда он стойко отрицал обвинение в том, что смеялся над таинством причастия, ему припоминались фразы в его «Печати печатей», высмеивавшие значение, которое придают люди «таинствам Вакха и Цереры», de Cerere et Baccho crudelitates. Когда он на суде отрицал свои нападки на Христа и христианскую мораль, ему на память приходили некоторые места из «Изгнания торжествующего зверя», например:
«Он может творить чудеса, может ходить по волнам морским, не замочив ног; пошлём же его к людям, чтобы он внушил им веру во всё то, во что мы хотим, чтобы они верили: в то, что чёрное — бело; что ум человеческий слеп там, где ему кажется, что он видит ясно; что всё, что нашему разуму представляется хорошим и прекрасным, на самом деле дурно и безобразно; что природа — потаскуха и закон её — распутство; что природа и божество не могут стремиться к одной и той же благой цели; что у каждого своя правда, и эти правды так же противоположны друг другу, как тьма и свет».
Так думал Бруно и начал унижаться перед судьями. Каждое его самоунижение как-то неуловимо становилось местью судьям, которые неспособны были видеть правду и красоту той веры, которую он проповедовал. Но в то же время его терзало подозрение, что эта вера в нём тает, — и мучительное желание молить судей о пощаде сливалось с желанием взывать к этой уходившей из сердца вере, умолять её остаться, укрепить его, спасти от заражения безумием в этом мире помешанных, непонятном и кровожадном.
Теперь, думал он, наступило время испытать стоицизм, которым он хвалился. Но эта мысль только смутно мелькала в его мозгу. Ведь хвастая своим стоицизмом, он имел в виду те случаи, когда что-то извне грозило его существованию. А сейчас дело шло об угрозе изнутри. Только тот, кто не вполне понимает характер душевной борьбы, мог бы говорить бойкие фразы о победе души над телом. Если же вникнуть глубже, то такое деление на тело и душу кажется неприемлемым. Это неверное разграничение, это попытка констатировать разлад, не считаясь с живой личностью, в которой вечно борются разлад и гармония.
Бруно так ясно вспомнились его собственные хвастливые слова, что он словно видел воочию это место книги, некоторые разбитые буквы, одно перевёрнутое вверх ногами «d», грязное пятно в углу страницы.
«Телом своим присутствуя в мире, философ в то же время связан неразрешимой клятвой и духом приобщён к божественному. Оттого он не питает ни любви, ни ненависти к земным вещам, помнит, что он выше их и что ему не пристало быть слугой или рабом своего тела, ибо оно — не более как тюрьма его свободы, западня для его крыльев, цепь для членов его, завеса, мешающая ему видеть. Пусть же он не будет ни рабом, ни алым, ни праздным, ни слепым, ни узником своего тела. Ибо тело не имеет власти над ним, если на то нет его согласия. Дух властвует над телом в такой же мере, в какой мир материальный подчинён божественному началу и природе. Итак, философ должен быть стоек в борьбе с судьбой, великодушен к обидчикам, не бояться бедности, болезни и преследований».
Прекрасные слова, но сейчас они были неприменимы. Когда тело в тюрьме, нельзя неблагодарно называть его тюрьмой духа. Теперь душа и тело объединились в нём против насилия. Он вёл борьбу, для него неожиданную, слишком непосредственную, слишком жестокую, чтобы он мог предвидеть её в те дни, когда представлял её себе лишь в виде учёных споров. Теперь в проблеме познания Бруно видел проблему свободы, соразмерную со всей человеческой жизнью. Ей придавало полноту и смысл это кольцо убийц за судейским столом. Их холодно сверкавшие глаза смотрели на него в упор и рождали в нём какое-то новое «я».
Это новое «я» было вне его, как и судьи. Оно наблюдало со стороны его дрожащее тело, оно не вмешивалось, когда тело это, вдруг ослабев, падало к ногам его убийц. Оно молчало, когда язык вопил от невообразимого ужаса перед тем, что говорили ему судьи, ужаса перед этими безумцами, подстрекаемыми тёмной фантастической логикой. Оно не шевелилось, когда он поднимал руки к небу и ломал их. Потому что эти выражения протеста и мольбы были частью разыгрываемой драмы, испытанием для убийц.
Жалость к себе была с его стороны попросту притворством, игрой, хотя она и раздирала ему сердце и выжимала мучительные слёзы из-под воспалённых век, хотя она выпивала всю силу из тела и оставляла его полумёртвым в приступе отчаяния. Жалость к себе была чем-то отдельным от того его «я», которое наблюдало со стороны. Так осудил он свой страх перед неизвестным, так, осуждая убийц, он признавал себя обречённой жертвой, будившей в них кровожадные инстинкты, ибо она доказывала необходимость того мира, которого они не признавали.
«Если бы я был сумасшедшим, — думал он, — я бы воображал, что своим страданием искупаю грехи мира и спасаю его, что я послан в эту юдоль зла, чтобы внести в неё свет. Но это всё слишком просто. Тот, кто знает, что награда всей жизни — лишь в ней самой, в её непосредственном осуществлении, не ждёт никакой иной награды, кроме покоя, когда он растворится в вечной стихии. Я просто стою здесь и жду».
Углы камеры были затканы паутиной, но пауков Бруно не видел. Он слышал когда-то, что один узник приручил паука, и жалел, что в его камере не видно ни одного паука, он бы попробовал тоже его приручить. Он подходил к отметкам на стене и считал их: семьдесят пять. Но он был убеждён, что забыл отметить вчерашний день. Теперь ему так ясно вспоминался вкус густого чёрного вина его родины, что он словно ощущал его во рту.
Всё же, несмотря на растущую решимость ждать, терпеть, на уверенность в близком конце, ему было стыдно. Ибо унижение и сознание небезопасности его попыток разъяснить свои теории судьям были сильнее спокойствия обречённости, гордой покорности судьбе. На суде он с лихорадочной готовностью отвечал на вопросы и, объясняя, невольно становился на точку зрения судей. А вернувшись в камеру, терзался, вспоминая минуты слабости и забывая те моменты, когда он держал себя вызывающе, или те, когда принимал свободный непринуждённый тон снисхождения к этому суду, как к бессмысленному, но неизбежному злу, навязанному ему и судьям к их общему неудовольствию. Впрочем, такие моменты бывали всё реже и реже, так как он всё меньше верил в здравый смысл судей.
А с тех пор как борьба против них переплелась с поисками ошибки в его собственном мировоззрении, он утратил веру в свой разум и ударился в заискивающие объяснения, которые выдавали его. И даже тогда, когда он давал показания, для него губительные, и понимал это, — его мучило сознание своей неискренности.
Ему всё казалось, что судьи притворяются, не может быть, чтобы они действительно веровали в тот детский вздор, который они выдавали за вечную истину. Они, должно быть, считали, что эти суеверия и ложь нужны для того, чтобы держать в подчинении простой народ, сами же они, вероятно, стояли на более высоком уровне развития. Глядя в эти холодные глаза, в которых вскипала угрюмая и кровожадная ненависть, Бруно видел, что для них, как и для него, дело вовсе не в вере. Их тоже ничуть не интересовали вопросы, которые обсуждались на суде. Они были просто хищными зверями, винтиками в машине убийства и стяжания, которая, начав действовать, уже не могла остановиться. Только силой извне можно было уничтожить машину.
По тёмной камере, описывая зигзаги, летала муха. Бруно пытался угадать, как она влетела сюда, через окно или из-под двери. Он бранил себя за ненаблюдательность. Надо будет проследить, как попадает сюда муха. Он затаил дыхание, чтобы не спугнуть муху, иначе она улетит в окно. Ему доставляло глубокую радость наблюдать за её движениями.
Чем больше старался он быть искренним, тем острее чувствовал своё унижение. Его усилия найти общий язык с судьями, употребляя их богословскую терминологию, не делали положение безопаснее. Чем теснее соприкасался Бруно при этом с судьями, тем сильнее чувствовал, что они хотят его смерти. И всё же его не покидало ощущение нереальности всего происходившего. Казалось, стоит только протянуть руку, коснуться этих людей — и будет восстановлена утраченная человеческая близость, и этот суд со всеми его жестокостями отодвинется куда-то в далёкое прошлое. Наверное, одного только слова достаточно, чтобы покончить со всем этим. Одного слова… Но какого?
Он не находил его. Как человек, долго пробывший на зимнем ветру, чувствует оцепенение во всём теле, так он ощущал своё бессилие и бессилие этих людей. Раз он поймал устремлённый на него взгляд патриарха, — взгляд благожелательный в этот миг, омрачённый каким-то недоумением. И вспомнил, что познакомился с этим человеком в Париже. Приули был тогда венецианским послом во Франции. У них произошёл однажды очень интересный разговор. Бруно изложил своё неодобрительное мнение о Каэтане, о Пико делла Мирандола[364] и всех иезуитах. Они потолковали о Лукреции, о «Hymni naturales» Марулла[365], об изданиях Лукреция, выпущенных Ламбином и Гифанием. «Гифаний был мошенник», — заметил Бруно. Приули незадолго перед тем приобрёл книгу Плантина «Лукреций» в издании Гифания и очень хвалил её. «Остроумная книга, — ответил Бруно. — А издание Ламбина тысяча пятьсот семидесятого года вы видали? Это шедевр!» Теперь Бруно казалось невозможным, чтобы этот самый человек, Приули, допустил его осуждение на смерть. Так бессмысленно! Растерянность его росла. В следующую минуту он увидел, как глаза патриарха заволоклись тем же выражением тупой важности, как у остальных, стали стеклянными глазами убийцы, занятого только процедурой суда. И это — тот самый человек, что цитировал на память строки из Маруллова «Гимна Солнцу»: «Появляется Бог и затопляет поля дождём драгоценных камней».
Бруно терял ощущение, что он человек, оттого что вокруг были только глаза и голоса убийц. Его поглотил густой мрак лесных чащ, в котором светились лишь жёлтые огни этих волчьих глаз.
Так, не ощущая более своего нового «я», Бруно старался говорить исключительно языком своих обвинителей. В последнем усилии найти какой-то человеческий контакт с судьями, он с готовностью признавал их веру в воплощение и бессмертие. Но эти слова, в которых таилось безумие, только подчёркивали для него отсутствие человеческого единения между ним и судьями. И, лёжа в камере, он спрашивал себя: «Что это такое я утратил, оттого что думал, что его у меня нет?»
Он, скитавшийся по свету, ссорившийся с людьми, вступавший с некоторыми из них в пылкую, но скоропреходящую дружбу, он, не встретивший в жизни существа, к которому мог бы привязаться всем сердцем, он, который, не обретя такой связи с обществом, которую стоило бы поддерживать, утратил потребность участвовать в общественной жизни, растворил её в заносчивом презрении, — он чувствовал теперь, что до встречи с Мочениго жил в мире людей, воодушевлённых общей целью. Но и эта встреча лицом к лицу с мертвящей ненавистью не внесла ничего нового. Вот где был корень прежнего страха, зло, от которого он всегда бежал и которое теперь наступало на него. Оттого-то временами он теперь испытывал странное спокойствие и ясность духа. Он встретил наконец лицом к лицу то, чего боялся, но ещё не понимал, что это такое. Он видел это «что-то», но ещё не вник в глубину его. Он видел его глаза, но не сердце, не сокровенную его сущность. Оставалось ждать и терпеть, пока всё не станет ясно.
Бруно лежал на спине и считал до десяти. Почувствовал, как что-то ползёт у него за ухом. Стал гадать, клоп это, вошь или блоха. Нет, блохи не двигаются так медленно. Наверное, клоп. Он загадал: если клоп, то, значит, Морозини тайно хлопочет об его освобождении. Долго вспоминал он влажный, мягкий рот синьоры Чьотто. Потом решил, что пора повернуться на левый бок… Когда ноги очень давно не мыты и вы вздумаете почесать между пальцев, зуд становится нестерпимым.
Так вернулся к нему стоицизм, заговорил новым голосом, приобрёл новый смысл. В эти минуты казалось, что звериные глаза зла, откровенно устремлённые теперь на него, придали тому другому, чему он всю жизнь поклонялся, конкретный смысл. Разом уничтожив все его иллюзии, поставив его лицом к лицу с тем, чего он страшился, они яснее выявили его стремления.
Просыпаясь по ночам, Бруно плакал от радости и молился, чтобы и это тоже не оказалось обманчивой иллюзией. Плача и сжимая руками грудь, в которой пела радость, он говорил себе, что теперь прикоснулся к самому сердцу человечества. Он боялся, что сходит с ума. Да и как могло быть иначе? Знал ли он до сих пор нечто такое, что поддерживало бы это радостное чувство единения с людьми? До сих пор он находил радость только в единении с природой, достигаемом познанием и чутьём красоты. Глубже он не вникал.
Думая так, он улыбался, он смеялся от счастья. Но сдерживал смех, опасаясь, что услышат тюремщики и, может быть, донесут судьям о его поведении, тогда его опять примутся допрашивать.
Когда судьи спрашивали относительно его книг, Бруно отвечал с жаром, с воодушевлением, заискивающе, домогаясь похвал. А про себя твердил: «Если я спасусь от смерти, я напишу все мои книги заново в том духе, в каком я сейчас их пересказываю, я буду так благодарен, я заслужу уважение людей, я всё сделаю им в угоду, мне теперь понятна их точка зрения».
…И в то же самое время он упивался тайным презрением, глубоким равнодушием к тому, чем были одержимы эти люди. Он страстно презирал роль, которую ему приходилось играть, а, следовательно, и людей, требовавших этого притворства, людей, для которых ложь стала второй натурой, людей, одурманенных словами, за которыми они скрывали свои корыстные цели, своё честолюбие.
Сославшись во время допроса на своё сочинение «De minimo», в котором изложена его точка зрения, Бруно вспомнил вдруг: в этой книге он писал ещё, что ему с детства набивали голову бредовыми идеями монахов, основанными на ложном понимании истины. Тем не менее он с напускным простодушием, смягчая голос и глядя на судей немигающими глазами, продолжал говорить об этой книге, как о доказательстве своей благонамеренности.
Он вслушивался, приложив ухо к дверям камеры. Ничего не было слышно, но всё же он не отходил от двери. Раз в конце коридора залаяла собака, и с тех пор он всё надеялся, что услышит снова её лай. Бруно обгрыз ногти до мяса, и пальцы у него болели, когда он прижимал их к дереву. Он расчесал чирей на груди, гной вытек и засох в волосах. Он твердил всё снова и снова: «Символом идеи совпадения противоположностей является древо познания добра и зла».
Так шли дни. Раздумывая без конца над каждым словом, сказанным на допросах, над каждым своим ответом и тем смыслом, какой могли ему придать, он приходил к заключению, что судьи вряд ли располагают каким-либо другим материалом, кроме доносов Мочениго и его, Бруно, признаний. Чьотто, Бертрано, Морозини и те люди, с которыми он встречался у Морозини или в «Золотом корабле», если их допрашивали, наверное, дали благоприятные для него показания, потому что в противном случае они бы очутились в опасном положении: им было бы предложено объяснить, почему они раньше не донесли на еретика.
Но хотя Бруно и понимал, как легковесны и ничтожны все показания против него, он ощущал крепкую сеть, в которую его поймали, ощущал на себе действие той ужасной машины паразитической власти, против которой бессильно слово правды.
Его гнев не довольствовался тем, что обнаружил зло внутри Церкви и в её догматах. Он стремился раскрыть тот ужас, который нашёл себе самое сильное выражение в Церкви, но имел мириады других личин и разветвлений. Труднее всего было понять, как он, Бруно, мог когда-то в этом воплощении зла находить что-то дружеское, ободряющее. Много лет лоно Церкви казалось ему отрадным прибежищем, и ещё совсем недавно он воображал, что Церковь можно сделать фундаментом истинно человеческой культуры.
Рост — и разрушение, слияние — и распад. В законности перемен не было абсолютного спасения. «Но для меня, — думал Бруно, — для меня, как человеческой особи, в данный момент соприкоснувшейся и со стихийно изменяющейся Вселенной, и с миром людей, миром социальных явлений, существует какая-то абсолютная точка напряжения, борьбы, разрушения и возобновления. Я умру, но труп мой обратится в знамение воскресения. Я буду вестником будущего, нового рождения, которое внезапно стало для меня более ощутимой реальностью, чем эта гнусная камера и судьи-убийцы».
Часть четвёртая
В руках инквизиции

XXI. Государственное дело
Инквизиция Венеции немедленно донесла о деле Бруно Инквизиции в Рим, и двенадцатого сентября в Риме состоялось заседание конгрегации. Председательствовал кардинал Санторо ди Санта Северино, испанец, аскет, уже прославившийся рвением, с которым он очищал католическую общину, прижигая язвы на её теле — истребляя еретиков. Он преследовал их в Неаполе; он приветствовал избиение гугенотов в Париже[366] и объявил день святого Варфоломея «знаменитым и радостным днём».
Конгрегация постановила сделать всё возможное, чтобы отнять известного еретика Джордано Бруно у Венецианской республики, которая по мотивам, связанным с её торговой деятельностью, проявляла относительную терпимость и вряд ли поступила бы с Бруно так, как это угодно было Риму. Инквизиции в Венеции было предъявлено требование доставить еретика губернатору Анконы, который позаботится об отправке его в Рим. Рим не хотел упускать случая дать почувствовать свою власть республике, с которой у него уже достаточно политических и территориальных столкновений.
Семнадцатого сентября послание из Рима было прочитано на заседании Инквизиции в Венеции. В тот день представителем республики на суде являлся Томазо Морозини. Инквизиция не торопилась и ждала следующей почты из Рима. Через одиннадцать дней после заседания наместник патриарха, отец инквизитор и Томазо Морозини предстали пред дожем и Советом. Наместник объявил, что они не сочли возможным отослать узника, не предупредив Совет. В смягчённой форме это означало, что они не могли выдать обвиняемого без согласия властей. Тут впервые судьи высказали свою точку зрения. Они объявили, что Бруно не рядовой еретик, а покровитель и распространитель ересей. Он в своих книгах восхвалял королеву Елизавету Английскую и других государей-еретиков и писал много враждебного религии, если даже подходить к этому с философской точки зрения. Он монах-расстрига, жил много лет в еретических странах, Германии и Англии, и уже когда-то в Неаполе и Риме обвинялся в ереси. В заключение наместник патриарха попросил решить вопрос немедленно, так как судно, идущее в Анкону, готово к отплытию.
Дож сказал только, что вопросу будет уделено надлежащее внимание. Отец инквизитор пришёл опять в тот же день, настаивал на немедленном решении дела и отправке узника. Дож ответил, что вопрос серьёзный, а Совет сейчас занят рядом важных дел и не имеет возможности решить этот вопрос.
Через несколько дней, седьмого октября, Совет Трёх послал копию письма Папы вместе с секретными инструкциями венецианскому послу в Риме Донато. Три члена Совета подписались: +117,-2 и — 6. Они сообщали, что требование Папы выполнено быть не может, ибо оно подрывает авторитет венецианской Инквизиции и выполнение его послужило бы очень плохим прецедентом. Послу поручалось сообщить это решение кардиналу Северино со всем надлежащим почтением.
Десятого октября Донато ответил, что распоряжение выполнит. В случае возникновения каких-либо разногласий он будет действовать как можно осмотрительнее.
Три месяца тянулись дипломатические переговоры между послом и Папой. За это время в мире произошло много важных событий. Так, властители Италии, в том числе и Папа, снарядили пешие и конные войска для помощи императору в готовившемся походе против турок. Войска решено было сосредоточить в Кроации и оттуда выступить ранней весной. Девятнадцатого октября Инквизиция в Сарагоссе казнила пять человек: четверых провезли по городу на лошадях в чёрном одеянии, пятого тащили на охапке соломы. Одному раскроили череп со лба, другому с затылка, двоим перерезали горло и оставили умирать, пятого удавили. На следующий день Инквизиция судила восемь человек за подстрекательство к мятежу и приговорила к смерти. Человек двадцать — двадцать пять были наказаны кнутом и изгнаны или сосланы на галеры. Много важного произошло в мире.
С двадцать второго декабря папский нунций в Венеции опять начал действовать. Явившись в Венецианскую коллегию, он повторил прежние обвинения Бруно в ереси, присовокупив новое, имевшее целью натравить на Бруно коммерсантов. Бруно напечатал в Лондоне несколько своих книг, и так как они были написаны на итальянском языке, он, чтобы повысить интерес к ним, поставил фальшивую венецианскую марку. Его святейшество (объявил нунций) желает отправки Бруно в Рим, для того чтобы могло совершиться правосудие, и просит дожа выдать преступника.
Затем из Рима прибыл Донато. Он доложил о своих переговорах с Папой: он объявил Папе, что Инквизиция Венеции всегда судила на месте, ибо Папа здесь представлен своим нунцием, который может получать и получает указания из Рима. Следовательно, нет оснований выдавать преступника Риму. Папа (по словам Донато), по-видимому, был удовлетворён его аргументами и больше не касался этого вопроса.
Но кардинал Северино и Инквизиция не теряли надежды. Нунций снова обратился к Совету. Он доказывал, что узник — неаполитанец, а не гражданин Венеции, что он уже раньше в Неаполе и Риме обвинялся в тягчайших преступлениях. Что же касается до прецедентов, так из Венеции в Римский трибунал, как в высшую инстанцию, было в разное время передано больше двух десятков судебных дел. Обвиняемый Бруно — простой монах, человек не влиятельный, без связей и денег. Поэтому не следует отказывать Папе в его просьбе. К тому же этот человек — известный еретик, виновный в мерзких преступлениях, которые нет надобности сейчас перечислять, ибо в данном случае речь идёт о вере. Папа не отрицает права венецианской Инквизиции решать обыкновенные дела, возникающие в пределах Венецианского государства. Но этот процесс слишком серьёзен, он начат ещё в Неаполе и продолжался в Риме.
Замечание об отсутствии имущества у Бруно было сделано с умыслом. Так как всё имущество еретиков конфисковалось и делилось между Церковью, государством и Иквизитором, то материальный достаток того или иного осуждённого еретика играл решающую роль.
Совет ответил нунцию, что пересмотрит своё решение, и заверил его в своей готовности всячески удовлетворить его святейшество.
Власти посовещались с прокуратором[367] Федериго Контарини. Он явился в Коллегию седьмого января 1593 года и здесь изложил своё официальное мнение. Он сообщил все подробности первых процессов против Бруно и прибавил, что Бруно бежал в Англию и Германию, вёл среди еретиков дьявольски-распутный, греховный образ жизни. Хотя преступления его очень тяжки, это человек редкого, блестящего ума, исключительной учёности и внутренней прозорливости. Такого человека, естественно, влекло в Венецию, которая славится своим покровительством литературе. Но он не венецианец, его процесс начат не здесь, и лучше всего будет удовлетворить требование его святейшества, тем более что Папа имеет репутацию человека очень осторожного и благоразумного. Да и сам узник выражал желание ехать в Рим и повергнуть лично к стопам Папы свою просьбу о прощении.
В заключение прокуратор, из осторожности, попросил светлейших синьоров сохранить в тайне его доклад, мотивируя свою просьбу соображениями личного и общественного свойства.
Дож выразил адвокату своё восхищение его энергией и усердной заботой об интересах государства. В тот же день, попозже, Совет Трёх решил уведомить нунция и нового венецианского посла в Риме, Паруту, что, ввиду особых обстоятельств, республика согласна выдать Риму Джордано Бруно, как бежавшего от ранее начатого против него процесса. И девятого января Паруте было послано письмо (подписанное тем же тайным шифром), в котором ему предлагали извлечь как можно больше выгоды из этой уступки Папе. Послу поручалось указать Папе, что выдача Бруно продиктована сыновним почтением республики к блаженному отцу, выразить ему соболезнование по случаю недавнего недомогания и поздравить с выздоровлением.
Шестнадцатого января Парута сообщил, что его святейшество чрезвычайно доволен. Папа сказал, что он непременно желает пребывать в согласии с республикой и надеется, что отныне она не заставит его разгрызать слишком твёрдые кости, чтобы его не могли обвинить в том, что он слишком поддастся добрым чувствам.
Так узник Джордано Бруно после восьми месяцев тюремного заключения в Венеции был передан нунцию и отправлен морем в Анкону.
XXII. На пути в Рим
Когда его вывели из тюрьмы, посадили в лодку и потом, когда перевозили на корабль, где уже убирали канаты, он был слишком ошеломлён, чтобы смотреть на мир, по которому сильно истосковался. У него было только одно желание: чтобы на него не смотрели. Его ещё мутило от запаха тюрьмы. Волосы и бороду ему кое-как подстригли накануне вечером, но под палящими лучами солнца он чувствовал себя грязным и загрубелым и всё время поднимал обе руки к голове, словно хотел что-то натянуть на себя, что именно, он сам не знал. Он даже не поглядел вокруг, чтобы увидеть, нет ли поблизости женщин, хотя он столько месяцев думал, что ему ничего на свете не хочется так, как увидеть какую-нибудь пышнотелую женщину.
На корабле его бросили в маленькую каюту внизу. Дверь заперли на засов снаружи. Слышно было, как за дверью ходил часовой: звякало что-то металлическое, потом донёсся звук удара ногой о дерево, и солдат выругался вполголоса. Тут только Бруно сообразил, что у него была возможность поглядеть на мир, а он упустил её. Он почувствовал себя горько обманутым. Это было тяжелее и обиднее, чем когда-то в прошлом — упустить возможность овладеть женщиной, пленившей сердце. Но он утешал себя мыслью, что его, очевидно, везут в Рим и, значит, он будет ехать и сушей. Он молил судьбу, чтобы его везли верхом на лошади, а не в закрытом экипаже. Не о спасении от смерти, не о прощении мечтал он — только о возможности хоть несколько дней смотреть на мир Божий.
Когда началась качка, ему стало плохо, началась рвота, но никто не заглядывал к нему. Вода плескалась под самым полом тёмной каюты. Он чувствовал смутную благодарность к людям зато, что они его оставляли одного. Лучше морская болезнь, лучше смерть, чем присутствие чужих людей в такие минуты. А ведь в тюрьме он так долго и мучительно тосковал по людям! Теперь он был раздражителен, нетерпелив, ему нестерпимо было вспоминать о людях, некогда окружавших его. Он не хотел, чтобы они опять появились.
Но на другое утро, когда его вывели на палубу, Бруно ощущал только слабость, больше ничего. Ему хотелось задобрить людей, хлопотавших вокруг него. В нём было какое-то новое спокойствие и покорность судьбе. Он с удовлетворением сознавал, что благодатный мир, залитый солнцем, в конце концов существует сам по себе, что этот мир — нечто большее, чем продукт человеческого воображения. Он наблюдал за мухой, сонно ползавшей по тюку полотна, и завидовал ей, свободно двигавшейся в голубой безмерности солнечного света. Медленно, как человек, который обозревает доставшееся ему богатство, вбирал он взором дали, город, извилистой лентой опоясавший три горы, что сторожили его.
Судно бросило якорь в полукруглой бухте. Бруно свезли на берег и повели через Лоджию, где уже начинали появляться торговцы. Он слышал, как они обсуждали новости из Севильи о прибытии целой флотилии кораблей с грузом серебра из Новой Испании и Перу. «Тысяча сто ароб кармина…»
В Бруно проснулся интерес к окружающему. О положении дел в Испании говорили когда-то при нём в таверне Сикини «Золотой корабль». Кто-то из собеседников доказывал, что финансовые дела Испании всё хуже и хуже, что поражение Армады было большим ударом[368] и необходимы решительные меры. Опасались, как бы король не пустил в ход политику конфискаций. В этом случае пострадали бы либо Церковь, либо крупные международные банкиры. Вероятнее всего, банкиры: в 1557 году Фуггеры потеряли четыре миллиона флоринов, которые они ссудили Испании. И несомненно, такие случаи будут повторяться. Римская Церковь тоже в большой тревоге…
Бруно вдруг открыл, что его живо интересуют все эти вопросы. За восемь месяцев в тюрьме он забыл всё, кроме страданий, чаяний, опасений за свою жизнь, а сейчас он сгорал от желания узнать, что происходит в мире. Как будто его участь зависела от этих неизвестных ему событий.
Он шагал по узким улицам, плохо вымощенным булыжником в сопровождении вооружённого конвоя и папского чиновника, которому его передали.
Теперь Бруно находился во владениях Папы, и положение его было безнадёжно. Но он ступал по земле, его грело солнце, он шёл по городу, среди людской суеты, вместо того чтобы лежать запертым в тёмной камере, — и поэтому у него было такое чувство, словно он шагает навстречу свободе, и с ним весь мир. Он снова забыл поискать глазами женщин, а ведь раньше он думал, что будет занят только ими. Между тем всё его внимание сосредоточилось на обрывках новостей, случайно услышанных из разговоров торговцев.
Они пришли к замку Капо ди Монте, построенному в южной части города на месте древнего храма Венеры. Бруно вспомнился один антикварий, рассказывавший ему об этом замке. Но где же происходил тот разговор? Голова у него горела, всё вдруг стремительно поплыло перед глазами. Мелькнула мысль: «Церковь боится новых конфискаций. Вот почему меня так много расспрашивали о Генрихе Четвёртом». Страх терзал его мозг. Бруно понимал, что его считают человеком, который способен создать и широко распространить ересь и найти оправдание для государей, отбирающих богатства у ненасытной Церкви.
Теперь Церковь держится только алчностью её служителей, да и реформатская церковь жива только потому, что потворствует стяжательству еёсторонников. Какой, Бруно, мог воображать когда-то, что он способен сделать выбор между этими чудовищами? Может быть, на заре христианства Церковь руководилась иными побуждениями, а в наше время все веры скрепляют здание насилия и зла. В Неаполе он когда-то подслушал, как провинциал его ордена сказал настоятелю, что Церкви принадлежит свыше двух третей всей земли в Неаполитанском королевстве. А народ живёт в вонючей грязи и мрёт с голоду…
Здесь, в Анконе, жители добились некоторой свободы, и, хотя были подчинены Папе, они тайно выбирали городской магистрат. Но полвека тому назад Папа выстроил крепость под предлогом необходимости защитить город от турецких пиратов. И с тех пор как крепость была построена и снабжена гарнизоном, жители присмирели, запуганные до полного подчинения.
Место, где стоял укреплённый замок, представляло собой узкую и голую полосу. В долине не строили жилищ, все они теснились около моря. Группа конвойных, за которыми бежали оборванные ребятишки, поднималась по крутой дороге в гору. Сердце пело в груди у Бруно. Тёмная камера осталась позади, там, внизу! Он шёл, и земля уже не ускользала у него из-под ног. Свежий зимний воздух не вызывал ломоты в костях, он вливал в него огонь надежды и смелого вызова. Запела какая-то птица. Взволнованный этой песней, Бруно обернулся и поглядел на сверкающее море.
На другой день они рано пустились в путь. Ехали верхом по гористой местности, там, где в летний зной золотом пылают на солнце поля. Обогнули высокий утёс и направились в Лоретто, расположенное на холме, милях в пятнадцати. Бруно заметил у дороги алтарь[369] с надписью «Добрый путь тебе, прохожий» и хотел указать на него своим спутникам. Он был уверен, что, если бы суметь выразить в словах ту беззаботную радость, которую он испытывал, эти люди засмеялись бы, пожали ему руку и сказали бы, что он больше не узник, что теперь они и Бруно будут просто бродить вместе по свету, наслаждаться солнцем, дождём, цветами и пением птиц, сиянием человеческих глаз, и повсюду он, Бруно, мог бы говорить с народом. «Я считаю, что Вселенная бесконечна»… Он мог бы освободить людей от религии страха и смерти, алчности и жестокости, дать им взамен веру в живое дело, в братство, основанное на общности всех благ земных.
Он твердил себе, как твердят песню, те иронические слова, что он написал против христианства. «Моя религия, — говорил он тогда, — даёт жизнь мёртвым, исцеляет больных, делает всё общим. Она не такова, как другие религии, с благословения которых у людей отнимали последние крохи, калечили здоровых, умерщвляли живых…»
Теперь перед ними открылась хорошо вымощенная дорога, непохожая на грязные просёлки, которыми они ехали до тех пор. Они приближались к Лоретто. Монахи проложили здесь хорошие дороги, чтобы пилигримы[370] могли легко одолеть последний подъём.
Бруно обернулся и в последний раз жадно посмотрел на море, прощаясь с ним. В таком элегическом настроении он медленно въехал в город. В конце улицы они остановились у караульни, и Бруно тотчас отвели наверх, в комнату над воротами. Лоретто было хорошо укреплено, после того как на город когда-то напали пираты и разграбили его. Пиратов привлекли сюда богатства, накопленные от приношений паломников, приходивших издалека помолиться в церкви, которая, как уверяли, была некогда домом Девы Марии, тем самым домом, где зачат Христос. По преданию, этот дом был чудесным образом перенесён в Словению, а оттуда в 1294 году в Италию. С тех пор ангелы дважды переносили его в Италии с места на место: в первый раз потому, что разбойники грабили пилигримов, во второй — когда между двумя братьями (на чьей земле стояла церковь) произошла ссора из-за дележа доходов, получаемых от посетителей.
Теперь церковь находилась в Лоретто и, видимо, не собиралась больше никуда перемещаться. Для жителей Лоретто она стала источником верного дохода. На единственной длинной улице городка почти в каждом доме была или гостиница или лавка, в которой торговали чётками и картинками религиозного содержания.
Стемнело, и сквозь щели в полу просочился свет снизу, из шумной караульни. Бруно лежал на полу и пытался разглядеть что-нибудь. Он нашёл одну щель, довольно широкую, сквозь неё видна была часть комнаты. Два солдата, расстегнув пояса, развалились на лавке, харкали и плевали в огонь. Один дразнил кота, а когда кот сделал попытку его укусить, солдат поднял его за шкурку. «Брось его в огонь», — посоветовал солдату один из товарищей. «Нет, — возразил другой, — это кот…» Он произнёс какое-то имя, которого Бруно не расслышал.
Лёжа на полу, Бруно вспомнил рассказ одного немца в Виттенберге о посещении им знаменитой церкви в Лоретго. Внутри она вся сверкала драгоценными каменьями в мерцании восковых свечей. Когда немцу предложили пожертвовать что-нибудь, он бросил сквозь решётку железного ящика, стоявшего под алтарём, полную горсть медяков. Священник, услышав громкое звяканье, подумал, что посетитель сделал щедрое пожертвование, и был с ним приторно любезен. В церкви в это время происходило заклинание бесов. Священник изгонял из живота какой-то девушки дьявола, который грыз ей внутренности и заставлял её извергать всю пищу обратно. «Он так хорошо знал имена всех бесов, как будто съел с ними в аду пуд соли», — добавил рассказчик.
Солдаты в караульне, болтавшие в ожидании ужина, знали, видимо, не хуже того священника имена всех дьяволов, так как усердно поминали их, ругаясь на все лады. Они сидели, вытянув ноги, и говорили о женщинах. В Лоретто усиленно торговали не только чётками, но и женским телом. Ибо здесь, как и везде, религиозная экзальтация вызывала возбуждение и другого рода.
Бруно слушал, и в нём снова просыпались надежда и энергия. Он хотел жить. Он твердил себе, что не сдастся без боя. Встал и начал ходить по комнате. Дверь была крепко заперта. Окно, заделанное крепкой решёткой, упиралось в скалу, над которой в вышине блестели звёзды.
Мурлыча куплеты непристойной песенки, полупьяный солдат принёс узнику суп и кусок рыбы. После этого прошло около часа без всякой перемены, только шум внизу поутих. Бруно не торопясь съел свой ужин. За тяжёлой глиняной миской, в которой был принесён суп, не пришёл никто.
На оконном стекле снаружи расплескались звёзды. Только они да полоски света, проникавшие сквозь щели в полу, освещали комнату тусклым неживым светом, так ровно разлитым вокруг, что каждый предмет словно светился изнутри своим собственным слабым сиянием. Бруно расправил члены, привёл в порядок свою одежду. Попытался пальцами расчесать бороду. Потом, взяв глиняную миску, подошёл к двери и жалобным голосом простонал, что болен. Стороживший солдат через минуту отозвался и приказал ему замолчать. Но Бруно продолжал стонать и охать. Он боялся только одного — как бы солдат не вызвал сюда офицера. Но он некоторое время тому назад ясно слышал, как солдат пил, как поставил потом кружку на стол. Эта мысль его успокаивала.
— Заткни глотку, или я тебя заставлю угомониться таким способом, который тебе не понравится! — проворчал солдат, зевая.
Но Бруно продолжал жаловаться:
— У меня зубы болят, дайте мне вина, и я усну, обещаю вам. Только один глоток! Эго мне всегда помогало от зубной боли…
Он услышал, как солдат сошёл вниз и взял кружку, потом вернулся и отодвинул засов. Бруно стоял у двери, держа тяжёлую миску наготове. Как только дверь отворилась и солдат шагнул в комнату, он изо всех сил треснул его миской по голове. Солдат с шумом грохнулся на пол. Но внизу горланили песню, и шума никто не услышал. Бруно ждал с бурно колотившимся сердцем. Пение продолжалось. Бруно в первую минуту не знал, на что решиться — связать ли ему часового или бежать сейчас же, не теряя времени. Он решил, что лучше бежать: солдат, вероятно, час-другой пролежит без сознания.
Он вышел в коридор, тихонько закрыв за собой дверь и задвинув засов. Пополз к лестнице. Наверху не видно было ни души. Он спустился вниз. В конце нижнего коридора спиною к Бруно стоял второй караульный, опершись на алебарду. Бруно шмыгнул налево, где виднелось окно в нише. Он открыл окно и выскочил во двор. Пробираясь по узкому дворику, он наступил на какого-то человека, споткнулся и чуть не упал.
— Ступай к чёрту! — пробормотал пьяный голос. Лежавший перекатился на другой бок.
Бруно вышел на главный двор, держась под стеной в тени. На дальнем конце двора он увидел ворота и крытый проход. Ясно видны были засов и торчавший в замке ключ. Подойдя ближе, он заметил растянувшихся на плитах мужчину и женщину. Он в испуге попятился назад. Волей-неволей пришлось вернуться в ту часть двора, где лежал пьяный, который уже храпел. Бруно думал: «Видно, придётся выжидать здесь не один час». А в доме всё ещё звучала песня, звёзды по-прежнему струили слабый свет.
Но вот наконец тот солдат, что лежал с девушкой, встал и, пошатываясь, прошёл мимо Бруно с пустой фляжкой в руках. Как только он вошёл в дом, Бруно бросился прямо к воротам. Девушка всё ещё лежала на земле. Она подумала, что это вернулся её возлюбленный. Бруно видел при свете звёзд её улыбку, видел пену смятых юбок. Девушка казалась доброй. Лёжа в полузабытьи, она словно витала где-то над землёй, словно это была не женщина, а нимфа, только наполовину оторвавшаяся от родной стихии. У неё было милое лицо. Бруно с трудом поборол в себе желание нагнуться к ней, поцеловать её и сказать: «Да, я — тот возлюбленный, которого ты ожидаешь».
Девушка увидела, что это чужой, но не шевельнулась. Она лежала всё в том же полузабытьи, и она была как Земля и как звёздный свет. Только это выражение доброты напоминало о том, что она — живое существо, а не случайная игра неверного света и тени. Бруно почувствовал к ней глубокую благодарность за то, что она не двигалась, не обращала на него внимания и всё так же ласково улыбалась.
— Ничего, лежи, милая, — сказал он, перешагнув через неё. — Я никому не скажу насчёт тебя ни слова, если и ты не выдашь меня. У меня тоже есть подружка, и я хочу сходить к ней.
Девушка не отвечала, и это наконец испугало Бруно. Он наклонился и дотронулся до её лица.
Она увернулась от его руки:
— Убирайтесь, вы!
Теперь он мог пройти по крытому проходу. Ему было очень трудно оторваться от этой девушки, такой ласковой и бесстыдной. Она плохо кончит! Бруно вдруг понял, что и ему тоже доброта усложняла жизнь. Его возмущение жестокостью приняло форму, вводившую в заблуждение и его самого, и других. Он во многом слишком мудрил, а между тем правда чувств, правда в высшей степени простая, сложной становится только в действии, сталкиваясь с мириадами чужих нужд и желаний.
Из узкого извилистого переулка Бруно вышел на улицу. Как теперь выбраться до зари из Лоретто? В городе его будут искать. Но пока ворота закрыты, нет надежды выйти из города. Где же ему спрятаться? И в котором часу открывают городские ворота? Конечно, его бегство обнаружат гораздо раньше и поднимут на ноги весь город. У него даже нет денег, чтобы попробовать кого-нибудь подкупить.
Неожиданно в проходе между двумя домами он при свете звёзд заметил девушку, закутанную в плащ с капюшоном. И, подойдя к ней вплотную, увидел, что у неё живые тёмные глаза. Её зубы блеснули в улыбке. Быть может, здесь было спасение?
— Вы ведь никуда не торопитесь, правда?
Голос у неё был низкий и приятный, несмотря на вульгарный акцент. Бруно ответил:
— Да что же, одну ночку, пожалуй, можно и прогулять…
— Так, может быть, пойдёшь ко мне?
Её пальцы медленно, но настойчиво ощупывали его руку у плеча. От неё пахло чем-то знакомым, родным. Голос её напоминал ему чей-то иной голос. А, вспомнил! Ведь это же Веста, жена Альбенцио в Ноле, Веста, которая угощала его пирогом. Веста, чей голос был резок и вместе ласков. Она как-то сказала ему за фиговым деревом: «Не надо этого делать. Ты увидишь, как это будет приятно потом, когда ты вырастешь большой». А потом засмеялась своим гортанным смехом: «Впрочем, я забыла, ты ведь хочешь быть священником, так это всё равно… бедный мальчуган!» И тогда он, в порыве страстного возмущения тем, что его назвали «бедным мальчуганом», отбросил свою обычную стыдливость. Но эта толстуха с отвислой грудью только посмеялась над ним. И когда к ним подошёл кто-то (кажется, старая Франческа, собиравшая сухие сучья), Веста шлёпнула его по рукам. Но губы её были так же мокры и красны, как соблазнявший его рот синьоры Чьотто.
Он мысленно вспоминал фразы из своих книг: «Необходимость и свобода — одно. Следовательно, всякое действие в силу естественной необходимости есть действие свободное… А если оно не диктуется необходимостью и природой, то есть естественной необходимостью, то это действие совсем не свободное». Всё это очень просто.
— Быть может… Быть может… — пробормотал он, словно ожидая, что вот-вот эти настойчивые щупающие пальцы вдруг схватят его сердце, стиснут его, выжмут из него кровь, наподобие того как мать его отжимала бельё. Вспомнив мать, он пожалел, зачем не помогал ей чаще. Ему всегда больше хотелось читать, чем работать. Быть может…
— Что это вы все твердите одно и то же? — спросила девушка, недоумевая. В голосе, который теперь был резок и неприятен, звучало подозрение.
Бруно сделал попытку собрать разбегавшиеся мысли, встряхнуться, потому что в таком состоянии он способен был стоять на месте и молчать Бог знает сколько времени. Он обнял девушку.
— У тебя есть комната?
Она сказала, что есть, дом, где она живёт, в нескольких шагах отсюда. Они пошли туда. Входная дверь оказалась незапертой, и девушка увлекла Бруно в дом. Сквозь занавеску проникал мутный свет и пьяные голоса. Девушка и Бруно поднялись по лестнице наверх. Бруно думал: «Если её задушить, то можно бы забрать все деньги, сколько у неё есть, с деньгами легче было бы скрыться». Но что, если денег у неё нет или он не сумеет их найти и только привлечёт шумом всех людей в доме?
Девушка пыталась высечь огонь и зажечь свечу.
— Дай я попробую, — сказал Бруно, ощупью продвигаясь к ней в темноте.
— Не надо, — возразила девушка, — я и сама умею.
Он вдруг ужасно на неё рассердился. Мысль убить её была чисто отвлечённой, когда они вдвоём поднимались по лестнице, теперь же она превратилась в неотвязное желание. Неловкая возня девушки с огнивом раздражала его до боли. Пальцы его бессильно шевелились. Он вспомнил, что в такое точно исступление приводило его когда-то чавканье матери во время еды. Этот звук мучил его, оскорблял, и он сидел за столом в каком-то оцепенении, не смея протестовать, кипя отвращением. Такое же чувство, переходившее в желание убить, возбуждала в нём сейчас упорно неумелая возня девушки. И главный ужас заключался в том, что он всегда отрицал в себе присутствие таких инстинктов! Он видел в мире кровавые дела, насилие и, холодея, упрямо смотрел сквозь всё это на течение звёзд. Он верил, что он и люди, стоящие на такой же ступени сознания, неспособны на звериные порывы, что они — существа высшего порядка. А теперь преследования вытравили в нём всё, кроме животного инстинкта самосохранения и плотских вожделений, которые он считал навсегда утраченными. Да, этот инстинкт всегда жил в нём, даже в детстве, когда он смотрел на ничего не подозревавшую мать, которая, склонив голову с тяжёлым венцом золотисто-каштановых волос, сидела за столом и ела, чавкая во время еды.
Свеча вспыхнула, померкла, потом загорелась ровным светом. Бруно уныло смотрел, как раздевалась девушка. Её нижняя юбка была забрызгана грязью, у неё было обычное захватанное тело проститутки. Бруно ожидал, что как только девушка увидит его лицо, она его прогонит. Он вдруг показался себе очень безобразным. И на шее у него большой чирей — результат тюремного режима. Но девушка, лениво подняв руки, отбросила назад волосы:
— Тебе что-нибудь не нравится?
Он, не отвечая, шагнул к ней. Он только сейчас услышал тишину ночи и какие-то звуки, которые он сам издавал горлом. Ему хотелось умереть.
Когда он опять опомнился, он стоял, прижавшись лбом к окну, и думал, увидит ли ещё когда-нибудь море. Ему показалось, что он слышит где-то далеко гул прибоя, но он знал, что это ему только чудится.
— Ты славная девушка. — Всё, что он говорил, звучало в его ушах как эхо, бесконечно повторяясь. — Ты славная девушка.
— Ага, значит, я тебе нравлюсь? — В этом вопросе прозвучало жадное любопытство, вульгарный расчёт, надежда.
Скрипела кровать, свеча разливала жёлтый свет, и в луже жёлтого света лежала эта девушка с грязными ногами. Она произнесла ворчливо:
— Опусти занавески или потуши свечу. Иначе сторож постучит.
Дрожащими пальцами он опустил занавески. Но это было ни к чему.
— У меня нет денег, — сказал он, скрестив руки на груди. Он ждал визга. Руки у девушки были короткие, красные и загрубелые от чёрной работы.
— Ах ты, вонючий мошенник, — произнесла она низким голосом, пристально глядя на него. Но, казалось, она ругает его не от злости, а так, для приличия. Бруно видел, что она внимательно всматривается в него:
— Поди сюда!
Он послушно подошёл к кровати.
— Мне нужно до рассвета выбраться из Лоретто, — сказал он сквозь стиснутые зубы.
Она смягчилась.
— А, тогда понятно. Никогда не видела, чтобы мужчина так торопился, как ты. А мужчин я перевидала немало. — Она хихикнула. — Но ты мне нравишься.
Он погладил её по волосам, подёргал завитки над ушами и машинально осмотрелся, ища щипцов для завивки. Увидел их на туалетном столике и пошёл за ними. «Но это ни к чему». Потом он сказал:
— Мне надо идти, — и начал открывать и закрывать щипцы. Голова у него болела, будто туго стянутая ремнём. Он вернулся к кровати, не выпуская из рук щипцов.
— Что ты делаешь с этой штукой? — Она в испуге обхватила колени руками.
— С какой штукой?
Он словно только что увидел у себя в руках щипцы, поглядел на них, на девушку, которая сидела на кровати, уткнув подбородок в колени. Он взял щипцы, потому что ему безотчётно захотелось погладить завитые волосы. А у неё волосы были незавиты и влажны. Разве сегодня вечером шёл дождь?
— Ты выше, чем я думал, — сказал он рассеянно. — На улице было темно.
— Неправда, — возразила она. — Какого чёрта ты завёл этот разговор, не понимаю. Опусти щипцы!
Ему захотелось остаться с ней; он оглядел комнату, ища, где бы она могла его спрятать в случае надобности.
— Повернись ко мне, — сказал он. И затем повторил, словно не сознавая, что говорит: — Я должен выбраться из этого проклятого места.
— Отчего ты меня не слушаешь? — пожаловалась девушка. — Я тебе помогу. С тех пор как Папа начал наводить порядок в здешних местах, немало людей попадает в беду. Да, трудные настали времена. И я никого не осуждаю, что бы человек ни делал ради спасения своей жизни.
Смысл её слов был непонятен Бруно. Но ему было достаточно того, что девушка готова помочь ему (впоследствии он догадался, что она принимала его за бандита). А девушка продолжала говорить. Она знает место, где в городской стене есть пролом. Она поведёт его туда, и он легко может спуститься вниз.
— А теперь иди ко мне…
Она улыбалась, обняв руками колени. Она обещала потом дать ему плащ. Последнее время ей везло, у неё побывало много богатых пилигримов, которые напивались и… Ей хотелось узнать, сколько людей убил Бруно. А он не понимал, к чему она клонит. На всякий случай начал хвастать странами, в которых побывал, и знакомством со знаменитыми людьми. Девушка обнимала его, обнимала до странности крепко. Всё быстрее и быстрее кружился мир вокруг, кружились запотевшие стены. Бруно казалось, что он сходит с ума, что ему не вырваться отсюда.
А девушка лепетала, что любит его, что он ей нужен, что он должен вернуться, что они опять встретятся… Всё кружилось, скользило вокруг извилистой лентой.
Он ощущал большую слабость. В этом виноваты восемь месяцев тюрьмы. И как это он мог писать о круговом движении, если до этой минуты не знал, что это такое?
Девушка сошла вниз, чтобы взять для Бруно свой плащ, который она одолжила подруге, жившей в нижнем этаже. Бруно лежал и размышлял. Нет ни вершины, ни основания, ни центра, всё просто, всё течёт и изменяется. Безграничная Вселенная не что иное, как центр повсюду… Человеку нужны другие люди, для того чтобы жизнь его была гармонична… Бесконечно могущество природы, которая есть всеобщее становление и творит всё… Истинное искусство — то, которое не выходит за пределы, положенные природой… С какой угодно точки зрения — физической, моральной, математической — философ, открывший совпадение противоположностей, сделал величайшее открытие.
Фразы из его сочинений беспорядочно толпились у него в голове. Девушка пришла снизу с плащом на руке.
— Нет ли у тебя молока?
— Это не ты ли приехал сюда из Анконы? — спросила она, и снова в её голосе послышалась насторожённость.
— Я. — Он чувствовал, что всё принимает для него дурной оборот. Но ему хотелось рассказать ей о себе, объяснить, как он нужен миру и как подлы его враги.
— Тебя везли в Рим?.. Ты был арестован Инквизицией?
— Да, — подтвердил он устало.
Раньше чем она успела отвернуться, он увидел её расширенные ужасом глаза и пытался понять причину. Девушка перекрестилась, шепча: «Господи, прости меня». Пока Бруно думал о том, какой нелепый вид у неё в этой смятой рубашке, она распахнула окно, высунула голову наружу и завопила:
— Помогите! Убивают!
Он беспомощно слушал её вопли, грохот открываемых ставен, ответные крики соседей, хлопанье дверей. Помня, что скоро он будет лишён возможности видеть всё это, он смотрел на спину девушки, на её жирное тело, сотрясаемое пронзительными воплями, которые она испускала, цепляясь за подоконник. А постель была такая мягкая и так удобно было лежать на ней!..
Они ехали по лесистым холмам, по долинам, где оливковые рощи перемежались засеянными полями. Потом — две мили лугами, до самых берегов Тибра. Когда-то здесь был мост, построенный римлянами. Теперь через Тибр переправлялись на пароме, который тащили люди на берегу на толстом канате, переброшенном через реку. Для того, чтобы паром не унесло течением, через реку был протянут ещё второй канат, привязанный к высоким столбам на обоих берегах. Третий канат, намотанный на колесо, поддерживал паром на воде.
Тибр в этом месте широк, несмотря на то что это недалеко от его истока. И течение тут слишком сильное для того, чтобы идти на вёслах. Паромщикам приходилось очень сильно тянуть нижний канат, и вода с глухим рёвом бурлила вокруг парома. Несколько пассажиров-путешественников пререкались со своим проводником. Он клялся, что по уговору обязан только кормить их в дороге, но не платить за паром, и требовал два джиули за переправу.
Потом — две мили до городка, где спутники Бруно остановились на ночлег. На следующее утро — семнадцать миль до Кастель Нуово, грязной и скользкой дорогой, опять мимо полей и оливковых рощ, ещё по-зимнему унылых.
После обеда они проехали верхом лугами и холмами тринадцать миль, остававшихся до Рима, и у первой заставы встретили компанию англичан. Все они были священниками, которые босиком шли в Лоретто на поклонение Мадонне.
Дальше они ехали берегом Тибра, Фламиниевой дорогой, мимо множества изрытых холмов, к мосту Понте Моле. Перебравшись на восточный берег, въехали в Рим через большие ворота Порта ди Пополо. В эту ночь, 27 февраля 1593 года, Бруно спал уже в тюрьме Римской Инквизиции.
Он понимал, разумеется, что надежды на спасение нет. Теперь он задавал себе другой вопрос. Умрёт ли он просто от истощения, от голода и пыток, или смерть его будет знаком осуществления, залогом будущего?.. Видеть ли ему в этих муках великое испытание или попросту провал и позор?
XXIII. Инквизиция
Тех, на кого поступал донос, Инквизиция считала виновными до тех пор, пока они не докажут свою невиновность. Обвиняемый сам должен был доказать свою невиновность, ему не разрешалось ни брать защитника, ни сноситься с внешним миром, ему не давали никакой возможности добыть доказательства своей невиновности, увидеться и переговорить со свидетелями, он не знал, какие показания против него имеются у суда. И наряду с этим опытные инквизиторы прилагали все усилия, чтобы уличить его в противоречивости его собственных показаний: для этого его подолгу допрашивали, ошеломляли неожиданными вопросами или задавали одни и те же вопросы в разной форме, повторяли их через месяц-другой, и так далее.
Доминиканец Евмерик в своём сочинении «Directorium inquisitorium»[371] сообщал: «У еретиков имеется десять главных способов скрывать свои прегрешения. Эти десять видов софистики[372] и увёрток, которые инквизитор обязан обнаружить всеми возможными средствами, таковы: словесные двусмысленности и выверты; пышные фразы; запутывание допроса и следствия; напускное удивление; увиливание от прямых ответов, например, когда обвиняемый не отвечает под присягой на поставленные вопросы, а говорит о том, о чём его не спрашивали; явная подтасовка слов; способ прикидываться простаком или безумным; показное благочестие. Но у них имеется ещё много разных других способов обманывать и очень ловко скрывать правду, что обнаруживается во время суда над ними».
Инквизиторы, священники, исповедники, посещавшие Бруно, сливались в его воображении в одно страшное чудовище, имя которому — Выпытывающий. Временами у него голова шла кругом, так что он совсем не мог отвечать на вопросы. Мозг его пылал огнём безумия над клокочущей бездной страха. Но как только Бруно оставался один, он начинал с каким-то глухим беспокойством, со страстным нетерпением ожидать следующего посещения, новой атаки на его душу. Он тщательно обдумывал, что будет говорить, отделывал каждую фразу, старался, чтобы смысл её был ясен, пока не находил, что наконец она безупречна и её никак нельзя перетолковать или исказить. И заранее волновался в ожидании момента, когда он испробует действие этих доводов на противника, на которого ничто не действовало. Всё равно — кричал ли он, бегая по камере, или с безошибочным мастерством и самообладанием доказывал свои тезисы, — он неизменно наталкивался на полнейшую уверенность в его виновности.
Его физические страдания были ужасны. После одного такого допроса он свалился, разбитый, с пересохшим горлом, горя как в огне. Он ощущал такую слабость, что не мог поднять руки. Временами он громко спорил в бреду, пока не начинал вопить и трястись от гнева. Он даже стучал кулаками и бился головой о каменную стену. Несмотря на такое возбуждение, он был не способен напасть на своих мучителей. В этом виноват был не недостаток злобы и ненависти, не боязнь последствий. В судорогах слепой муки он вряд ли способен был думать о последствиях. Но Бруно был так запуган, словно его врагов окружало кольцо заклятий, и он, подобно какому-нибудь из грешных духов, наталкивался на магический запрет.
Но в то же время это выискивание доводов странным образом поддерживало Бруно. Ему нечем было больше заполнять дни и ночи. Он окончательно перестал строить планы освобождения. Не было никакой надежды вырваться из этой узкой каморки, пропитанной зловонием его собственных испражнений и испражнений людей, которых веками мучили здесь до него. Он забыл мир и всё, что в нём происходит, забыл о смехе и людях, которые едят и трудятся вместе, о прелести обнажённой женщины, спящей рядом с мужем, о волнениях и восторгах дружеских бесед и открытий.
Ничего не осталось — только пытка Инквизиции, только споры, которые не могли привести ни к чему, кроме полного отчаяния, борьба безоружного человека с врагами, с ног до головы закованными в латы. Всё, что бы он ни говорил, не производило на допрашивающих никакого впечатления, даже не доходило до их сознания. Он знал, что это безнадёжно. И всё же продолжал убеждать. Ему нужно было убедить себя, ему казалось, что, если он будет говорить достаточно долго, он раскроет внутренний смысл своей муки — и тогда весь мир озарится для него. Когда он оставался один, он перебирал в памяти всё, что сказал и что было сказано ему. Но только в те минуты, когда он слышал ненавистный голос или с ненавистью отвечал, ум его усиленно работал. Иногда, яростно препираясь или храня угрюмое молчание, он испытывал восхитительное чувство превосходства, словно он наконец достиг последней вершины познания, которая всю жизнь ускользала от него.
Бывали часы, когда ему окончательно изменяли силы, когда все слова казались обескровленными, и он жаждал только одного — освободиться от своего плена. В такие моменты Бруно готов был подписаться под любыми догматами, согласиться с самыми фантастическими утверждениями, давать всяческие обещания исправиться. Но он никогда не выполнял своего решения. Когда он шёл на капитуляцию, его предложения встречались благословениями и выражениями благодарности. Но от него требовали больше, чем простой капитуляции. Вот здесь-то те, кто вёл следствие, и рыли для него страшную яму, от которой душа Бруно пятилась с бессильным отвращением.
От него требовали не только согласиться с тем, что ему говорили. Это было бы легко, это он сделал бы охотно. Они хотели ещё, чтобы он привёл доказательства тех канонов, к которым он теперь, по его словам, возвратился, чтобы объяснил, что он называет своей верой католика, как её понимает. Это он тоже ещё мог бы сделать, хотя это было уже труднее: он спотыкался, возникали дебаты. Но в мучительные минуты недоразумений и разлада он учился смирению, учился опустошать мозг, подавлять начинающийся взрыв возмущения и самоутверждения, отвечать: «Да, да, понимаю… Я так и думал… Это самое я и хотел сказать». Учась смирению, он считал это успехом, он гордился этим. Это было нечто новое, неизвестное прежнему Бруно, смелому и неукротимому. Временами в сердце его волной поднималась глубокая благодарность судьбе за тот опыт страдания и самообуздания, который он приобретал. Смиряясь, убивая в себе потребность дать волю страстному возмущению несправедливостью и чутью правды, он находил в этом единственное утешение в часы своих одиноких бодрствований. И хотя это, в сущности, всегда сводилось к обыкновенному обману, к простому скрыванию своих истинных мыслей, бывало и так, что он видел в своём поведении глубочайшую правду, правду осуществления, выше тех идей, что он скрывал в себе, и тех, под которыми он лицемерно подписывался. Впрочем, слово «лицемерие» неверно определяло его отношение к чуждым, силой навязанным ему верованиям. Он стремился принять их, заглянуть в душу своих противников, увидеть мир таким, каким видят его они, сознательно подавлял в себе презрение к ограниченности своих врагов, ослеплённых символами, от власти которых он давно освободился. Но такие попытки всегда возвращали его к основной проблеме познания, к её связи со Вселенной в целом и с изменяющейся личностью. И в эти вопросы он погружался с головой.
Одно его убивало, прекращало все попытки смирить себя: настояния священника, посещавшего его, чтобы он исповедался. Всякий раз при этом требовании он ощущал пустоту в голове и оцепенение во всём теле. Холодные щупальца страха сжимались вокруг него. Он боролся с собой, хотел заставить себя уступить этому требованию. Но вместо полной исповеди только каялся в нескольких пустячных прегрешениях и говорил несколько общих фраз о своих выступлениях против того, чему учила Церковь.
Этого было недостаточно. Святая Церковь требовала полного подчинения его воли и ума. Бруно должен был отречься от ереси и в доказательство своего исправления открыть всю душу исповеднику. Иначе его заявления не будут приняты, ему нечего рассчитывать на отпущение вины, на то, что его грешное прошлое будет смыто кровью Христовой. Он должен отдать всего себя.
Бруно сам не понимал, почему это требование вызывало в нём ужас. Он старался исповедаться как должно, но, несмотря на все свои усилия, никак не мог догадаться, в чём именно ему следует покаяться, чтобы удовлетворить духовника. Он готов был сознаться в любом грехе, в любом еретическом воззрении. Но от этого было мало толку. Когда наступал момент перечислить свои грехи и выразить раскаяние, он убеждался, что его неловкие усилия не обманывают искушённых опытом исповедников Инквизиции. Эти люди, которых можно было презирать во время богословских и философских споров с ними, обнаруживали настоящую виртуозность в искусстве улавливать малейшую фальшивую ноту в его признаниях. Его уличали в гордыне, этой матери всякой лжи. И давали время покаяться.
— Скажите мне, скажите, в чём я должен исповедаться?
— Загляните к себе в душу. Всмотритесь в свои пороки и говорите!
Однажды после такого ответа Бруно, придя в бешенство, пустился в совершенно бесстыдное описание женщин, которыми обладал. Он старательно вызывал в памяти и описывал каждую подробность своих сношений с ними, каждую позу их одержимых страстью тел. Он даже выдумывал детали, которые, по его мнению, должны были смутить священника, желая доказать, что он честно обнажает свои пороки. Говоря всё это, он мстил обречённому на безбрачие священнику за то, что тот терзал его душу. Но священник не выказал никакого смущения. Бруно кончил и умолк, тяжело дыша, с таким ощущением, словно его выпотрошили. Священник, не сказав ни слова, встал и вышел из камеры. Когда заскрипел ключ в замке, Бруно понял, что он погиб, что ничто не спасёт его.
— Что мне делать, отец? Мне нечего больше сказать. Или вы хотите, чтобы я лгал, чтобы выдумывал грехи, которых не совершал?
— Вы ещё не раскаялись. Этими хитростями и притворным недоумением вы не обманете Святую Церковь.
Это была правда. Он не раскаялся. Он не мог раскаяться. Он не видел, в чём ему следует каяться, несмотря на тяготевшее над его душой ощущение какой-то вины. Он ослабел от недостатка пищи.
Спасения не было. Не было никаких средств, при помощи которых можно было бы соединить его с тем, от чего он оторвался. Это было для него так же невозможно, как снова питаться материнской кровью, подобно младенцу, лежащему во чреве. Рождение сделало это невозможным. Он вступил в новую жизнь, пуповина, связывавшая его с матерью, перерезана, он не мог снять с себя ответственность, которая возложена на него. Бруно не мог отречься от нового мира, уже вошедшего в его плоть и кровь.
Бруно лежал на гниющей соломе, вцепившись зубами себе в руку, устремив в темноту страдальческий взор. Что это такое в нём, что кажется ему то гордостью, то возмущением, то страхом, то хитростью и не поддаётся самому усердному анализу?
Это не была душа в том смысле, в каком он всегда самонадеянно определял «душу». Или то было попросту тело, дыхание жизни в его теле, неумолимо отвергавшем то, что для него — смерть, разложение, мерзость?
Он сравнивал своё состояние с состоянием человека, который, держа женщину в объятиях, вдруг чувствует, что страсть в нём умерла.
Бруно хотел примирения с Церковью, хотел найти в этом избавление и отраду, но чувствовал, что бессилен. Мысли его разбегались, оставляя где-то в глубине мозга провал страха. Незачем было спрашивать, в чём он виновен. Он оторвался. Это всё, что он понимал. Старая связь исчезла. Что-то отмерло. Барьер ненависти встал между ним и Церковью. Да, только ненависть осталась у него в душе к этому миру, который он так близко узнал.
Здесь, в новой камере, был и паук, который то спускался, то поднимался по стенам. Скорее ли, медленнее ли сменялись на небе луна и солнце? В соломе, на которой он спал, водились клопы. Он так привык к их резкому, противному запаху, что уже не замечал его, когда давил их. Он придумал способ охотиться за клопами по вечерам. До прихода тюремщика он лежал, не двигаясь, на своих нарах, и клопы ползали вокруг него. Затем, когда в дверях внезапно появлялся свет, он убивал множество клопов, раньше чем они успевали спрятаться. Они были очень неповоротливы. «Неужели, — удивлялся он про себя, — им достаточно для насыщения того небольшого количества крови, которое ещё сохранилось в моём теле?» Он из соломинок складывал на полу геометрические фигуры, разговаривал с ними вслух, то бранясь, то радуясь и любуясь ими.
Но откуда в Бруно эти глубокие источники любви? Он плакал от радости, открывая в себе эту любовь, такую совершённую, такую беспредельную, — невидимую грудь, питавшую его жизнь во мраке. Он твердил себе, что его слёзы, его умиление — только следствие немощи тела, запертого в тесном пространстве, лишённого возможности двигаться, больного, грязного, получающего лишь ровно столько пищи, чтобы не умереть с голоду. Да, только от физической расслабленности слёзы текут так легко. Потом у него начались мучительные головные боли, а в крестце было такое ощущение, словно его пнули в это место сапогом.
Но всё это были пустяки. Ведь оставалась радость, поддерживавшая душевные силы, неисчерпаемый запас любви, которым он жил теперь. Они окружали его стенами, надёжнее каменных стен тюрьмы, несокрушимее каменных сердец его врагов. Враги заковали в цепи его руки и ноги, объявили его упорным извратителем слова Христова. Но цепи, которые ещё несколько месяцев назад казались ему невыносимым бременем, теперь почти его не беспокоили. И странно: вместе с тоской по родине, по голубым вечерам в Ноле, в нём жила уверенность, что эта укреплявшая его сила — нечто совсем иное, чем его прежний стоицизм, который помогал ему в дни свободных скитаний бороться с превратностями судьбы. Теперь эта стойкость шла как будто не от ума, а от тела, она родилась из того ужаса, который оторвал его от всего на свете, кроме собственного тела.
Затоптанная солома, на которой спал Бруно, благоухала свежо и сладко. Мягкие крылья птиц касались его обнажённого тела на залитом солнцем пригорке.
Он спал спокойно и крепко.
Лёжа на животе, он в полусне стал напевать песню, слышанную когда-то в Ноле. Слова песни почти все были забыты.
«…Ласточка, милая ласточка»… Он заменял недостающие слова мурлыканьем. «…Ласточка, что ты жалуешься»…
Вспомнились длинные ресницы Нанны, Нанны, у которой кожа была, как лепестки лилии, и от которой крепко пахло козлиной шерстью. «Свобода создаст необходимость, а необходимость добивается свободы… Отец мой был добрый человек и остёр на язык… В деревянной кровати Костатино тоже водились клопы… Фра Теофило из Варано, который обучал меня логике, был августинец… августинец… августинец[373]»… Слово не хотело остановиться. Мир шёл своей дорогой.
Он испытывал потребность излить на кого-нибудь любовь, наполнявшую его. Но излить её было не на кого, его посещали только «выпытывающие» с непроницаемыми лицами. Нежное чувство любви пропадало даром. Оно слабело и исчезало, оставляя вместо себя лишь барьер ненависти. За этой оградой он пытался надеть личину смирения, чтобы обмануть, чтобы прийти к тем с якобы сокрушённым сердцем, сожалея о напрасно потраченных усилиях и нарушенной связи.
Но, как бьющий высоко фонтан, как хрупкий веер пламени, освещающий мрак, любовь струилась, не иссякая, из родников его души.
В этом была ирония, вызывавшая горечь, заставлявшая его усмехаться тёмной плесени стен. Увы, эту науку любви и прозрения он постиг только теперь, когда не имел уже возможности её применить в жизни, когда он оторван от мира. Выходило так, словно необходимым условием осуществления была утрата как раз того, от чего единственно зависело осуществление. Только утратив всё, Бруно постиг, что такое избыток, пришёл к утверждению того, что раньше было для него только одним из вопросов философии, постиг сущность вещей.
Неужели так бывает всегда? Нет, это было бы слишком жестоко. Поэтому он искал объяснения в неправильности своего прежнего мировоззрения, погубившего его, сделавшего неизбежным то, что случилось, неизбежной утрату всего, как необходимое условие осуществления.
Но это его не успокоило. Он рыдал по ночам. Осуществление не исчерпывалось горькими слезами во тьме, говорившими о стихийном молчании, о тишине лунной ночи, об очищении, о тайне. Нет, оставалось ещё действие. Оставался мир, где он, Бруно, и другие люди могли заставить сойтись параллельные линии утраты и достижения. Ему суждено обрести бессмертие, найти совершенство, в котором встретятся и сольются параллельные линии его терзаний и его радости.
Герман, студент-медик, когда они вдвоём выходили из таверны, согнувшись, чтобы не удариться лбом о притолоку (Бруно помнил, как подле них падали хлопья сажи и какая-то девушка обернулась, пытаясь увидеть, где порвано её платье), Герман напомнил ему тогда, что существует школа в медицине, утверждающая, будто раздавленные клопы играют большую роль в терапии. «Даже запах клопов, — сказал Герман, — по мнению сторонников этой школы, излечивает разные женские болезни».
Его теоретические споры с исповедниками продолжались, и он становился всё изворотливее, находил скрытый смысл в каждой фразе, придавал его и собственным словам, так что часто спор битый час вертелся вокруг одной точки, и Бруно всё время при этом хранил про себя своё личное толкование употребляемых им терминов. Так, например, слово «вера» стало для него условным обозначением для переполняющей его любви, которая до сих пор не находила себе применения. Он утверждал вслух, что никогда не отступал от «веры» и что сейчас он более, чем когда-либо, преисполнен ею.
— Церковное право различает два вида вероотступничества, — сказал он однажды. Священник кивнул головой, — «А fide»[374] и «А mandatis Dei»[375]. От веры я никогда не отступал. А свой монашеский обет я нарушил, это правда: бродил по свету, вкушал от сладкого яблока Евы и даже не носил нарамника. Дайте мне возможность искупить это. Но всё-таки я прав, утверждая, что это не подлежит суду Инквизиции. — Священник опять кивнул головой. — Вы сами видите, что я прав. Это дело касается только моего ордена. Инквизиция тут ни при чём. Меня должны освободить. Отошлите меня в Неаполь, чтобы меня судили мои братья доминиканцы.
— Если вы не отступник «а fide», — сказал священник, — то ваши возражения правильны. Если вы можете совершенно очиститься от обвинения в ереси, то, конечно, просьбу вашу удовлетворят.
— Я не еретик. Вы просто меня не понимаете.
— Святая Церковь вами недовольна. Так что…
Теперь Бруно знал, что, если даже он освободится от обвинения в ереси, его ждёт по меньшей мере пожизненное заключение за уход из ордена. И возражения свои делал просто из упрямства, излагая их стой миной кроткого удивления, которая стала его главным методом самозащиты. Он сказал:
— Я не еретик. — А при этом подумал: «Я не могу быть еретиком, так как я постиг Истину. Слова „Я есмь Истина“ могут иметь только тот смысл, который открылся мне. Иначе они были бы ложью. Поэтому вся католическая община может оказаться еретиками, а я — нет».
Он не мог долго пользоваться методом мысленных оговорок. Ловкость и проницательность допрашивающих проломили ограду его вероломного притворства, его вымученно-искренних попыток к примирению. Бруно опять вернулся к страстным выкрикам. Ему был ясен тот вопиющий факт, что вся его жизнь, всё, что для него означало действительность, оставалось вне сферы этих дебатов со священниками. Эти дебаты были для него не более как академическим диспутом на тему о том, какие формы жизни возможны на другой планете.
Священник, посещавший Бруно, своими внушительными манерами и немного выпуклыми глазами напоминал ему Паулино. И Бруно хотелось смеяться: это было очень забавно, потому что Паулино был самый отчаянный богохульник во всей Ноле, — он не мог рта открыть, чтобы не разразиться залпом проклятий. Жена пробовала отучить его от этой привычки, заставляя употреблять выражение «клянусь телом курицы». Она считала, что это клятва невинная, и постепенно муж привыкнет употреблять её вместо других его излюбленных словечек, гораздо менее невинных. Бруно вспомнил, как Паулино раз, копая землю, вздумал набрать полную лопату, и от натуги лопнул красный шнурок, которым были подвязаны его брюки… Тенистые холмы, а над ними небо, напоённое голубым светом.
XXIV. Для кого?
После самых бурных взрывов отчаяния у него бывали просветы, и тогда он испытывал томительное желание писать. Бруно был уверен, что только отсутствие пера и бумаги мешает ему до конца развить те мысли, которые возникали у него в голове. Он терял нить, ему не удавалось привести в стройный порядок множество новых идей, рождавшихся у него во время споров со священниками. Ему казалось, что, если бы их можно было записать, он привёл бы их в окончательную ясность, которая нужна для того, чтобы хаос чувств и ощущений приобрёл космическую определённость. Он привык думать, записывая или диктуя. Движение и скрип пера, наносящего строки значительных слов на белую пустоту бумаги, как бы пели его за собой, давали толчок мысли. Он открыл это только теперь.
Лёжа в полутёмной камере, лишённый всякой возможности делиться своими мыслями, если не считать терзающих нервы споров с кроткими, но твердокаменными священниками, он не способен был творить, не мог развивать до конца гениальные мысли, вспыхивавшие у него в мозгу.
Он молил своих посетителей дать ему перо и бумагу, но они в ответ советовали ему уделять больше времени серьёзным размышлениям о спасении своей души. К чему записывать на бумаге мысли, которые, несомненно, таят в себе ересь и, значит, достойны сожжения раньше, чем они заразят души других людей? У него будет достаточно времени писать после того, как он отречётся от дьявола, склонившего его к ереси.
Раз случайное замечание, брошенное исповедником, навело Бруно на страшное подозрение, что под его именем выпускают фальшивые сочинения, в которых его идеи искажены, подменены апологией католицизма, в которых он будто бы отрекается от своего утверждения, что «Земля — только одна из планет Солнца, а звёзды суть Солнца». Он не решался спросить, правильно ли он понял замечание священника, боясь, что если он ошибается, то своим вопросом надоумит врагов погубить таким образом его репутацию. Не выдавая своих опасений, он пытался навести священника на разговор об этом.
Но скоро он позабыл и этот страх, весь поглощённый жаждой писать. Книги, написанные им до сих пор, казались ему только подготовкой к тому потрясающему откровению, которое он может теперь возвестить людям. И хотя сейчас, бегая по камере, Бруно ещё плохо представлял себе, в чём заключается это новое откровение, — он был убеждён, что только отсутствие пера и бумаги мешает ему до конца додумать и выразить свои мысли. Им написано всё, кроме последнего откровения. Оно объяснит всё предыдущее, всё объединит той живой связью, которой он, Бруно, всегда искал, укажет, что надо исключить, дополнит те новые истины, которые он дерзнул провозгласить.
Затем снова надрывающая сердце мысль: для кого? Для кого он пишет? Он ещё ни разу не встречал человека, который по-настоящему понял бы цель и смысл его трудов. Александр Диксон в Англии, Жан Геннекен в Париже, Иероним Беслер в Германии — все славные, серьёзные люди, но сущность его учения оставалась им непонятной. Такие люди, как математик Морденте или дворянин Кастельно, терпимый, образованный, с умом восприимчивым и пытливым, видели в его учении только ту часть, которая отвечала их вкусам.
Где же читатели? Кто они? Такие, как Мочениго, гнусно извращающие всё, что он написал? Эта мысль приводила его в содрогание… Ну а Коперник, учение которого неизмеримо проще, — какие читатели были у него? Как мог знать Коперник, что его учение найдёт такой мощный отклик в уме юноши-ноланца, родившегося через пять лет после его, Коперника, смерти? Так создастся связь между смелыми и благородными умами, одинокими и преследуемыми борцами за истину, звеньями в цепи познания и прогресса. Но всё же и в этой мысли была терпкая горечь. Какой смысл в борьбе, если это только подавленные усилия немногих отдельных личностей? Где же единение человеческое? Или оно родится только в борьбе? Борьба должна глубже пустить корни, рождать плоды из почвы, более удобренной.
Его мало интересовали утопии, хотя он и прочёл по латыни «Утопию» сэра Томаса Мора[376], «Республику» Платона… Он вспоминал, что и в Падуе есть учёные, которые увлекаются такого рода идеями. Почему он не воспользовался случаем познакомиться там с Брагадемасом, который, как говорили, изучал «Республику» Платона и его «Законы»? Или с Дарди Бембо, который перевёл на итальянский язык все сочинения Платона? Вот ещё одна из упущенных возможностей, мысль о которых не давала ему покоя, когда он думал о своей жизни. Как его преследовали всю жизнь!
А утопии… Такие фантазии казались ему всегда убогими рядом с великолепным многообразием, с кипучей энергией действительного мира. Он благословлял этот мир за силу, в нём сокрытую, но только теперь Бруно начинал постигать, что значит сила. Та мораль, которую он пытался изложить в «Изгнании торжествующего зверя» и «Восторгах геройских душ», оказывалась поэтому несостоятельной, несмотря на то что в ней было много правильного. Нужна была какая-то новая точка связи.
Когда Бруно писал о служении обществу, он ясно указывал, что мерилом всех человеческих дел должна быть гуманность, что спасение мы обретём не в небесах, а на земле, что проверять каждую вещь надо её полезностью, что в творческом единении на пользу человечеству — конечная цель нашей жизни.
Каким же образом эти идеи, как будто и угодные сильным мира сего, оказались идеями революционными? Ибо участь Бруно доказывала, что сильные мира сего отвергают его идеи, как нечто им враждебное. К чему он стремится? К тому, чтобы в мире стало возможным человеческое единство, — а что же это, как не братство людей? Его учение не утопично. Если оно и приведёт к созданию на земле идеального царства Утопии, описанного Мором, то не через сказочное преображение мира, а через земную борьбу.
Во мраке тюремной камеры перед Бруно вставал новый мир, мир, созданный земной правдой, дружной работой, к которой он призывал людей. «Закон любви, который исходит не от злого гения одной какой-либо расы, а согласен с всеобъемлющей природой и учит любви к ближнему». Ибо не следует смешивать это живое понятие о пользе, о творящих руках, о совместной работе для достойных общественных целей с христианской болтовнёй о любви, этом создании злого гения.
Где-то прозвонил колокол к нонам. Бруно вздрогнул, прижался к стене.
А там, в мире, люди уходили, приходили — и никто из них не знал о завете, который нёс им Бруно. Где-то в мире женщины мыли свои нежные тела, ласковые женщины, которые могли бы вымыть и его и укрыть в своих объятиях: «Приди, измученный, приди домой, в лоно бесконечного блаженства». Он грезил, и лужа нечистого тела любой проститутки была в его воображении тем морем, из которого рождалась Венера Анадиомена[377]. Но ни одна женщина, ни один мужчина не протягивали ему руку помощи. Бруно клялся, что, если его выпустят на свободу, он никогда больше не дотронется до женщины. Он жаждал более высокого единения с людьми. Он готов был всё остальное отдать судьбе, как выкуп. Так прошла ещё одна ночь.
Снова тот же гнетущий страх, снова глаза, сверкающие холодным безумием и требующие того, чего он дать не мог, слов, которых он не мог произнести. Опять враги вгрызались в его душу всё глубже и глубже, пока он не начинал вопить, пока кровь не начинала шуметь в голове, а терновый венец — больно ранить. Он видел свою руку и чью-то чужую руку в веснушках, вооружённую щипцами, и готов был биться головой о стену. Угроза пытки реяла над всеми беседами, как призрачные руки, протянутые, чтобы схватить узника. Но Бруно не брали на пытку. Об этом никто и не упоминал.
Ему не давали никаких книг, даже его собственных, которые во время следствия в Венеции доставлялись ему. Напрасно он уверял, что память его слабеет и книги нужны ему для того, чтобы отыскать доказательства ереси, в которую он, может быть, нечаянно впал в те времена, когда писал их.
— Всё это ищите в свой совести, — отвечали ему.
Он бил себя в грудь, он молил о смерти. С его камзола и штанов спороли металлические застёжки, чтобы он не вздумал покончить с собой, проглотив их. Ему оставили только два способа самоубийства — разбить себе голову о стену или сунуть её в яму отхожего места и держать там, пока он не захлебнётся.
Пустота. Только топот часового наверху в морозные ночи, когда узник, продрогнув до костей, не мог уснуть, колокольный звон… Шаркающие шаги тюремщика в коридоре… Иногда за решёткой высоко пробитого оконца мелькнёт стайка птиц, летящих мимо.
Бруно часами сидел и ждал, не пролетят ли опять птицы. Он боялся отвести глаза от окна, чтобы не пропустить этого момента. Цепи звенели при каждом его движении. Это были единственные звуки, которых он не замечал, потому что привык к ним.
Он до крови изгрыз свои почерневшие ногти. На шее и на спине у него завелись болячки, а в волосах вши.
Посещения прекратились. Сначала это его очень радовало. Он сидел на нарах и тихо посмеивался. Теперь ему не мешало то, что цепи так громко звенели, когда он потирал руки. А вначале это его как-то стесняло, и Бруно старался не производить шума, хотя в камере никого не было. Он подозревал, что за ним шпионят и подслушивают у двери, но его это не трогало. С тех пор как с его штанов спороли застёжки, ему приходилось придерживать их, когда он ходил. Пища, которую ему приносили, становилась всё хуже. Наконец его перевели на хлеб и воду, иногда только давали ещё жидкую кашу.
Три дня подряд ему совсем не давали есть. Услышав шаги в коридоре, он начинал выть, но на его вой никто не отзывался. Он жаждал, чтобы пришли люди, хотя бы для того, чтобы вести его на пытку. Он шёпотом разговаривал сам с собой, сочинял нескладные стихи. Его кадка была полна до краёв, но никто не приходил вылить её. Он так неистово колотил в дверь, что болели руки. Наконец после трёх дней ему швырнули в камеру заплесневелый хлеб, но воды не приносили ещё целые сутки. Он не мог есть. Его всё время рвало. Он пытался прокусить себе руку, чтобы напиться крови.
На другое утро в камеру пришёл священник. Бруно уже почти не мог говорить. Хриплым голосом он проклинал Бога. Он скулил тонко, вёл себя как помешанный, три раза прочитал «Верую», потом просил прощения. Священник потребовал, чтобы он сообщил во всех подробностях свои еретические планы. Бруно опять начал богохульствовать, потом впал в забытьё. Через несколько часов его растолкали. Свет фонаря больно резал глаза.
— Я не еретик, — твердил он. — Мне не в чем сознаваться. Когда Христос придёт, распните его опять.
Его оставили в покое. Позднее, очнувшись, он нашёл подле себя воду и напился. У него начиналась горячка, и в бреду перед ним проходили стада диковинных зверей, Сфинкс, Химера[378], женщины с козлиными ногами, мужчина с хоботом, как у слона. Порой они кидались на него, а он пытался отбиться, несмотря на их когти. Шумнее всех вёл себя монах с ослиной головой: он кричал по-ослиному, наполняя камеру громовыми раскатами. Бруно хохотал во сне.
Когда ему пустили кровь и он начал выздоравливать, Бруно ощутил большую физическую слабость и апатию. Он не замечал, как уходили дни, а по ночам испытывал только одно желание — увидеть луну. Раза два приходил священник, но Бруно не обратил на него никакого внимания.
Он прислушивался только к звону колоколов, отбивая такт и улыбаясь. По праздникам звонили во всех церквах, и он приходил в болезненное возбуждение. В канун Дня всех усопших, когда колокола звонили всю ночь, Бруно чуть не умер. Руки у него дрожали, как у паралитика. Голова тряслась на худой шее, изо рта текла слюна. Ему казалось, что колокола звонят у него в голове, так что череп готов треснуть. Звон их был залогом того, что мир существует и где-то люди печалятся и радуются тому, что было, и тому, что будет. Когда колокола умолкли, его охватила дикая ярость. Казалось, миру наступил конец в тот миг, когда они перестали звонить, — но не слышно было голоса Бога, и труба архангела не звучала, возвещая опустошение земли. В этот самый миг мужчины, не подозревая об опасности, любовались отражением обнажённых женщин в высоких зеркалах. Люди сеяли хлеб, строили, мастерили разные вещи, изобретали. А Бруно корчился от ужаса. Мир вокруг него рушился. Звон оборвался грохотом молчания, сердце.
Бруно захлебнулось мукой. Он решил, что должен выйти отсюда и предупредить людей об опасности.
Дверь отворилась, вошёл человек. За ним лязгнули засовы. Бруно заметил только, что это не священник и что он не закован в цепи. Это было странно. Человек уставился на Бруно и тихонько попятился. Даже во мраке был заметён холодный стеклянный блеск его глаз. Он начал кружить около Бруно, засунув пальцы в рот.
— Не подходите ко мне, — произнёс он наконец хнычущим голосом. — Они заострили мне пальцы на ногах и руках… На точильном камне… Я протестовал, но они меня не слушали. Теперь я не могу лечь, боюсь порезаться. Не подходите, я вам говорю!..
Бруно лежал неподвижно. В нём зрела спокойная решимость, последние остатки слабости исчезли. Он клялся себе, что врагам ни при каких обстоятельствах не удастся довести его до безумия, как довели этого человека. Он не даст им восторжествовать!
Вошедший зашатался и пластом упал на пол. Бруно заметил на его руках тёмные рубцы и понял, что его пытали. Инквизиторы действовали очень осторожно. Старались, насколько возможно, не причинять наружных повреждений. Но они были мастера вывёртывать суставы, рвать сухожилия и мускулы, причинять как можно больше боли, не проливая крови. Все такие пытки относились к разряду «лёгких».
Человек сел и стал качаться из стороны в сторону.
— Вы, может быть, думаете, что я слишком молод, чтобы быть отцом, но, уверяю вас, бывают и большие чудеса. «Не всё потеряно», как сказал один человек, швырнув камнем в пса и попав в его мачеху. Так вот, я рожаю, я произвожу на свет вшей так же быстро, как муравейник извергает из себя муравьёв. Вы, пожалуй, скажете, что не пристало человеку хвалиться. Я с этим согласен, так как знаю по опыту, что тот, кто владеет белым конём или красивой женщиной, не оберётся хлопот… Надеюсь, мои вши вас не беспокоят? — Он застонал. — Начинается с того, что в публичном месте подстригаешь себе ногти. Так дьявол овладевает человеком… Ласковый телёнок двух маток сосёт… Вы понимаете, в чём моя ошибка? Я думал, что я бессмертен. Попросту я женился на неподходящей женщине… Друг мой, я рождаю мириады вшей в минуту. Очень скоро вся эта комната наполнится ими.
«Меня они не сведут с ума», — сказал себе Бруно.
Помешанный вдруг завизжал.
В последующие дни он несколько раз набрасывался на Бруно, уверяя, что у него украли жизнь. И страшнее всего было то, что нападал он во время сна. Когда он не спал, это был безобидный болтун. Но во сне он испускал свирепые гортанные крики, катался по земле, хватался за всё, что попадалось под руку. Камера была так тесна, что Бруно стоило величайших усилий увёртываться от сумасшедшего. Он стоял, прижавшись в угол. Но даже тут сумасшедший иногда натыкался на него, сразу с диким рычанием стаскивал его на пол и тянулся к его горлу и лицу. Бруно скоро открыл, что если стукнуть сумасшедшего головой о пол, то он обычно просыпается. А проснувшись, уползает в угол и начинает бормотать что-то о вшах, которые родятся от его пота. Они съели его жену, и когда-нибудь он столько их разведёт, что они съедят всё на свете. Это только вопрос времени.
Теперь Бруно был рад, что в камере темно. Темнота, правда, увеличивала опасность внезапного нападения, но она, по крайней мере, мешала ему ясно видеть устремлённые на него безумные глаза. При ярком свете эта пытка была бы нестерпима. А теперь он мог иногда подремать, прислонясь к стене. Пока помешанный болтал, Бруно мог дремать, потому что, когда тот не спал, он был не опасен. Но как только он умолкал, Бруно тотчас, вздрагивая, просыпался и с ужасом ждал симптомов кошмара, который приводил спящего в исступление. Сумасшедший был худ, у него были паучьи руки и ноги, лицо, изборождённое морщинами. Но во время ночных кошмаров он обнаруживал страшную силу.
Раз он пришёл в себя — и это было для Бруно ещё более утомительным испытанием, чем борьба с ним. Его так волновала жалость и желание помочь этому человеку не впасть опять в безумие. Человек рассказал, что его совратил в социнианскую ересь[379] один бумажный фабрикант из Лиона, живший у него в доме.
— У меня не было никаких дурных намерений, — говорил он. — Но я не верую больше в Святую Троицу. Я старался, но не могу. Я хотел это скрыть, но они меня изобличили. Я не стал бы лгать, но я беспокоился за жену! Она только неделю как родила, а тут за мной пришёл сержант. И жена тоже оплошала: испугалась и призналась на исповеди своему духовнику, что я больше не верую, как полагается католику. Она думала, что священник сумеет меня убедить. А он донёс на меня Инквизиции. Разве это хорошо? — сказал он с трогательной серьёзностью, теребя в руках соломинку. — Разве священник не должен хранить тайну исповеди, что бы ему ни было сказано? — Он заплакал. — Не знаю, как давно всё это случилось. Но прошло уже больше недели. Что будет с моей женой? — Он был помощником оружейного мастера.
В то время как он заплакал, Бруно заметил по некоторым признакам, что им опять овладевает безумие. Он не знал, что делать: пытаться ли убедить несчастного, что в Троицу верить можно, или, наоборот, укрепить его в унитарианстве[380].
— Я хочу вымыться, — стонал сумасшедший. — Сатана — властитель мух, и блох, и всего, что родится от грязи. — Бруно стоял в ужасе, видя, что снова начинается то же самое. — Кровь Христа пролилась вся до последней капли. В чём мне теперь омыться? О, прольётся кровь сильных, треть человечества погибнет! Я слышал громкий глас: «Горе, горе тем, кто населяет землю, ибо они рвут зубами внутренности братьев своих, ибо держат в руках дымящиеся сердца, вырванные у женщин из груди, и гложут кости детей. Горе, горе, горе сильным мира сего, господам, и госпожам, и прелатам, и тем, кто ради барыша торгует человеческим телом. Они будут гореть в геенне огненной, ибо питались плотью невинных». О, когда же всё это кончится? Я видел, как умирал младенец, засунув ручонку в рот, как сдирали кожу со спин бедняков, чтобы было чем укрыть от холода тех, кого осудил Господь…
Он начал кусать себе руки и молиться вслух о том, чтобы он не потел, потому что от пота плодятся паразиты, о которых сказано в «Откровении»[381], что они пожрут не травы земные, не зелень, не деревья, а людей, не имеющих печати Божией на челе. Тела их — тела коней в боевом снаряжении, на головах у них золотые венцы, а лица человеческие.
— О Господи, когда всё это кончится?
Страшные пророчества Иоанна в устах этого безумца пугали Бруно, как будто он слышал их впервые, как будто сам пророк произносил их здесь во всей их грозной свирепости и заражающей экзальтации. Он вспомнил своё собственное утверждение, что «всякое предание следовало бы проверять разумом». Для истолкования этого предания нужно было бы нечто большее, чем разумный анализ. Разве он, Бруно, не заключён в каменных стенах, выросших из-под земли под мстительный вопль Иоанна? Но терзания Иоанна вызывали в нём сочувствие: ведь и он тоже обличал узурпаторов из мрачной тюрьмы своих мук. Чтобы выявить «разумную правду» в предании об Иоанне, необходимо действие. А какое же иное действие, как не истребление насильников? Бруно припомнил один из своих тезисов, который он так и не развил и не применил ни к чему. То была идея эволюции или постепенного перехода низших организмов в высшие, он писал об этом в своём сочинении «De umbris»[382]. Если руки — решающий фактор в эволюции человечества, если они избавят его от узурпаторов, от паразитов, от торжествующего зверя, то должно наступить время, когда руки и мозг человечества построят наконец мир, в котором человек будет полновластным хозяином.
Однако не в борьбе ли понял он всё это? Не в схватках ли с противником окрепли его мускулы? Нет, ни одна стадия борьбы не лишняя. И победа даётся только борьбой.
«О, когда же всё это кончится?»
Вопль помешанного, у которого изо рта текла слюна, вызвал в уме Бруно мысль о парадоксальности явлений. Он, Бруно, славящий совершенство Вселенной во всём её жизненном многообразии, лихорадочно ищет только высшей человеческой гармонии. А люди, приемлющие басню о жизни после смерти, к которой должны клониться все их помышления, — эти самые люди с исступлённой жадностью борются за блага земной жизни, за власть, за деньги и стремятся упрочить и сохранить на земле существующий порядок во всей его гнусности.
Бруно был близок к полному истощению всех сил душевных и телесных, когда наконец через неделю от него убрали сумасшедшего социнианца. Опять посетил его священник.
— Я не признаю за Церковью права судить меня потому только, что я свидетельствовал истину, — сказал ему Бруно.
Священник слушал потупив голову: он привык к такого рода увёрткам. Голова у Бруно тряслась. Глубоко запавшие глаза пылали.
— Уйдите, — сказал он и пополз к обутым в сандалии ногам иезуита. Тот не двинулся с места. Бруно дополз до его ног и обхватил их. — Спасите меня, — шепнул он. — Дайте мне хотя бы погулять по двору. Я ничего дурного не сделал. Я только хотел… справедливости… любви… на земле.
После этого его в течение шести месяцев держали в одиночном заключении, и больше никто не посещал его.
XXV. Совпадение противоположностей
В самое знойное время лета его поместили в камеру над кухней, где было невыносимо жарко. Позднее, когда было замечено, что его раздражает шум, его перевели в камеру рядом с помещением, где постоянно стучали. Иногда ему по два-три дня не давали есть.
Потом наступило облегчение. О его присутствии в тюрьме как будто забыли. Ему отвели камеру, где было побольше воздуха, рядом с квартирой старшего тюремщика, и стали больше о нём заботиться. Теперь чаще всего приходил молодой тюремщик, который, вместо того чтобы швырять, как другие, хлеб в камеру и с грохотом захлопывать дверь, был, видимо, не прочь постоять в камере и поболтать с узником. Сначала Бруно недоумевал. Он уже забыл, что люди способны хорошо относиться друг к другу. Когда юноша в первый раз улыбнулся ему, он заплакал и долго не мог успокоиться. Ему казалось, что он изойдёт слезами, плакать было так сладко!
Юноша рассказал, что его зовут Джованни и он сын старшего тюремщика. Бруно радостно слушал всё, что тот говорил, лихорадочно торопился насладиться этой огромной радостью, потому что не верилось, что она ещё повторится. Он каждую минуту боялся, что юноша начнёт издеваться над ним, ударит его. Бруно слушал, словно не понимая, затем схватил тонкую, но сильную руку и покрыл её поцелуями. Джованни сделал попытку вырвать её. Но Бруно отчаянно цеплялся за его руку, и Джованни погладил его по голове и своим мягким, юношески звонким голосом попросил не пугаться.
— Я боюсь, что вы не придёте больше.
— Приду. Обещаю вам!
И с этого дня Джованни взял на себя почти все заботы о заключённом, делая то, что обычно делал раньше его отец. Кроме него, Бруно видел ещё только одного тюремщика, Паоло, неповоротливого малого лет двадцати с небольшим, с выступающими, как у бульдога, зубами. Теперь все чувства Бруно сосредоточились на Джованни и Паоло. Он проводил часы в нетерпеливом ожидании, ловя каждый звук, гадая, кто из двух сегодня придёт к нему в камеру. В первое время Джованни, видимо, смущало обожание Бруно, потом он стал принимать его без возражений и не мешал Бруно брать его за руку и гладить её. У Джованни была оливково-смуглая кожа, длинные гладкие чёрные волосы, напоминавшие Бруно Джанантонио, и доля той гибкой грации, которой отличался Джанантонио. Но во всём остальном они были совсем разные. Круглое лицо Джованни с узким лбом, прямым носом и маленьким ртом выражало обезоруживающее простодушие, прямоту и доверчивость. Он принял деятельное участие в судьбе Бруно, крал, что мог, из съестного, чтобы увеличить его паёк, подолгу оставался у него в камере, когда отец бывал занят чем-нибудь.
Зато Паоло, словно почуяв радость, которая наполняла теперь душу Бруно, становился всё грубее и грубее. Войдя, он всякий раз непременно лягал Бруно ногой и сделал себе привычку игриво хлопать его по губам своей большой волосатой рукой, ворча: «Ну что же, признаешься ты наконец?» Джованни всеми силами старался, чтобы Паоло не ходил в камеру, но он не мог действовать чересчур энергично, боясь обратить на себя внимание отца.
— Ничего, — говорил ему Бруно. — Пока вы меня навещаете, мне ничего не страшно. Я готов охотно и с благодарностью выносить какие угодно мучения и оскорбления от других, только бы мне знать, что потом буду говорить с вами.
Джованни прижал руку к щеке Бруно.
— Но отчего? Что я для вас? Сын тюремщика. Я ничему не учился. А вы — великий писатель…
— Я! — воскликнул Бруно. — Что вы знаете обо мне?
Джованни покраснел.
— Мне хотелось знать… Я спросил у отца. Ему тоже о вас немногое известно. Но я слыхал, как толковали между собой отцы монахи…
— А что же они говорили обо мне? — спросил Бруно, весь дрожа. Значит, о нём не забыли! Какие ещё пытки готовят ему?
— Я плохо слышал… Они говорили о ваших книгах. Один сказал, что в них ничего нет. Другой — что там страшная ересь, что вы могли бы натворить ужасающих вещей… Я не поверил им.
— Так вы меня не боитесь?
— Нет.
Бруно разозлился на того священника, который сказал, что в его книгах ничего нет. Он стал настойчиво выпытывать у Джованни новые подробности, но видя, что тот не хочет говорить об этом, оставил его в покое. Он поцеловал руку Джованни, и у него отлегло от сердца. Но когда он остался один, подозрения вспыхнули с новой силой. Может быть, этот Джованни — шпион, подосланный, чтобы вкрасться к нему в доверие и всё у него выпытать? Рассказ о подслушанном разговоре звучал не слишком убедительно…
Бруно ходил по камере, сгорая от нетерпения опять увидеть Джованни. Но вечером пришёл Паоло, от которого несло винным перегаром. Он ударил Бруно по щеке и рыгнул ему прямо в лицо.
На следующий день пришёл Джованни, и Бруно забыл о подозрениях, всю ночь не дававших ему уснуть. Он схватил и поцеловал дорогую руку. Но потом сомнения вернулись снова. И в первый раз он разговаривал с Джованни ворчливо и недружелюбно. Бруно с испугом увидел, как огорчён этим Джованни, но никак не мог совладать с собой.
Наконец Джованни дрожащим голосом спросил:
— Что я вам сделал? За что вы на меня обиделись?
— Нет, нет, — испуганно оправдывался Бруно. — Я просто боюсь, что вам наскучит приходить сюда.
— Пожалуйста, не говорите таких вещей!
Мольба в голосе Джованни смутила Бруно. Почему этот юноша так охотно приходит сюда и разговаривает с ним? Бруно с горечью пробормотал:
— Вас подсылают шпионить за мной.
— Кто?
— Да, да, вас научили, как говорить со мной. Я с ума сойду, если вы меня обманете! — Он схватился руками за голову и спросил жалобно: — Неужели вы ходите сюда, чтобы шпионить за мной?
— Да нет же, нет! — возразил Джованни. Они растерянно помолчали, оба глубоко несчастные. Им казалось, что всё испорчено. Джованни, сильно расстроенный, отвернулся, намереваясь уйти.
— Не уходите, — взмолился Бруно.
— Вы мне не доверяете.
— Право же, я вам доверяю, я знаю, что вам можно верить.
Джованни достал из-под куртки ломоть смятого пирога.
— А я вам принёс вот это. Но у него теперь очень уж неаппетитный вид, правда?
Оба неуверенно засмеялись. Джованни воротился от двери и протянул Бруно обе руки. Бруно пытался начать разговор, объяснить, кто он и почему Инквизиция его преследует. Сначала Джованни не хотел слушать:
— Я ничего не хочу знать. Мне всё равно, что бы вы ни сделали, я знаю, что вы хороший человек…
— Нет, это не я, а вы хороший….
Так они пререкались, пока Джованни не засмеялся своим тихим, звенящим, как колокольчик, смехом.
— Пожалуй, и вы и я не слишком хорошие, раз мы так легко выходим из себя.
Их дружба зрела, согретая теплом робких пожатий, бессвязными признаниями Бруно, опасениями, терзавшими его все ночи напролёт. Бруно постоянно мучил вопрос: зачем ходит к нему Джованни? Какой интерес может представлять для него старый человек, отупевший от страданий? Он беспрестанно задавал Джованни этот вопрос, рискуя надоесть юноше и оттолкнуть его от себя.
— Прихожу потому, что вы мне нравитесь, — отвечал Джованни. — Почему бы мне не приходить? Разве вам это неприятно?
— Господи! Вы же видите, что я умру, если вы перестанете приходить…
— Тогда не задавайте глупых вопросов.
Перед ним проносились картины, сохранившиеся где-то в глубине памяти. Какой-то калейдоскоп, мешанина образов. Одни мелькали мимо со странной, сверхъестественной быстротой. Другие были чётки и почти неподвижны. Все переживания последнего времени заслонялись картинами давнего прошлого. Жизнь в неаполитанских монастырях. Жизнь в Ноле, пока он одиннадцатилетним мальчиком не уехал в Неаполь учиться у Винченцо Колле. Всё плыло мимо, колыхаясь, как колышутся листья буков и лавров в те часы, когда (так он думал в детстве) эльфы[383] пляшут на холмах. Мессер Донезе, портной, испортил платье, которое он шил, и швырнул утюг на пол… Серо-коричневая сука на заднем дворе ощенилась в старой винной бочке… Виноградари у дороги во время сбора винограда бывали постоянно навеселе и задевали прохожих. Они кричали «Рогоносец!» или «Шлюха!» каждому, даже знатным господам, которые морщили нос и смотрели прямо перед собой, делая вид, что не слышат. Только один подвыпивший господин в шляпе с страусовым пером стал бросать крестьянам монеты и перекликаться с ними, а какая-то весьма пышная дама улыбалась и кивала головой, словно те, кто кричал ей «шлюха», величали её каким-нибудь громким титулом. На нивах по золоту хлебов ходили от ветра волны, и казалось, что это земля дрожит всей своей взъерошенной шерстью, как собака, когда у неё чешется спина… В Чикале он смотрел сквозь широкие листья винограда на тёмные склоны Везувия… У Францино на гряды дынь забрались крысы… Когда они были в гостях у Антонио Саулино, он, Фелипе, сидел на воротах и, услышав кукование кукушки, возвещавшей весну, спросил: «Кто это кричит? Лев?» И все смеялись над ним. Но кукушка куковала так громко и так близко…
Отец работал на огороде и методически осматривал листья капусты, обирая улиток. А старый Шипионс Саулино, двоюродный брат матери, хлопал по спине всех, даже малышей, и постоянно рассказывал о себе одно и то же: как он раз в год, в страстную пятницу, ходил исповедоваться к своему старому другу викарию и говорил: «Отец, сегодняшними грехами заканчивается год». А викарий отвечал: «И сегодняшним отпущением тоже. Иди с миром и больше не греши». Перед Пасхой Шипионе постоянно твердил: «Ну вот, скоро и на исповедь пойду. Остаётся ещё только шесть дней». А после исповеди: «Ну вот, теперь можно опять целый год грешить». И так неизменно из года в год. От старика всегда пахло как-то странно, анисовым семенем. Мать любила его, а он, Фелипе, нет.
Раз его послали с каким-то поручением к Весте, кажется за солью, а когда он вошёл, Веста снимала через голову рубашку, стоя к нему спиной и наклонясь вперёд. Она сказала невнятно из-под рубашки: «Ай, уходи!», думая, что это Альбенцио. И он на цыпочках вышел.
Видения более смутные… Какие-то люди, склонённые над могилой, выступали из мрака, озарённые молнией ужаса. Сфинкс с верёвкой, чтобы душить людей… Кто-то плакал, плакал, плакал. Опять та же группа людей, неслышно делающих что-то во мраке. Он словно ходил по давно забытым местам, и на каждом шагу в его душу стучался ужас. Что-то случилось в этом месте. Но он не мог вспомнить, что именно. Он всё ходил и ходил по этому лабиринту, где вехами служили какие-то обрывки непонятной угрозы.
Он стал заводить с Джованни разговоры о женщинах. Джованни опять пробовал остановить его, говоря: «Зачем вы мне рассказываете всё это? Это нехорошо, тем женщинам не понравилось бы, что вы о них такое говорите…»
Бруно этот довод показался несколько нелепым, но он пропустил его мимо ушей. Рассказы продолжались, и Джованни как будто начал проявлять к ним интерес, поощрял Бруно. Бруно думал: «Это надежда возвращается ко мне». А вслух говорил: «Я вам всё это рассказываю, но, в сущности, женщины меня больше не привлекают. Я люблю только вас». Он прижимал к себе руку Джованни, уже не стыдясь больше. Потом начинал плакать. «Вы слишком добры ко мне, слишком добры. Это ненадолго. Я проклят». В Джованни была своеобразная смесь покорности и сдержанности. Бруно твердил себе: «Я оброс грязью, неудивительно, что он не хочет подойти ближе». Он отодвигался и продолжал говорить.
Теперь Джованни уже поощрял эти рассказы. Бруно был в восторге, что у пего есть слушатель. Его изголодавшийся ум снова начал работать, в иные минуты удивляя его самого богатством и блеском мыслей. А Джованни был прекрасным слушателем. Хотя он и не говорил ничего, чувствовалось, что он умён и многое понимает. Бруно старательно объяснял ему свою новую теорию пространства, вытекающую из тезисов Коперника. Джованни всё понял. Бруно готов был поклясться в этом. Да, он видел, как Джованни трепетал от восторга, когда он поделился с ним своей идеей о бесконечности миров в пространстве, об органическом единстве Вселенной, об органической связи человека с Землёй, от которой он произошёл.
— И мне, — сказал Бруно, выпрямившись и забренчав при этом цепями, — мне выпала на долю честь первым открыть эту великую истину человечеству, помочь людям сознать свои силы, неограниченную возможность подчинить себе природу. Я — первый человек, призывающий к братству, основанному на разуме. Я первый обосновал и развил диалектику движения, которую две тысячи лет тому назад смутно прозревал Гераклит[384].
В камере некоторое время царило глубокое молчание. Потом Джованни не то всхлипнул, не то вздохнул.
Бруно заговорил опять:
— Вы понимаете?
— Да, — храбро объявил Джованни.
— Тогда мне не нужно никакой иной награды.
Он стоял, гордо выпрямившись, а цепи звенели. Джованни плакал. В сердце Бруно пылали неугасимая радость, любовь и вера.
Бруно всё больше и больше привыкал к Джованни. И скоро начал делиться с ним своими сомнениями. «Задача в том, чтобы понять действительность, — говорил он, — то есть природу, движение, только они и есть действительность, другой не существует. В том-то и беда, что все мыслители до меня пытались выдумать какую-то отвлечённую теорию и втиснуть в неё факты. А я добиваюсь конкретного понимания фактов».
Он старался разъяснить свою мысль Джованни.
— Видите ли, другие философы объявляют логическое понятие законом природы. Аристотель, например, считает материю бесформенной. Но это — предвзятое мнение, не имеющие опоры в действительности. Просто ему угодно так говорить, потому что он придумал множество терминов, которые хорошо согласуются между собой, а до того, что есть в действительности, ему и дела нет. Между тем идея бесформенности материи — только логическая абстракция. Так мыслители теоретически разделяют то, что по законам природы и истины неделимо.
— Не можете ли вы сказать это попроще?
Бруно говорил привычными для него фразами, которые он тысячу раз употреблял на диспутах и в своих сочинениях. И теперь оказывалось невероятно трудно заменять их менее схоластическими выражениями. Теперь он видел яснее, чем когда-либо, что и он, как другие, грешил склонностью к логическим абстракциям. Ему стоило больших усилий сделать все эти вещи понятными неразвитому уму Джованни. Вспышки раздражения всё учащались. По временам ему казалось, что мозг его готов лопнуть от напряжения. Но он не сдавался. Эти беседы с Джованни были как бы пробным камнем для его притязаний на конкретность мысли. И хотя он про себя ругал Джованни невеждой и тупицей, всё же он замечал, что всякий раз, когда ему удавалось просто изложить свою мысль, Джованни схватывал её налёту, сияя, выслушивал то, что ему говорилось, и проявлял умение делать все необходимые и возможные выводы.
«Не можете ли вы сказать попроще?» Эти слова стали для Бруно критерием. Хотя он по временам выходил из себя и шумел, он всегда возвращался к своей задаче. И теперь оказывалось, что урок смирения, полученный им в дни перекрёстных допросов на суде Инквизиции и тогда казавшийся ненужным, принёс ему неизмеримую пользу. Он помог ему терпеливо отнестись к новой задаче — учить любознательного Джованни. Когда Джованни чего-нибудь не понимал, это служило Бруно указанием, что он не сумел просто и ясно изложить свою мысль. Правда, он иной раз возмущался и пробовал заставить Джованни солгать, будто он понял, но из этого ничего не выходило. Ибо Джованни проявлял несокрушимую честность и не желал говорить, что понимает, если он не понимал. Вначале он раз-другой солгал, но это обнаружилось, когда Бруно начал задавать ему вопросы. После этого Джованни держался стойко, и то, несмотря на что Бруно своими колкими замечаниями насчёт его тупости доводил его иной раз до слёз, Джованни никогда больше не притворялся понимающим в тех случаях, когда мысль Бруно оставалась ему неясна.
Бруно пересмотрел все пункты своего учения, все термины и определения и вынужден был признать, что он не раз орудовал чисто логическими абстракциями и извращал естественную связь вещей. Бог, природа, начало, материя, форма, энергия, единство, первопричина, душа — он проверял теперь каждый из этих терминов и находил то самое, что он высмеивал в физике схоластов: множество гипотез вместо исследования истинной, объективной связи явлений во всей её простоте. В основу всего он положил один из своих тезисов: «Единство материи ни в коем случае не есть абстрактное тождество, здесь имеется в виду конкретное целое, заключающее в себе все различия, и динамическое бытие, производящее или осуществляющее свои собственные формы». С этим нужно было связать диалектику движения, новую форму идеи совпадения противоположностей, как пути развития.
К его радости, постепенно всё становилось ясно.
Однажды Паоло, переваливаясь, вошёл в камеру и по обыкновению швырнул на пол хлеб. Когда он нагнулся, рубашка его раскрылась на груди, и Бруно увидел, что грудь покрыта красной сыпью. Паоло перехватил его взгляд.
— Что, — фыркнул он, — красота, не правда ли? Хотел бы я знать, кто наградил меня этим. Но я не спросил у той девки, как её звать. Ей бы следовало называться «неаполитанский шанкр»[385]. Что, нравится? Эй, ты, веди себя прилично, иначе тебе от меня попадёт!
Он вышел, а Бруно стошнило. Он всё болел желудком, хотя в последнее время боли уменьшились, потому что Джованни почти ежедневно приносил ему молоко.
В эту ночь до него донёсся из коридора заглушённый крик, шум борьбы, шарканье ног и потом голос Паоло, в котором слышалось насмешливое торжество. Должно быть, Паоло привёл в тюрьму кого-нибудь из своих любовниц. Бруно подумал: «Хорошо было бы, если бы его накрыли и прогнали со службы». Омерзение душило его. Как этот скот посмел дотронуться до женщины, когда он заражён? Шум утих, но Бруно ещё долго лежал у стены с таким чувством, как будто его пнули ногой в сердце.
Джованни не приходил два дня. Бруно чуть с ума не сошёл от беспокойства. Еду приносил ему Паоло, но он не решился спросить у него о Джованни. Бруно знал, что, если Паоло станет известно о посещениях Джованни, он немедленно донесёт начальнику. До тех пор Бруно и Джованни удавалось скрывать свои свидания от Паоло, так как Паоло всегда проводил свободные часы вне тюрьмы, и как раз в эти часы Джованни приходил в камеру Бруно из комнат отца, находившихся в конце коридора.
— А я боялся, что вы больше не придёте, — сказал Бруно. С появлением Джованни его тревога улеглась, и он уже чувствовал себя обиженным. Но потом ему бросилась в глаза бледность Джованни.
— Я был болен, — сказал Джованни.
Гнев Бруно сразу улетучился. Он взял руку юноши. Рука была влажная, вялая, безжизненная. Джованни тотчас высвободил её из пальцев Бруно. Бруно взволнованно зашагал по камере. Потом подошёл к Джованни и в первый раз поцеловал его в лоб. (Джованни как-то раз заметил: «Я не люблю целоваться. А вы?» — и с тех пор Бруно старался не быть навязчивым).
— Как вы молоды! — сказал он. — Пожалуйста, не покидайте меня. Я умру.
Руки его не слушались, и, чтобы скрыть это, он отошёл и опять начал шагать из угла в угол. Внезапно ему пришло в голову, что так же тряслись руки у Мочениго. «Все мы одинаковы при одинаковых обстоятельствах», — подумал он с неприятным чувством. В эту минуту он прощал Мочениго.
Джованни вынул из-за пазухи листок бумаги.
— Вот, достал для вас, —сказал он грустно. — А вот и перо. — Он вынул и гусиное перо. Бруно пристально следил за его рукой. Когда Джованни расстегнул куртку, из-под неё выступила несомненно девичья грудь.
— Так… Я начинал об этом догадываться, — промолвил Бруно, удивлённый собственными словами, потому что догадка его была чем-то подсознательным. — Вы — девушка. — Теперь ему уже казалось, что он всегда знал это.
Упав на колени, она прижалась головой к его бедру и сквозь слёзы, задыхаясь, стала рассказывать о себе. Мать её умерла, когда ей было только пять лет, и отец всегда одевал её, как мальчика, сперва просто для удобства. Она привыкла носить мужской костюм, и когда отца перевели из Анконы в Рим, никто на новом месте не знал, что она девушка. Её настоящее имя было Джованна.
— Что вы думали обо мне? — спросил Бруно в новом приливе смущения.
— Я поняла. Мне хотелось вам помочь. — Джованна крепко обняла его колени и прижалась к ним лицом. — Мне всё время хотелось сказать вам правду насчёт себя… Но…
— Но что же? — спросил он задумчиво.
— Неужели вы не догадываетесь? — шепнула она. И потом вдруг: — Я вас люблю.
Он бережно поднял её и поцеловал в губы. Он сдвинул куртку с её стройного округлого плеча и поцеловал плечо тоже. Джованна расстегнула пояс и сбросила куртку. На ней не было рубашки. Бруно смотрел на неё, не помня себя от счастья. Потом вдруг из огромной пустоты испуга возникла мысль, рождённая беспомощным жестом Джованны, лёгкой нерешительностью, изгибом тела, в котором чувствовался страх. Слабость её колен, влажность ладоней…
— Это вы были с Паоло там, в коридоре, ночью?
Она подняла на него глаза с явным испугом. Он видел, что ей хотелось солгать. Но она ответила:
— Да, — и вся поникла.
— Вы…
— Он меня заставил силой. Разве я виновата? Он догадался… Вы могли бы угадать раньше, чем он… Я хотела, чтобы это были вы… Но он вас опередил…
В её голосе слышалось возмущение. Бруно оттолкнул её.
— Разве вы не знаете?.. У него дурная болезнь…
Девушка тихо вскрикнула:
— Нет, нет!
Бруно невольно отступал от неё всё дальше, словно его тащили куда-то вниз по тесному ущелью отчаяния. Фигура Джованны таяла под его ошеломлённым, непрощающим взором. Оба в эту минуту ненавидели друг друга. «Так повторяется жизнь», — подумал Бруно. Она напомнила ему Титу, и, как бы в ответ на его мысль, Джованна начала одеваться, совсем как в ту ночь Тита. Но на этот раз он не был пьян. Он был беспомощный, брошенный человек, которого поддерживала только минутная горечь.
— Чем я заслужила это? — заплакала Джованна.
Бруно уже понял, в чём дело. Паоло, очевидно, верил в распространённый предрассудок, будто от венерической болезни мужчина может исцелиться, передав её девственнице. Он проник в тайну Джованны и, пьяный, подстерёг её в коридоре и изнасиловал.
— Уйдите, пожалуйста, — сказал он резко.
Она была уже одета и только никак не могла попасть рукой в левый рукав. Она стояла, плача, неловко ища отверстие рукава, и её юная грудь выступала во всей своей трогательно чистой прелести, вызывая в душе Бруно неослабевающий ужас и желание. Он не помог ей. Вот так одевалась и Тита — ощупью, ничего не видя сквозь слёзы. Плач девушки доходил до него, как заунывная музыка откуда-то из долины. Наконец она натянула куртку. Жизнь замутилась до самого дна. Ведь в Джованне заключалась вся его жизнь. Он был испуган, но горечь в этот момент была радостью. Он хотел, чтобы она ушла поскорее. Он хотел остаться один в своём аду.
— Прошу вас, пожалуйста, уйдите.
Она вышла. Бруно тотчас осмотрел бумагу, которую она принесла, попробовал, хорошо ли очинено перо. Но у него не было чернил. Он впился зубами себе в руку так глубоко, что потекла кровь. Тогда он обмакнул в неё перо и начал писать, стремясь высказать главную свою мысль:
«Отбросим понятия Бог, душа, разум. Это — абстракции. Остаются сила и материя. И время. Относительность. Единство действия равно субстанции. Что ещё нужно? Остерегайся логических абстракций».
Он сделал новую попытку:
«Единство по природе своей активно. Бытие есть становление. Субстанция есть слияние энергии и материи во времени».
Он сильнее укусил свою руку, чтобы опять обмакнуть перо в кровь.
«Тому, кто придёт после меня. Моя ошибка. Время. Всё во всём. Но есть новые сочетания, новые значения. Разреши эту задачу. Я делал ошибку, превращая первопричину в абстракцию, для того чтобы сохранить самопроизвольность. Это неверный метод».
На бумаге не было больше места. Ему приходилось писать размашисто, так как перо было плохо очинено, и быстро, потому что кровь то переставала течь, то начинала капать на пол. Он прижал к груди прокушенную руку, чтобы, остановить кровотечение. Потом, с испугом подумав о том, как грязна его одежда, поднял рубаху и прижал рану к голому телу. Тело тоже было грязно, но казалось ему чище, чем платье. Джованни два раза приносил ему воды, и он вымылся, впервые за всё время заключения. Когда он попросил однажды священника, исповедовавшего его, чтобы он позволил принести ему воды для умывания, тот привёл слова Святого Иеронима: «Тому, кто омылся в крови агнца, нет больше надобности мыться», — и прибавил от себя:
— А тем более это относится к еретику, чья плоть — мать порока.
Возясь со своей рукой, Бруно в то же время перечитывал написанное, положив бумагу на нары. Выражают ли написанные слова его мысль? Если бы только это послание дошло до людей и было напечатано — тогда ему всё равно, какая участь его ждёт! Он решил попросить Джованну переслать то, что он напишет, Беслеру в Нюрнберг. Беслер узнал бы его руку и напечатал бы письмо, чего бы это ему ни стоило, даже в том случае, если он и не согласен с тем, что писал его учитель.
Но, перечитывая написанное, Бруно чувствовал, что оно не передаёт его мыслей. Беслер не мог бы отнестись серьёзно к этим строкам. Всё же Бруно решил попытаться отправить бумажку за стены тюрьмы, чтобы её прочитали люди. Мысли его обратились далеко на север, к Тихо Браге.
Услышав какой-то шум, он спрятал бумагу под соломенный тюфяк.
На другой день Паоло принёс ему обычную еду — хлеб и воду — и грубо шутил по поводу того, что Джованна повесилась на балке в отцовской спальне. Бруно выслушал весть о смерти девушки почти равнодушно. Она умерла для него в тот миг, когда вышла из камеры. Неделю спустя Паоло застал его врасплох, когда он прятал бумагу. Камеру тщательно обыскали и унесли перо и бумагу.
Тут только Бруно узнал настоящее отчаяние и оплакивал Джованну с болью, которая словно терзала ему внутренности, щемила измученное сердце, ножами пронзала позвоночник. Он пытался повеситься на истлевшем одеяле, привязав его к оконной решётке, но одеяло оборвалось.
XXVI. Один
Тюрьма казалась ему огромным чудовищем, проглотившим его: во внутренностях этого чудовища он похоронен, медленно переваривается в тёмном желудочном соке смерти, пока не превратится в кашицу и будет извергнут наружу. Переваривание шло медленно. Он становился просто клубком натянутых и трепещущих нервов. Мозг отказывался работать. Только где-то в самой глубине горел огонь убеждённого знания. Он жил только отрывочными звуками, доносившимися до него, жил, как живёт водоросль, безвольно качаясь среди волн морских. Он, казалось, слышал каждый звук в здании тюрьмы. Каждый скрип половицы, шелест, стон или вздох, топот ног и грохот отдавались у него в ушах. Он купался в этом изменчивом потоке звуков, они обволакивали его, спасая от полного небытия.
Потом наступали недолгие просветы, когда к нему возвращались все душевные силы и способности. Мысль работала блестяще, лучше, чем когда-либо. Выводы давались легко, без усилий, он преодолевал наконец склонность ума к логическим абстракциям.
Можно было подумать, что о нём забыли. Но он знал, что на самом деле это не так. Инквизиция не забывала. Просто ей было не к спеху. Когда она имела дело с видным еретиком, которого надо было уничтожить, она не считала нужным торопиться. Продержать его год-другой в одиночном заключении на хлебе и воде — отличный способ заставить его поразмыслить о своём положении. Всё дело изложено в документах, запротоколировано, занесено в реестр. Если бы те, кто вёл это дело, умерли или были куда-нибудь отосланы, найдутся другие столь же компетентные люди, чтобы продолжать следствие. Бруно не знал точно, сколько времени он уже в тюрьме. Шесть или семь лет? Он считал зимы и лета, но был не очень уверен в верности своего счёта.
Тюрьма стала для него живым организмом. Отдалённое хлопанье дверей, оборвавшийся вопль действовали на него, как грубые пальцы, впившиеся в тело. Запахов он не замечал. Но грязь, и духота камеры, и собственное грязное тело мучили, как наваждение, мучили до того, что он рвал всё на себе или впадал в обморочное состояние, когда что-то начинало давить горящий мозг. Одежда на нём давно истлела, и ему дали взамен какие-то грубые холщовые тряпки.
Он днём и ночью ожидал ветра — это было единственное, что доходило к нему из внешнего мира. Когда дул ветер, он пытался добраться до окна за решёткой, чтобы ощутить на лице его свежее дыхание. Губы его раздвигались, обнажая зубы, глаза пылали безумным восторгом. Когда его перевели в подземелье, где совсем не было окон, он страдал так, как в первые дни заключения. Лежал на земляном полу, то плача, то слушая, как бьётся сердце, спрашивая себя, как это он ещё не умер до сих пор, что делает таким выносливым и несокрушимым хрупкое человеческое тело?
Порой перед ним проходили картины, которых он никогда не видел наяву. Это были как будто воспоминания не души, а каких-то элементов тела. И странно повторялись геометрические фигуры, видимо не случайно расположенные, а подчинённые каким-то математическим формулам, подогнанные одна к другой, как части одной машины.
Эти видения казались ему зеркалом, отражающим то, что ему, Бруно, дано было видеть со сверхъестественной ясностью лишь благодаря процессу медленного умирания. Он видел разложение и находил в нём элементы новой жизни. Ему казалось, что, благодаря его стойкости и философской мудрости, его разложение становится гибелью целого мира. Но в этом умирании были не только признаки распада, в нём были и знамения будущего нерождённого мира.
Оживали в памяти эпизоды из прошлого, но не совсем такими, как они происходили в действительности. Было в них кое-что новое, а иногда чего-то недоставало. Они были смутны, но проникнуты новой глубиной исканий и решений. Однажды его посетило следующее видение прошлого:
Опять проходя но лондонской Сент-Климент-Дэйнс, он свернул с набережной в узкий переулок у Бэтчерс-роу и увидел впереди здание посольства с его выступающими верхними этажами, коньками на крыше, королевскими лилиями и коронами на фронтоне. Он всё ещё опасался ходить по улицам, так как лондонская чернь не раз нападала на него и тяжко увечила. Одна подлая интриганка с льстивым языком и слезами наготове причинила ему много вреда, из-за неё он попал в лондонскую тюрьму, из-за неё толпа разорвала на нём одежду. Даже сейчас, когда всё уладилось, ему было не по себе на улицах Лондона, в особенности когда он шёл один.
Солнце садилось над Вестминстерским аббатством. Он шёл крадучись, но в прекрасном настроении, согретый дружеской встречей с соотечественниками, которых только что покинул в гостинице на Флит-стрит.
В передней Бомон-хауса он увидел две знакомые фигуры. Джон Флорио и Мэтью Г вини обернулись и бросились к нему с распростёртыми объятиями.
— Где вы пропадали? — сказал Гвинн, двигая густыми бровями.
— Вы же знаете, что нас ждут у Гровилля, — закричал экспансивный Флорио. — Ах вы, философ-единорог[386], бродящий по развратным улицам Лондона в тщетных поисках девы-укротительницы… милый вы человек! Ради Бога выкиньте из головы свои собственные идеи и идеи перипатетиков, свою обожаемую школу, и любезно обсудите просьбу ваших благочестивых друзей.
Он остановился, чтобы перевести дух, а из-за его плеча выдвинулся Гвинн, огромный, темнобровый.
Они вышли. Эта проклятая женщина, Мария, ослепляя белизной груди, плача сквозь кудри, протянула к ним унизанные кольцами руки.
— Вы напрасно мне не верите. Здесь не было никого. — Из сумеречной тьмы Лондона вынырнуло её тело, отравив ему радости дружбы, опоганив слова, горевшие в его мозгу.
Среда на первой неделе Великого поста. Сумерки взметают над Вестминстером пепел угасшего дня, и душит за горло воспоминание о гибком, податливом теле Марии с её чудесными бёдрами.
Они стояли на набережной Темзы и кричали:
— Эй, шлюпка!
— Опасный выкрик, — пробормотал Гвинн. — Если нас услышат на Набережной и подумают, что мы кричим другое, похожее слово, мы пропали[387]…
— Это будет славная смерть, — заметил Флорио. — Мы утонем, как Леандр и Гилас[388]. Мы станем легендой Темзы, и призраки наши будут скользить в воде рядом с отражениями лебедей.
— Я вчера видел, как вешали человека за то, что он подстрелил лебедя, — сказал Гвинн. — Он оправдывался тем, что семья его голодает… А у рыжей шлюхи даже клистир — и тот из золота…
— Заткни глотку, пьяница! — сурово остановил его Флорио.
— Объясни! — попросил Бруно по-итальянски.
— Гвинн пьян, — сказал Флорио. — Он один из тех опасных субъектов, у которых только по глазам видно, что они пьяны. Я объясню тебе его шутку потом. — Он понизил голос. — Смотри у меня, Мэтью, ещё одно предательское слово, и я брошу тебя в воду.
— Лодка! Эй, лодка! — завопил опять Гвинн.
Ночь была как пепел покаяния, как тёмные одежды смерти на презираемом и всё ещё желанном теле.
Наконец из мрака донёсся ответный крик, и к берегу подплыла лодка.
— Куда прикажете?
Гвинн ответил резко и ворчливо, за ним прогудел то же Флорио. Лодочники что-то возразили, спросили. Бруно дёрнул Флорио за рукав:
— В чём дело?
— Эти трусливые негодяи желают знать нашу родословную и расположение родинок на теле наших любовниц. Словом, они ведут себя нагло.
Лодка подошла ближе, Бруно первый прыгнул в неё, за ним Гвинн и Флорио. Древние Хароны[389] задвигали скрипучими вёслами. Один из них начал горланить любимую песенку лодочников, и Флорио, не вытерпев, запел в свою очередь песню из «Pastor Fido»[390] Гварини. Они проплыли уже почти треть пути, как вдруг гребцы направили лодку к берегу в сторону Темпля.
— Зачем они это делают? — спросил Бруно. — Пьяны они, что ли?
— Они говорят, что дальше не поедут, — объяснил Гвинн, полоща руки в реке, по которой бежала ночная зыбь. — Здесь у них стоянка. Они крепко держатся за свои права.
Все трое выйти на берег, поблагодарили несговорчивых Харонов и уплатили им, после чего те стали любезнее и указали дорогу.
— Не могу разглядеть, где мы, — сознался Флорио. — А ведь я думал, что знаю Лондон не хуже, чем тайные прелести моей Лалаги[391].
— Я нашёл какую-то грязную тропу, — сказал Бруно. — Идите за мной.
— Ну и жизнь! — вздохнул Гвинн.
Они ступили в густую грязь и побрели по тёмному проходу, натыкаясь друг на друга. Бруно схватил Гвинна за ворот.
— И подумать только, что мы, три избранные души в ничтожном мире…
— Где мы? — прогудел Флорио, и ему ответило громкое эхо.
— Morituri morituros salutant[392], — сказал Гвинн.
Ночь сомкнулась над тремя людьми, которые брели по вонючей грязи… Не луна напомнила Бруно об его одиночестве. Напомнило о нём ослепительное тело Марии, затонувшее в озере зеркала. Ему казалось, что он тоже утонул, и лебеди королевы величаво проплывают над ним. Человек, которого повесили за то, что он, умирая с голоду, подстрелил лебедя, — ведь это он, Бруно. Он прожил множество жизней в одной.
Он ещё не умер. Он стонал под холодной тяжестью ночи, придавившей его. Кто его противник? Церковь? Нет, нечто большее. Христианская вера? Нет, то, что держится христианством: паразитизм, уничтожающий сущность всякой добродетели. Евангельские заветы будто бы хороши, их не портит даже то, что к ним примешались призывы к ненависти и насилию. Отчего же они так обесценены? Нелепо говорить, что люди извращают божественную истину. Истину извратить нельзя. Если так называемая «истина» становится орудием угнетения и жестокости, то других доводов против неё не требуется.
В чём беда? Как изгнать торжествующего зверя, величайшее зло, убивающее красоту и чистоту? Он держится страхом и алчностью. Церковь — величайшая сила на земле, самый крупный из собственников. Какой смысл имеет проповедь, основанная на иррациональных догматах и эмоциях? Каковы бы ни были официально признанные стремления Церкви, они служат лишь прикрытием для алчности.
Какой же выход? Отказываться от благ земных, как это делают отшельники, бессмысленно. Только человек, скованный страшной угрозой смерти, может искренно примириться с таким образом жизни. Но как осуществить пользование благами земными, не создавая при этом опоры для паразитической жажды власти, которая всё губит?
Трудиться и производить на пользу всем… Вот формула, которую он часто искал, не постигая её смысла во всей полноте. И по-братски делиться благами земными.
Он давно утратил надежду на спасение, но бывали минуты, когда он с упоением строил планы, что он стал бы делать, если бы каким-то чудом вышел из тюрьмы на свободу. Ему казалось, что существование самого загнанного из тружеников, угнетённых жадным землевладельцем, было бы для него, Бруно, блаженством. Трудиться, двигаться, дать работу мускулам, знать, что твоя работа связывает тебя с другими людьми… Голодать, терпеть преследования, болеть, быть обманутым, не иметь возможности получить образование — всё это казалось человеку, лежавшему без сил в тёмной камере, таким пустяком по сравнению с радостью участвовать в жизни мира, вносить в неё свою лепту, хотя бы малую.
Он мечтал о пище. О женщине, которая с любовью заботилась бы о нём. Отречься от всех честолюбивых помыслов, поселиться где-нибудь, где он мог бы найти заработок, читать лекции, как когда-то в Ноле. Но на этот раз он не стал бы проповедовать недозволенные идеи, чтобы не лишиться куска хлеба. Он твердил бы своим ученикам старую ложь, которую предписывала Церковь, и католическая и реформатская. Он женился бы на юной девушке, дочери бедняка, которая была бы ему благодарной и послушной женой. И прожил бы остаток жизни в благоухающем саду, окружённый детьми. Какими драгоценными казались самые обычные вещи, которые он когда-то презирал. Слава больше не привлекала его. Он хотел затеряться среди множества людей, иметь с ними общие цели и одинаковые взгляды. Он приобщится к изменчивой и вечной Вселенной, примирится с судьбой, создавшей мозг и руки в организме, которым управляли половые органы и желудок.
Потом неотвратимо и властно, как смерть, без всякого участия его сознательной воли, пришла твёрдая решимость утвердить истину, которую он постиг, истину, которой имя — Свобода.
С этой правдой в душе он был свободен даже здесь, в тюрьме. К нему вернулась прежняя экзальтация, стоические принципы, в которых он открывал новые глубины, новую резкость света и тени.
Он не знал, чем кончится война, которую он один осмелился вести против лжи и несправедливости в мире, против власти паразитов, — но он не мог изменить этой внутренней правде, взошедшей, как звезда, над хаосом его души. Если он пойдёт за этой путеводной звездой, если примет целиком всеобъемлющую мысль, перед величием которой он терялся, он не может быть побеждён, что бы с ним ни сделали, как бы жестоко ни мучили и ни позорили его.
(Он вслушался, приложив ухо к двери: опять вопли, стоны и лязг орудий пытки).
Но что же это за мысль, величие которой подавляло его? Только не терять нового сознания единства, обретённого им! Эта мысль — жизнь, которая струится в него от звёзд в высоте и цветов на земле, от кротких женщин, чьи ноги, как колонны, служили опорой его омрачённой душе, от мужчин, работавших мозгом и руками, чтобы заживлять раны, нанесённые временем.
Оттого человеческое сливалось с космическим. Оттого он, Бруно, даже в тёмной келье своего одиночества чувствовал себя частицей человечества. Это было связью между ним и будущим, которое он провидел, несмотря на свою оторванность от жизни и всякой деятельности. Теперь мир принадлежал ему. Он умирал за свободу ближних, свободу всего рода человеческого. Теперь он понимал, что массы, которые трудятся, едят и любят, массы, которых он не замечал в своих одиноких исканиях, участвуют в этих исканиях, служат опорой искателю, стремятся к тому же великому моменту, когда его одиночество окончится, когда все жизни будут равны перед природой, идут навстречу тому дню, когда всё будет общее, когда формы человеческого существования будут так же свободны и самопроизвольны в своём взаимодействии, как клетки, сочетанием своим образующие человеческое «я», эту массу противоположностей, которые, сливаясь, дают сложную совокупность действий.
Он, Бруно, больше не был отделён от громадного организма Вселенной. Во всём, что он делал когда-то и теперь, не было ничего чуждого этому организму. Мужчины и женщины, которых он любил, были частью его самого, и он не судил их больше надменным умом, снисходительно благодарный за то, что они были ему орудием наслаждения или возбуждали в нём энергию. Нет, теперь они в самом деле были частью его самого, как он был частью их. Бесчисленные массы тех, кто трудится и борется, составляли с ним одно, он был лишь голосом этих масс, сознанием, брезжившим в водовороте жизни и созидания. Он был оружием жизни, авангардом всего человечества.
Из помещения, где стучали и лязгали орудия пытки, донеслись вопли. Кто-то стонал, как стонет женщина в родах. Человека терзали на части служители Христовы. Человек в муках рождал новый мир…
XXVII. Утверждение истины
Его умыли, переодели, подстригли ему бороду. Из подземелья перевели в камеру почище, с окном. Он сидел в каком-то оцепенении, ожидая, что будет, тоскуя о прежней камере, где его укрывала темнота. Свет резал глаза, в желудке он ощущал какую-то слабость, всё тело зудело. Он был не в силах сидеть прямо на стуле, принесённом в камеру, через несколько минут он, как мешок, свалился с него и лежал на полу.
Вошёл человек средних лет, просто, но тщательно одетый, невысокого роста, с длинным лицом и остроконечной тёмной бородкой. В его серьёзных глазах мелькало иногда благожелательное выражение. Голос у него был тихий, но ясный и уверенный.
— Вы Джордано Бруно, бывший доминиканец?
— Да.
В приходе этого человека Бруно почуял угрозу для себя — и невольно выпрямился. Тяжкое оцепенение, овладевшее им, начинало проходить. Он страшился любезности посетителя: она могла бросить его к ногам этого человека, исторгнуть у него мольбу о пощаде. «Всё, что угодно, только не это!» — твердил он про себя.
— Я — Роберт Беллармин.
Они внимательно смотрели друг на друга. Бруно почувствовал, что душа его ожесточается против этой последней атаки на него. Он пытался говорить с достоинством и без всякой нетерпимости.
— Мне всегда хотелось познакомиться с вами. Я уважаю вас, как умного человека…
— Я, со своей стороны, могу сказать то же самое о вас.
Бруно не мог устоять против надежды, что наконец перед ним человек, который поймёт его. Он и сам не заметил, как начал излагать Беллармину свои идеи в физике, свои мысли об устройстве Вселенной. Беллармин прервал его спокойным, но решительным жестом:
— Всё это — обыкновенное тщеславие ума. Святое Писание говорит нам другое. Кроме того, я читал ваши книги и не нуждаюсь в пояснениях.
— Но ведь идеи мои правильны…
— Они не могут быть правильны. Вы полагаете, что Господь Бог знает о Вселенной, которую он сотворил, меньше, чем вы, простой смертный? Или что он умышленно лгал пророкам, тогда как он легко мог бы, если бы хотел, возвестить им всё то, что вы считаете истинным, если бы это действительно была истина?
Бруно начал бессвязно говорить о том, что Церковь давно признала «двойственность истины», а он, Бруно, только идёт по стопам Скота Эригены[393] и Николая Кузанского.
— Святая Церковь при известных условиях допускает расхождения между философией и богословием, — сказал Беллармин мягко. — Но если философия совершенно забывает о богословии и выдвигает тезисы, признать которые — значило бы совершенно уничтожить богословие, тогда Церковь вынуждена занять иную позицию.
— Но истина, истина… — бросил Бруно, стискивая руки.
— Церковь — вот вам истина. Она — единственный источник любви, и веры, и милосердия, всего, что возвышает человека над животным. — Тон его ещё более смягчился. — Я читал ваши книги. Вы согласны с такими мыслителями, как Помпонацци[394], что религия необходима только для невежественной черни. Я выбрал Помпонацци, так как на этом примере легче всего убедиться, до какого предела Церковь допускает свободу мысли, не считая нужным вмешиваться. Разве Помпонацци не выражал сомнений в бессмертии души?
Бруно поник головой. Он чувствовал, что ему опять изменяет мужество, и боялся, что в последний момент, после стольких лет мучительной борьбы, он испортит всё, сдастся. Беллармин встал и, подойдя к двери, отдал какое-то распоряжение. Через несколько минут он вернулся с подносом, на котором стояло два стакана вина. Предложил один Бруно. Бруно хотел отказаться, но не мог. Он взял стакан.
— Пейте не сразу, — заботливо сказал Беллармин. — Вы, вероятно, всё это время были воздержаны в пище и питьё ради спасения своей души. Пейте же понемногу, иначе вино плохо подействует на ваш желудок… Вот так, хорошо.
Он взял свой стакан и заглянул в него.
— Итак, если вы согласны, что религия необходима, чтобы держать в узде народ, следовательно, вы должны признать, что все попытки умалить заслуги Церкви опасны, разрушительны, неразумны. Я уверен, что вы уже сожалеете о таких клеветнических выпадах в ваших книгах, как хотя бы изображение Папы в виде чудовища в тройной короне, Ватикана — в виде стальных ворот ада, а о Риме писать, что он ограждён тройной стеной и девять раз опоясан Стиксом[395]. Такие полёты разнузданной фантазии встречаются, как вы, конечно, помните, в вашем прощальном послании из Виттенберга, «Oratio Valedictoria Vitebcrgae habita». Я убеждён, что вы раскаиваетесь и в том, что именовали папскую власть торжествующим зверем. Употребляя подобные выражения, вы опустились до уровня тех жалких людей, которые питают свой изголодавшийся ум словами святого Иоанна. Над этими словами тщетно ломали головы мудрейшие из богословов, а теперь каждый сумасшедший ремесленник воображает, что ему открыт их тайный смысл.
— Под торжествующим зверем в моей книге я разумею вовсе не Папу, — возразил Бруно, чувствуя, что мужество его с каждой минутой слабеет. — Это надо понимать шире… Valedictio — это тактический манёвр… Я хвалил Лютера только за его энергию. Я всегда восхищался силой его характера, но не одобрял его учения. Мне претят его идеалы… Спокойная совесть мелкого торгаша… Я мечтаю об единении более широкого масштаба… В отношении Лютера я с вами согласен.
— В таком случае что же вас удерживает? — терпеливо спросил Беллармин, вертя в руках стакан. Бруно уже выпил своё вино — он не мог пить его медленно, как советовал Беллармин. Теплота разлилась по его телу, и он думал только об одном: как было бы чудесно получить и тот бокал, которым поигрывал Беллармин, всё ещё медля пить. Он ударил себя в грудь:
— Меня удерживает истина. Я не могу отречься от истины.
— Что есть истина? — процитировал Беллармин с улыбкой, которая могла выражать что угодно — и простодушную веру и утончённый цинизм.
— Мой крест.
Беллармин снова усмехнулся.
— Я указал вам простой выход. Я так и знал, что вы это скажете, и всё же надеялся, что, быть может, у вас хватит мужества не укрываться за чистейшей риторикой. Впрочем… — Он сделал снисходительный жест, как бы намекая, что долгие годы тяжких страданий, пожалуй, достаточное оправдание. Затем продолжал: — Истина — это откровение Божие, возвещённое людям устами его пророков и установлениями Церкви. Её можно подкреплять доводами разума, это указывали такие философы, как Святой Фома Аквинат. Но во всей полноте она заключена лишь в совокупной деятельности общины Христовой.
— В том, что вы говорите, есть доля правды, но есть и предвзятость. Приблизительно так же пытался верить и я когда-то. — Он вдруг вышел из себя: — Не безумие ли, что меня арестовали и судят, когда я сам хотел прийти к вам? Но то, что вы со мной сделали, исключает теперь всякую возможность примирения. Я стал другим человеком. И мир тоже стал другим, его изменили мои страдания. Я вижу, вы улыбаетесь. Уверяю вас, я не сошёл с ума. Я знаю, что я — не помазанник Божий, не жертвенный агнец, как ни соблазнительны все эти уподобления… Перестаньте смеяться надо мной, или я убью вас!
Он вскочил, опрокинув стул, весь дрожа от ярости. В дверях появился солдат. Беллармин знаком отослал его и повернулся к Бруно.
— Поднимите стул, — сказал он успокаивающим тоном, — и не волнуйтесь. Поднимите стул и сядьте. Помните, что мы с вами попросту ведём теоретический разговор… Нет никаких оснований выходить из себя.
— Не дадите ли вы мне ваш бокал вина? — попросил Бруно дрожащим голосом, со слезами на глазах.
— Конечно, пожалуйста, возьмите. Но пейте не сразу.
Забыв всякий стыд, Бруно с жадностью схватил бокал и припал к нему. Силы начинали возвращаться к нему.
— Чем же, — начал опять Беллармин, видя, что Бруно стал спокойнее, — чем же вы заменили бы Церковь?
— Истиной, истиной!
— Постоянно один и тот же выкрик. Я спрошу вас опять: что есть истина?
— Религия объединяет, — сказал Бруно, не отвечая на вопрос. — Но она и разъединяет тоже. Она убивает ложью. Она родит страдание и питается им. Страдания человеческие ей необходимы, без них она погибнет. Религия возникла благодаря потребности несчастных людей в утешении, и она оставляет их несчастными, чтобы оправдать своё существование. Я был труслив и слеп, когда думал, что она действительно нужна. Но, впрочем, я тогда высказывал и другие мысли. Вы не обратили внимания на мои доводы, что каноны религии больше убивают, чем возрождают, что призыв к братству нужно только разумно обосновать, и он будет услышан и принят всеми?
— Да, эти места в ваших книгах я отметил красными чернилами, — ответил Беллармин.
— Теперь я довёл эти мысли до их логического заключения. Всё другое, сказанное мною об этом, — только уступка страху… Я ошибался, принимая собственный страх за сомнения моих братьев… Я — человек низкого происхождения, сын бедных тружеников… Я до сих пор отрекался от своих…
— Выражайтесь яснее. Кому вы несёте это своё новое Евангелие? То есть кому вы понесли бы его, если бы имели такую возможность?
— Не знатным господам и не менялам, не землевладельцам и не торгашам… а всем трудящимся и обременённым…
— Ага, вы ссылаетесь на Святое Писание…
— Только затем, чтобы вам досадить. Мне нет надобности прибегать к Святому Писанию. На моей стороне — Вселенная и время…
— Итак, вы желали бы проповедовать новую мораль, основать какие-нибудь секты вроде вальденсов[396] и катаров[397] или написать новый комментарий к «Вечному Евангелию»?
— Нет. Я не заражён манихейским[398] безумием, не презираю тела и природы…
— Значит, Мюнцер и его крестьяне? Будете вопить, как он: «Всё — общее и должно быть распределено между всеми»?
— И да и нет. Это мне ближе. Но и Мюнцер[399] не понял природы и её законов. Искания продолжаются. Система ещё не нашла своего завершения.
— Послушайте, нот как раз сейчас в Нижней Австрии бунтуют крестьяне. Неужели вы не понимаете, как опасны такие идеи, как ваши?
— Опасны для вас.
— Нет, не только для меня. Для всей культуры, для дела Божия…
— Я хотел бы быть там и погибнуть в рядах этих крестьян…
Беллармин первый нарушил молчание:
— Всё это — пустые разговоры. Никогда вы не станете вождём еретиков или бунтовщиков, потому что вы никогда не выйдете из тюрьмы. Да если бы и вышли, вам бы эти простолюдины понравились ещё меньше, чем капитул монахов… Мне жаль вас.
— Это — вина Церкви… Что я говорю «вина»? Я не виню её, я ей благодарен за то, что ко мне вернулась твёрдость, чутьё правды, я теперь знаю, что мне нужно. Ложь во мне выжгли…
— Выжгли…
Бруно вздрогнул. Он докончил уже и второй бокал вина и ощущал беспечную отвагу и вместе с тем какую-то пустоту внутри.
Беллармин продолжат:
— Я прочёл все ваши напечатанные сочинения и те рукописи, которые взяли у вас после ареста. Вы — умны, но вы — пустой шарлатан. Вы просто извратили глубокие мысли епископа Николая Кузанского. Вы их упростили. Впрочем, мне нравится ваш стиль и та страстность, с которой вы отстаиваете свои идеи. Я уважаю вас за учёность, хотя вы и непоследовательны. Скажу прямо — вы созданы для роли пропагандиста, но в вас нет ничего оригинального. Я виню тех людей, которые руководили вами в дни юности в Неаполе. Вы не можете жить без опоры. Церковь вам необходима. А вы ей не нужны, хотя она всегда готова использовать ваши способности, как и способности всех других своих детей. Поэтому вам невыгодно было ссориться с Церковью. Ваши сочинения будут внесены в список запрещённых книг. Жизнь ваша будет такова, какой никогда но была.
— Продолжайте, — сказал Бруно. — В том, что вы говорите, есть, по крайней мере, большая доля правды.
— Слишком поздно вам надеяться, что вам поверят. Тем не менее, если вы проявите должное раскаяние, вас поместят в какой-нибудь монастырь вашего ордена, вы будете жить в хороших условиях и сможете, если пожелаете, писать в защиту Церкви.
— Продолжайте.
— Я специально занимался вопросом о связи ваших идей с формами общественной жизни. Я хочу вам объяснить, почему взрывы вашей ненависти меня не испугали. Но мне придётся начать с вашей философии.
— Объясните, что, по-вашему, я украл у Кузанца?
Бруно был больно задет суровой критикой Беллармина.
Он старался не выдавать обуревавших его чувств, но не устоял перед желанием вернуться к этой теме.
— Кузанец далеко заходит в своих рассуждениях, слишком далеко, это опасно. От них один шаг до бездны — и этот шаг делаете вы!
— Но гибну при этом не я, рушится Церковь. Гибнет узурпатор, зверь.
— Оставим метафоры. То, что Кузанец говорит о Боге, вы относите к природе. Несмотря на путаницу мыслей, в ваших книгах чётко видны основные тезисы. Вот суть вашего учения: материя и форма по природе своей не противоположны. Материя заключает в себе всё возможные формы и рождает их из себя в последовательные моменты времени. Вселенная бесконечна и вечна, следовательно, в ней могут осуществляться бесконечные превращения материи.
— Вы неплохо передаёте суть моей философии. Она далека от идей Николая Кузанского.
— У вас речь идёт только о материи и форме, о силе, пространстве и времени. Вы не отличаете формы от материи.
— А Кузанец рассуждает иначе.
— Ваше понятие об единстве всегда конкретно, оно никогда не трансцендентально. В вашей философии нет места Богу Отцу, Слову и Искупителю.
— В моих сочинениях… — начал Бруно неохотно, хриплым голосом. Он хотел сказать, что мог приноровить свою мысль к католическому мировоззрению путём эзотерического истолкования символов. Но этот аргумент, предававший всё, чего он достиг, замер у него на устах. Он сидел, как-то весь опустившись, нервы его были нестерпимо напряжены.
Беллармин подхватил невысказанный довод.
— Вы употребляете слово «Бог», но вы могли бы заменить его термином Natura naturans, и в вашем учении ничего не изменилось бы, — прервал он вялые возражения Бруно. — Знаю, вы делаете какое-то неуловимое логическое различие между этими двумя терминами, чтобы сохранить нетронутым понятие единства. Но вы совершенно уничтожаете идею личного Бога. Более того, вы постоянно противоречите самому себе в определениях первопричины, души, интеллекта. Если всё возможности заключены в движущейся материи, то, откинув всякие нагромождения слов, можно сделать вывод, что интеллект у вас является не результатом промысла Божия, а материальным, образующим началом всякой формы, не самоопределяющимся, а определяемым материей и движением…
— Я не атомист-детерминист, — возразил Бруно. Он больше не стремился убедить иезуита в том, что он, Бруно, мог бы примириться с католицизмом. Ему хотелось только, чтобы Беллармин, этот человек острого ума, в своих речах показал ему как бы со стороны все выводы, к которым пришёл он, Бруно. Это было бы лучшим подтверждением их правильности.
— Вы не атомист-детерминист, — продолжал Беллармин, — но если отделить в вашем мировоззрении новое от того, что в нём есть косного, непереваренного, преувеличенного, то становится ясно, что вы неуклонно отрицаете всякую ипостась и промысел Божий, всякое начало, кроме того, которое создаётся условиями движения материи. Для? вас сознание логически может занимать только самое последнее место в вашей диалектике движения материи.
Бруно трепетал от радости, но сдерживался, не желая выдавать своих чувств из боязни, что Беллармин замолчит. И Беллармин продолжал, время от времени соединяя вместе указательные пальцы, словно отмечая этим каждый пункт своего изложения.
— А каково общественное значение этих идей? Я уже вам говорил, что хорошо разбираюсь в таких вещах. Уничтожение иерархичности абстрактных понятий означает и уничтожение общественных иерархий. Поэтому вы опаснее Мюнцера. Вы хуже унитариев, ибо создаёте философские концепции для обоснования неиерархической идеи единства. Ваша идея — антитеза мыслей Плотина и Николая Кузанского, от которых вы заимствовали много методов формулировки.
Мысль Бруно бешено работала. Да, да, Беллармин тысячу раз прав. Слова Беллармина возвращали ему веру в свои идеи, они ободряли и радовали его. Его больше не терзали опасения, что работа его несовершенна, что в ней много неясностей, столько же неверных мыслей, сколько истинных. Теперь можно и отдохнуть и покончить со всем этим. Теперь можно верить, что та истина, какая есть в его учении, найдёт себе естественное и необходимое применение. Ибо сама жизнь, развитие человечества идут в том же направлении.
Если Беллармин так легко обнаружил революционные идеи в его книгах, то эти идеи сделают своё дело, направят борьбу человечества к двойной цели: овладению природой и изгнанию поработителей.
Окрылённый победой, он не мог больше совладать с собой. Вскочил со стула и воскликнул слабым, мучительно-натужным голосом:
— Довольно. Вы поняли. Вы сами подтвердили всё. О, как я вам благодарен! Я жил не напрасно, если дожил до этой минуты!
Голос его оборвался, он замахал руками. На этот раз в его поведении было что-то, испугавшее Беллармина. Да и пора было кончать беседу: Беллармину стало ясно, что продолжение её ни к чему не приведёт. Он встал, подошёл к двери и крикнул что-то. Появились два солдата.
— Вы ничего не добьётесь! — кричал Бруно. — Теперь я всё знаю. — Он захохотал и, указывая пальцем на Беллармина, обратился к солдатам: — Арестуйте этого человека, как изменника Солнцу, Земле и человечеству. Хотите знать, каковы мои полномочия? Я приказываю это именем будущей победы, именем моих настоящих страданий. Я — антихрист. Убейте меня.
Беллармин медленно наклонил голову.
— Это последнее ваше заявление будет своевременно рассмотрено конгрегацией. Прощайте. Да смилуется над вами Господь.
Бруно стоял, глядя ему вслед скорбным и вместе радостным взором.
XXVIII. Завершение
Четырнадцатого января 1599 года собралась конгрегация. Присутствовало восемь кардиналов, семь коадъюторов и секретарь. Преподобные отцы иезуиты и Беллармин извлекли из книг Бруно и из протоколов допроса восемь доказательств ереси. Было решено прочесть некоторые из этих пунктов обвинения беглому монаху Бруно, чтобы выяснить, будет ли он отрицать их. Кроме того, поручено было компетентным лицам отыскать ещё новые еретические мысли в его книгах и в протоколах суда.
На все вопросы относительно Бога в трёх лицах, воплощение Слова, свойств Святого Духа, таинства причащения, божественности Христа, еретических идей о вечности и бесконечности материи бывший монах не отвечал, храня упорное молчание. Он заявил только, что верует в Истину.
Рассмотрение дела продолжалось четвёртого февраля. Папа повелел «сообщить Бруно, что все его утверждения — ересь с точки зрения не только современных богословов, но ещё древнейших отцов Церкви и наместников Христовых. Если он это признает, хорошо. Если нет, ему даётся на размышление срок в сорок дней».
Обвиняемый по-прежнему проявлял ожесточённое упорство, но попытки сломить это упорство продолжались и после того, как истекли сорок дней. Процесс возобновился только двадцать первого декабря. Бруно предстал пред конгрегацией, и ему объявили, что судьи готовы выслушать то, что он имеет сказать. Он сказал, что «не должен и не желает ни от чего отрекаться, что ему не в чем раскаиваться, что он не знает, в чём ему следует раскаиваться».
Виднейшие члены конгрегации, обвинитель Мадруцци, аскет Стондрати, суровый Боргезе[400] и учёный Беллармин решили всё же проявить терпение к вероотступнику. Они приказали «разъяснить ему, как слепо и лживо его учение». Генералу ордена доминиканцев, Ипполито-Мария Беккария, и Паоло ди Мирандолла, его помощнику, поручено было «заняться вышеозначенным братом Бруно и указать ему, от каких именно идей ему следует отречься, чтобы он мог признать свои ошибки, исправить их и раскаяться. И как можно скорее сделать всё возможное для спасения его души».
В числе других прелатов, посетивших узника, были и кардинал Вороний, духовник Папы, и граф Вентимилья, бывший когда-то учеником Бруно. Бруно стал увещевать графа «идти по славным стопам учителя, избегать предрассудков и заблуждений».
Двадцатого января 1600 года состоялось новое заседание под председательством Папы. Было доложено, что Бруно упорствует в своём решении ни от чегоне отрекаться, что он отрицает распространение им ереси, заявляя, будто слуги Инквизиции не способны его понять. Его послание к Папе было предъявлено и распечатано, но вслух его не читали. Суд сразу постановил «принять дальнейшие меры и передать монаха Джордано Бруно светской власти для выполнения приговора».
Восьмого февраля узник предстал перед кардиналами и коадъюторами, собравшимися в монастыре Минервы. Здесь, в присутствии римского губернатора, представлявшего светскую власть, его официально лишили монашеского чина, отлучили от Церкви и изгнали из общины Христовой. Был прочитан приговор, в котором отмечался его греховный образ жизни, занятия и взгляды, а наряду с этим — усердие и братская любовь инквизиторов, их усилия вернуть преступника на путь истинный.
Епископ Сидонский совершил обряд расстрижения, и в общем перечне расходов было указано, что он получил двадцать семь скуди за «лишение монашеского чина Джордано Бруно, еретика». Обращение к римскому губернатору было составлено в обычной форме:
«Примите еретика в своё ведение, чтобы по своему усмотрению подвергнуть его заслуженной каре. Умоляем вас, однако, умерить суровость вашего приговора в отношении его тела, так чтобы ему не грозила смерть от пролития крови. Так постановили мы, кардиналы, инквизитор и генерал, чьи подписи следуют ниже».
Эти фразы имели целью снять ответственность с Церкви и в то же время внушить губернатору, что переданный ему еретик должен быть сожжён.
Выслушав приговор, Бруно обвёл глазами своих судей и сказал голосом, звенящим и грозным:
— Я думаю, вы произнесли этот приговор с большим страхом, чем я его выслушиваю.
Затем солдаты губернатора увели его в городскую тюрьму, Нонскую башню у берега Тибра, почти напротив замка Сан-Анжело.
Был юбилейный год[401]. Рим наводняли богомольцы из всех христианских стран. Пятьдесят кардиналов облачились в пурпур. Повсюду звучали покаянные псалмы. Толпы мужчин и женщин теснились на коленях перед алтарями, плотно прижатые друг к другу, обливались потом, молились, шарили по чужим карманам и грубо заигрывали друг с другом. Процессии богомольцев с унылой торжественностью брели из улицы в улицу. Не хватало священников, чтобы исповедовать людей, требовавших отпущения грехов. Папа, несмотря на всё ещё мучившую его подагру, не захотел откладывать открытия священных врат, так как странноприимный дом Святой Троицы расходовал огромные суммы на приём толп пилигримов, стекавшихся в город. В последний день декабря Папа в полном облачении прибыл к храму Святого Петра в сопровождении всех своих кардиналов, епископов, духовенства, свиты, иностранных послов. С большим трудом дойдя до дверей (так как подагра давала себя знать), он, после того как пропели антифоны[402], торжественно открыл святые врата. Несмотря на то что его телохранители-швейцарцы палками отгоняли народ, шествие Папы к храму совершалось весьма медленно, с перерывами и очень утомило его.
Уличные разносчики и проститутки торговали бойко, хотя последние и жаловались на то, что порядочные женщины в эти дни сильно возбуждаются и даром удовлетворяют множество мужчин, тем самым лишая профессионалок части заработка. Пилигримы и путешественники ходили по городу, жадно глазея на всё, восторгаясь широкими новыми улицами, большими зданиями, дивясь волшебной быстроте, с которой обновлялся Рим после того, как Роберт Гвискар[403] сжёг дотла полгорода.
Чтобы извлечь пользу из юбилейных празднеств, кардинал, исполнявший обязанности камерария[404] при папском дворе, издал указ, снижавший ценность всех местных и иностранных серебряных монет и запрещавший всем увозить из города больше пяти крон.
Папа, измученный подагрой и гнётом обязанностей, решил, всем в пример, вести отныне монашеский образ жизни. Двенадцатого февраля распространилась новость, что он уже приказал убрать все ковры и украшения из его покоев, главное — из спальни, в которой позволил оставить только кровать, стол и несколько черепов. В комнате с ним ночевали два монаха-бенедиктинца[405], с которыми он любил беседовать на религиозные темы.
У тысяч людей, наводнивших Рим, было о чём посудачить, кроме папской подагры. Например, о чуде, свершившемся два месяца тому назад в церкви Святой Цецилии в Травестере, где в подходящий момент были найдены мощи Святой Цецилии в полотняном покрывале, спущенном на лицо, в той самой одежде, в которой она некогда шла на муки. Купцы могли толковать о растущей угрозе голландской торговли в португальской Индии. Люди набожные и серьёзные — о мерах, принятых Фердинандом[406] в Эйзенгерце против рудокопов, которые прогнали католических священников, или о падении родительского авторитета, доказательством чему служило убийство графа Ченчи его детьми или ужасное преступление Павла де Санта-Кроче, заколовшего свою мать кинжалом. Прошло только два-три месяца с тех пор, как старший сын Ченчи был публично разорван на части двумя парами щипцов.
Но мало кто интересовался осуждением отъявленного еретика Джордано Бруно, о котором газета «Аввизи» писала, что он «стряпал разные ереси, оскорблял святую веру, а в особенности Пресвятую Богородицу и святых мучеников. Этот преступник упрямо решил погибнуть в грехах своих. Он уверяет, что умрёт охотно, что он — мученик и душа его в дыме костра вознесётся в рай».
Утешители из Братства милосердия при церкви Иоанна Крестителя ёжились от холода и вполголоса беседовали между собой. Фонарь и полдюжины факелов ярко освещали их лица. За гранью этого местечка, выхваченного светом факелов из окружающего мрака, каменные башни стрелами уходили в небо и терялись в бесконечности. «Никаких вестей до вчерашнего вечера — и вдруг сразу»… «Они могли бы проявить к нам больше внимания…» «Фра Себастьяно говорит, что будет отложено». «Этот вероотступник назвал его святейшество зверем из Апокалипсиса. Он — лютеранин». «Нет, кальвинист. Его подослал де Беза, чтобы убить его святейшество кинжалом, который был у него спрятан в башмаке. Его изобличили, потому что кинжал выпал, когда он проходил мимо статуи Пресвятой Девы». «Всё равно, у него бессмертная душа, хотя бы она и была осуждена гореть в адском огне. Мы должны молиться за него. Должны довести его до сознания его чудовищной вины»… Носовой говор затих, удаляясь из маленькой пещеры света в безбрежный мрак. Утешители ближе придвинулись друг к другу. Пламя факелов прыгало, шипело, выплясывало бесовский танец, издеваясь над лицами, которые оно искажало причудливыми тенями. Бесконечный танец стихий, заключавший в свой круг этих людей, которые шептались под капюшонами… Потом капеллан, собравший их сюда, к церкви Святой Урсулы, тихим голосом приказал им замолчать. Все вошли в тюремную церковь и, стуча зубами, начали читать молитвы.
Выйдя снова во двор, они увидели, что еретик уже здесь и ждёт их. Тусклый свет придавал его хмурому лицу какое-то дьявольское выражение. Казалось, он не ощущал холода. Глаза его горели мрачным огнём. Подле него стояли два монаха-доминиканца и что-то настойчиво шептали ему в уши. За ними — двое из ордена Иисусова[407], два из Новой церкви и один из церкви Святого Иеронима. Они донимали еретика то молитвами, то проклятиями. Один из иезуитов пытался вовлечь его в богословский спор, доказать ему, хотя бы в последний час, его заблуждение. «Один грешник в Барселоне, когда огонь уже сжёг ему половину тела, возопил — и пламя погасло», — привёл он пример позднего покаяния.
Факелы горели теперь уже не так ярко, мерцая жёлтыми и зеленоватыми огнями в первом неясном свете наступавшего утра. Языки пламени, казалось, обессилели, они прыгали и метались злобно, без прежнего веселья.
— Господь Бог был первым Инквизитором, — сказал один из доминиканцев. — Его вопрос Адаму: «Где ты?» — вот одно доказательство. Потом одежда из шкур для Адама и Евы — первая одежда стыда и покаяния. Потеря рая — конфискация имущества еретика… — Он говорил, как будто ни к кому не обращаясь. Вокруг постепенно светлело. Поднялся холодный ветер.
Монах с ястребиным носом, член ордена иезуитов, повторил слова апостола Павла, которыми оправдывали истребление еретиков:
— «Кто не пребудет во мне, тот оторванная ветвь и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают».
Второй иезуит отозвался:
— Никогда не бывает слишком поздно. Ещё есть время.
Бруно неожиданно выпрямился, расправил плечи. Он в эту минуту точно вырос, казался сильнее и красивее. Со смехом ответил он иезуиту:
— Нет, поздно. Я не учитель вам. Я — тот распятый, которому вы поклоняетесь, сами об этом не зная. Я ещё более велик, чем он. Умирая, я завершаю искупление, я приобщаюсь к жизни, которой вам не дано узреть. — На лице его выразилась скорбь. — Когда я рождался, мать ради меня проливала кровь свою. Так и я иду на муки ради того, чтобы другие могли быть счастливы.
Он улыбнулся и начал торопить людей, окружавших его. Зачем они медлят, ведь ветер уже смел с неба последние остатки звёздной россыпи и завывает вокруг разрушенных камней. Холод жалил Бруно так больно, словно на теле его уже открылись раны. Окружающий мир был как соль в этих ранах. Но Бруно улыбался. Душа витала где-то на грани между горечью и упоением.
— Не мне бояться! — произнёс он. — Всё на моей стороне. Всё в мире, кроме вас, бедные слепцы…
Его повели. Мир казался радужным сквозь горькие слёзы. Факелы все струили неровный мертвенный свет и плевали вверх волнистыми лентами дыма. Бруно думал о том, что он ещё увидит утреннюю зарю. Ещё один раз свет, потом — ничего. Останется только имя его, только сила, что жила в нём, что была как боевой клич и как песня любви. Не умрёт вовеки материя и та человеческая энергия, которая будет управлять природой и изгонит торжествующего зверя. «Будут ли моё имя произносить с благодарностью, когда мужчины и женщины узнают новую жизнь на свободной и покорённой земле? Или меня забудут? Это всё равно, ибо то, что я сделал в жизни, прекрасно».
И всё же сердце томила боязнь, что люди забудут его, потому что это значило бы, что нацарапанные в тюрьме строки не поняты, пропали даром. «Нет, не пропадут, не пропадут», — твердил он себе, и сердце его истекало блаженством.
Его вели улицей, ещё безлюдной в такой ранний час. Да, многое свершилось в тот юбилейный год.
Всё тело болело от головы до ног, как будто кости были перебиты. Думали, что у него не хватит сил идти пешком. Но он шёл. Он не хотел, чтобы его везли на смерть в телеге. Особенно мучительно болели плечи, потому что суставы остались вывихнутыми.
После вызова, брошенного им конгрегации, его пытали. Его подвесили на ремнях, и тогда он понял, почему до синевы наливались кровью лица тех людей, которых он видел в Венеции. Но он не кричал. Ему вывёртывали в тисках руки и ноги так, что казалось, будто ломаются кости, но палачи знали своё дело, они до этого не доводили. Ведь Инквизиция предписывала, поскольку возможно, не проливать крови. Если крови не было, пытка не ставилась в вину, точно так же как сожжение официально называлось «наказанием без пролития крови».
Потом его пытали на дыбе. Так продолжалось много дней. Повторять пытки было запрещено, но священники давным-давно изобрели способ обходить это запрещение. Они утверждали, что «продолжать» пытку не значит «повторять» её. И продолжали её до тех пор, пока считали нужным, увещевая при этом еретика не отвергать прибежища неоскудевающей любви Христовой.
Увидев в толпе женщину с незавитыми каштановыми волосами, отливавшими горячим золотом, он вспомнил свою мать, и ему захотелось поближе всмотреться в лицо женщины: неужели привезли мать из Нолы, чтобы она присутствовала при его казни? Но потом он подумал, что этого не может быть: у матери, если она ещё жива, волосы, должно быть, давно поседели. Хотелось верить, что она никогда не узнает, какой смертью умер её сын. Она бы не поняла, и ей было бы тяжело. Он и при жизни никогда не был к ней так добр, как мог бы быть. Вспоминая ликующий вид матери в день его посвящения в сан, он почувствовал к ней острую ненависть.
Мальчишки стали швырять в него камнями, но один из «утешителей», в которого случайно попал камень, сердито закричал на них. Иезуит увещевал Бруно не пытаться противопоставить свой жалкий ум неисповедимым путям Господним. Доминиканец взывал к нему в последний раз, моля не навлекать столь неслыханного позора на их орден. Алебардщики невозмутимо шагали рядом, не обращая внимания на толпу монахов и «утешителей», окружавших еретика. Шедший впереди офицер поглядывал на окна домов, из которых, привлечённые шумом, высовывались женщины с неподобранными косами, спускавшимися на пышную грудь.
Бруно тоже увидел одну из этих женщин — с широким заспанным лицом, с крепкими обнажёнными плечами и толстыми красными губами. Глаза их встретились — взгляд Бруно был пристален, ласков и в то же время рассеян. Он прошёл мимо, не думая о женщине, но где-то в глубине глаз остался образ её пышной плоти. Напряжение, в котором он находился, мешало ему ясно сознавать свои ощущения.
Как он любил жизнь! Эта любовь сверкающей струёй переливалась в нём через край, преображая в золотое царство Рим, предлагавший ему себя в это резкое утро ранней весны. Он думал о полях, покрытых цветами, забыв название того места, куда его вели. Да, Кампо ди Фиори… Он начал кричать, чтобы заглушить голоса «утешителей», певших литанию[408]. Он был теперь весел и горд. Ведь он умирает из любви к жизни. Он слишком высоко ценит жизнь, чтобы загрязнить её ложью. Иезуиты, доминиканцы и все остальные монахи отстали. Только «утешители» окружали его, размахивая факелами.
Он опустил глаза на белый саван, в который его одели. На саване были намалёваны крест Святого Андрея, черти и красные языки пламени. От рисунков пахло свежей краской. Черти были смазаны — все, видимо, делалось наспех. Ярко-жёлтый нарамник качался на груди, камни мостовой ранили его босые ноги. «Утешители» продолжали кричать ему в уши, совать в лицо свои кресты и дощечки. Он сердито оттолкнул один крест и произнёс вслух слова Плотина:
— «Нужна была огромная сила, чтобы вновь соединить Божественное во мне с Божественным во Вселенной».
Он обернулся и начал речь к народу, так как они уже пришли на площадь. Но «утешители» столпились вокруг него. Один из них достал кляп. Двое других держали Бруно, пока ему затыкали кляпом рот и крепко завязывали повязку за ушами. Потом процессия двинулась через площадь. Бруно ощущал под ногами туф, которым было вымощено Кампо ди Фиори. Здесь было легче идти, чем по улицам. Он вертел головой, но повязка не ослабла. Ему не дадут говорить с народом!
Из подозрительных кварталов, расположенных вокруг Кампо, уже сбегались сюда, привлечённые зрелищем, бандиты, воры, нищие, сводники, проститутки. Эшафот был воздвигнут перед домом на углу Кампо и улицы Виколо Балестрари, где кто-то из городских заправил прошлого века поставил каменную колонну с высеченными на ней латинскими стихами. Бруно подтолкнули к тому месту, где сложен был костёр. Под его ногами заскользили сучья. Остро пахло смолой. Его втащили на костёр и связали ему руки за спиной. Потом обмотали его под мышками цепью и прикрепили её к столбу. Он не захотел наклониться и поцеловать одно из распятий, которые «утешители» протягивали ему, и тогда один из них сильно ударил его по лицу деревянной дощечкой, а другой сзади силой наклонил ему голову, чтобы люди думали, что он смирился и принял утешение. Первый «утешитель» громко прокричал, что еретик наконец-то приложился ко кресту.
Бруно нетерпеливо тряхнул головой. Довольные, что их хитрость удалась, оба «утешителя» опять нагнули ему голову и ткнули в лицо дощечку, выкрикивая:
— Он приложился к кресту Спасителя, который умер за него!
Бруно почувствовал, что по его губам и подбородку течёт кровь. Солдаты образовали круг и алебардами сдерживали напор толпы. На крышах домов заблистало солнце. Одно окно пылало мокрым блеском. Бруно почему-то вспомнился рассказ о том, что случилось в Неаполе в год его рождения. Власти тогда начали вводить испанскую Инквизицию, и население восстало. Когда восстание было подавлено, двоих главных зачинщиков сожгли.
Да, только от народа может исходить стремление к братству и справедливости, только народ имеет силу осуществить это.
Он смотрел на всё вокруг, полный любви к миру. Быть может, народ поднимется и спасёт его? Нет, ещё не сегодня. Они ещё не поняли всего до конца. Нет, не он увидит свободу, не эти пришибленные мужчины и женщины. Но придёт день, когда народ разрушит эшафоты и рассеет кровожадных властителей мира…
Запели молитву. Кто-то бросил факел в груду стружек. Всё полили смолой. Смола брызнула на босые ноги Бруно. Пламя заметалось, заплясало. Один из «утешителей», которому дым ударил в лицо, попятился назад и упал. Облитое смолой дерево шипело, трещало, разнузданные фурии огня, бормоча, плясали вокруг человека, прикованного к столбу. Ропот не то жалости, не то жестокого удовольствия раздался из теснившейся перед костром толпы. Дым, переменив направление, чёрной пеленой застилал перед Бруно мир и безумные глаза вокруг. Пламя лизало облитые смолой ноги. Но весь объятый страстным, напряжённым чувством счастья, Бруно едва ли замечал это…
Хронологическая таблица
1548 — родился в местечке Нола, близ Неаполя.
1566–1575 — обучался в монастырской школе доминиканского ордена, где получил сан священника и степень доктора философии.
1576 — обвинён в ереси, отъезд из Италии.
1577–1592 — жил за границей: в Женеве, Тулузе, Париже, Оксфорде, Виттенберге, Праге, Франкфурте. Выступал на лекциях и диспутах.
1577 — публичные лекции в Тулузе о книге Аристотеля «De anima».
1579 — читал в Париже лекции о книге Раймонда Луллия «Великое искусство».
1583 — отъезд в Лондон, там Бруно жил под покровительством французского посланника Мишеля де Шатонеф де ла Мовисьера. В Лондоне написаны все главные произведения Бруно.
1585 — возвращение в Париж.
1586–1588 — чтение лекций в Виттенберге.
1592 — возвращение в Италию по приглашению Мочениго. Жизнь в Венеции и Падуе.
1592
22 мая — Бруно схвачен Инквизицией в Венеции.
1593
Январь — его отправляют в Рим.
1600
17 февраля — публичное сожжение Бруно в Риме на площади Цветов (Кампо ди Фиори).
1865 — Бруно воздвигли памятник в Неаполе за свободу мысли и исследования.
1889
9июня — открыт памятник Бруно в Риме на месте его казни.
Восстание на золотых приисках
Глава 1. Балларат
— А теперь хватит, — сказал мистер Престон. — Чтобы я больше не слышал таких глупых выдумок.
Он сидел на скамье перед ветхой хижиной, которую построил вместе с сыном. Сбоку на протянутой верёвке висели синие рубашки из грубой ткани. В воздухе стоял запах мыла и мокрой одежды.
— Отец, но ведь ты сам сказал… — начал было Дик.
— Мало ли что сказал. Из худа добра не выйдет. Ступай, помоги матери.
Мистер Престон сидел, положив ногу на ногу; выбив трубку о каблук сапога, он плотно сжал губы и окинул взглядом хижину, палатки и шахтные колпаки, теснившиеся по ту сторону долины.
Над колпаками высились похожие на виселицы сооружения, с которых свешивались длинные парусиновые трубы для вентиляции. Глухой деловитый гул доносился с бесчисленных выработок, с речки, где промывалось золото, от сараев и полуразвалившихся складов. Скрип лебёдок смешивался с криками старателей.
Мистер Престон — медлительный мужчина средних лет, с добрым, всегда немного удивлённым лицом, — покачал головой и, повернувшись, посмотрел на сына; затем мысли его снова обратились к вопросу, который беспокоил его даже больше, чем то, что он называл глупыми выдумками. Он не мог решить, остаться ему в Балларате или переехать в один из вновь открытых золотоносных районов. Это его очень тревожило. На его участке как будто совершенно не было золота, но кто знает? Он припомнил все слышанные им рассказы об участках, брошенных отчаявшимися владельцами, где первый же новый старатель, едва копнув землю, находил кучу самородков. Кто знает?..
Вот это-то и сводило его с ума. Может, потеряешь целое состояние, оставив участок, где золота хоть пруд пруди в каком-нибудь дюйме от твоей кирки. Или зря провозишься на участке, которому грош цена, а уйди ты в другое место, и можешь сразу наткнуться на золотоносную жилу.
— Не надо огорчать отца, — сказала миссис Престон, устало разогнувшись, когда Дик подошёл к ней. — У него и так хватает забот. Добыча становится всё меньше и меньше.
— Знаю, мама, — сказал Дик, взяв из рук матери мокрую рубашку и выжимая её. — Я и не хочу его тревожить. Но, право, ты не должна стирать всё сама. Дай я постираю.
Мать стояла рядом с ним, вытирая руки о передник и глядя на сына с улыбкой. Дик принялся тереть бельё о стиральную доску, ласково улыбаясь ей в ответ.
— У тебя тоже усталый и огорчённый вид, — сказал он.
— Ну, я-то в порядке, — ответила она. — У меня не так уж много дела.
— Мама, ты знаешь, что это неправда. Ты ничего не ешь и говоришь, что слишком устала, чтобы есть, и тут же говоришь, что мало работала и поэтому не так голодна, как мы. Просто тебе нужно больше заботиться о себе.
Она вздохнула.
— У нас, кажется, ничего не выходит, Дик. Напрасно мы уехали из Мельбурна.
— Не говори так. Мы ещё разбогатеем.
— А какой прок в богатстве? Мне его не нужно. Я хочу спокойной жизни у себя дома. Но пока мы все вместе и здоровы, я не жалуюсь. — Она сказала это более весёлым тоном. — Теперь скажи мне, Дик, из-за чего весь этот шум? Твой отец так сердится, когда начинает говорить об этом, что мне не хочется его расспрашивать. Но ты, видно, понимаешь, в чём дело.
Дик был польщён таким обращением к нему.
— Что ж, пожалуй, я и впрямь кое-что понимаю. Но только потому, что всё мне объяснил Шейн Корриген. Тут дело не в одних лицензиях. Правительство, видишь ли, ничем не хочет помочь нам, старателям, а ведь страна стала по-настоящему богатеть именно благодаря нам. Она ничего не стоила, пока не нашли золота, а теперь правительство хочет разорить старателей и, что бы у нас ни творилось, зажимает им рот.
— Полагаю, что в советах, которые может дать большинство из них, не слишком много толку, — засмеялась миссис Престон. — И не замечаю, чтоб они были до такой уж степени разорены — разве только те, кому до того не везёт, что они нигде не могут найти золота. Но я не думаю, чтобы твой Шейн и в этом винил правительство. Не так ли?
— Нет, не совсем так, — сказал Дик. Он почувствовал, что потерял нить своих мыслей. Всё казалось таким ясным, когда говорил Шейн Корриген, а теперь почему-то стало тёмным и запутанным. Он покраснел, а мать улыбнулась.
— Я не говорю, что ты не прав, Дик. Но ты не должен ввязываться в дело, которое тебе не по плечу. А теперь спасибо за то, что ты выстирал и выжал бельё. Развесить я его могу и сама. Иди помоги отцу; когда у нас будет на что жить, то найдётся и время, чтобы переделать мир.
— Хорошо, мама, — ответил он.
Он радовался тому, что мать как будто немного пришла в себя и снова стала проявлять интерес к жизни; но было стыдно, что он так плохо объяснил ей положение вещей. Вечная история. Когда отец кричал, что вся эта агитация среди старателей — сплошная ерунда, и не желал даже слышать о ней, Дик проникался уверенностью в правоте старателей, и ему хотелось принять участие в борьбе, которая, по словам Шейна, ещё предстояла. Но стоило матери спокойно произнести несколько слов, как Дик начинал чувствовать себя глупым и неловким, и тогда ему хотелось одного — вернуться в свою шахту и долбить киркой твёрдую жёлтую породу.
Дик положил последнюю выжатую штуку белья и отправился в шахту к отцу. Он шёл по равнине, мимо грязных палаток и убогих хижин из древесной коры или из грубой дранки. Старатели разворотили всю долину. Уцелело только несколько чахлых деревьев да забрызганных грязью полузатопленных кустов. Повсюду виднелась белая и рыжая глина. Вся бугристая долина, окаймлённая холмами, превратилась в настоящую глиняную пустыню. Охваченные золотой лихорадкой, старатели опустошили даже прелестную зелёную лощину, где ещё три года тому назад росли эвкалипты и перечные деревья и журчал прозрачный ручей; теперь всё тут было искорёжено, изрыто и повсюду виднелись только кучи глины.
Но Дика это не трогало. Он был слишком увлечён происходящим, чтобы замечать опустошение или огорчаться из-за него. Он любил суету и шум приисков: там всегда что-нибудь случалось. Сегодня кто-нибудь «отчаливал», на следующий день обрушивалась кровля, и старатель оказывался погребённым под нею. Каждый вновь прибывший приносил с собой рассказы о неудачах, необыкновенном везении, чудесных происшествиях, приключениях с туземцами, с полицейскими, ворами… Дик любил даже неудобства и грязь, вечно портящиеся, наспех сделанные приспособления для добычи золота, любил опасности и тяжёлый труд. Всё это походило на игру.
По мере приближения к прииску шум становился всё громче. Жужжание тысяч работающих и разговаривающих людей смешивалось со скрипом и треском лебёдок, щёлканьем тормозов, стуком бадей, глухими ударами кирок и скрежетом лопат. Жёлтую глинистую почву столько топтали, что она превратилась в трясину. Дик пробирался по доскам, проложенным между кучами пустой породы, в белых и красных потёках грязи.
Отец Дика стоял у границы своего участка размером восемь на восемь ярдов и беседовал с каким-то стариком.
— Мы сняли верхний пласт, — говорил старик, — углубились на двенадцать футов и напали на жилу. Вид был такой, словно смотришь в корзинку с золотистыми имбирными пряниками — так блестело там золото. Но в Маунт-Александер нам уже не так повезло, и мы перебрались в Биг-Бендиго.
— Но какое же место сейчас самое обнадёживающее? — спросил мистер Престон, хмурясь и похрустывая костяшками пальцев, что, как хорошо знал Дик, было у него признаком раздражения.
— В Иглхоке мои дела пошли лучше, — продолжал старик, не обращая внимания на то, что его перебили. — Золото просто блестело в кучах песка, и каждому старателю приходилось сидеть на своей куче с ружьём или пистолетом. Там было столько золота, что впору было делать из него кирки и лопаты.
— Иглхок, вы говорите? — спросил мистер Престон. — Я уж довольно давно собираюсь перебраться в другое место. Здесь мне не везёт. Золота тут, как говорится, и на булавочную головку не хватит. Там вон проходит отличная жила, а у нас одна пустая порода.
Старик оглядел участок и завёл разговор о том, в какую сторону идёт жила. Дик видел, что отец взволнован и готов принять решение двинуться дальше. Хотя Дик ещё недавно радовался предстоящей перемене, несущей с собой весёлое возбуждение, теперь у него пропало желание уезжать из Балларата; ему хотелось остаться и узнать, чем кончится восстание, к которому, по словам Шейна, готовились старатели.
— Поработаем ещё немного на этом участке, — вмешался он в разговор. — Я слышал, как кто-то рассказывал, что наткнулся на богатейшую жилу как раз тогда, когда собирался всё бросить.
— Да, да, — сказал мистер Престон, вновь заколебавшись. Он чувствовал себя несчастным, так как не знал, на что решиться. Прежде чем отказаться от места учителя в Мельбурне, он прочёл всё, что мог достать, по горному делу, но знал, видимо, меньше, чем любой старый золотоискатель из Калифорнии, который не умел даже подписать своё имя.
— Я спущусь вниз, отец, — сказал Дик.
Мистер Престон кивнул головой и направился к вороту. Дик поставил одну ногу в бадью и стал спускаться, держась рукой за канат. Глубина шахты достигала пятидесяти футов, и спуск был утомительно-медленным; заржавевший ворот скрипел и скрежетал, сматывая канат. Свободной рукой и ногой Дик отталкивался от стен, чтобы не удариться; бадья сильно раскачивалась и порой начинала вращаться. Но наконец Дик достиг дна шахты и с трудом вытащил из бадьи сапог, который всегда застревал там под тяжестью его тела. Затем он взял кирку и двинулся вперёд по проходке.
Штольня была недлинная, футов двадцать, но, при глубине в пятьдесят футов, света не хватало, и для освещения с кровли свисали два фонаря. Стены были небрежно забраны досками и корою, под ногами на целый фут стояла вода. Глина засасывала сапоги Дика, сверху на его широкополую шляпу капало, и он слышал, как за обшивкой осыпается земля. Дик поставил на место покосившуюся распорку. Потом, шлёпая по воде, подошёл к Сандерсу — костлявому шотландцу, компаньону Престона, отбивавшему породу при свете фонаря.
— Дело дрянь, вода поднимается.
— Да, придётся нам её вычерпывать, — сказал Сандерс, ухмыляясь и встряхиваясь. Он был так долговяз, что выпрямиться в штольне не мог.
— Вода расшатывает крепления. Если мы не будем следить за кровлей, она обрушится на нас.
— Брось, с кровлей всё в порядке, — сказал Сандерс. Он ничего не имел против того, чтоб копать землю или промывать золотоносный песок, но терпеть не мог возню с креплением и установкой стоек.
Дик решил серьёзно поговорить с отцом насчёт крепления. Все так спешили с проходкой, что пренебрегали простейшими предосторожностями. Вот почему было так много несчастных случаев.
— Лучше нам избавиться от воды, прежде чем двигаться дальше.
— Пусть будет по-твоему, — весело сказал Сандерс. — Я не против того, чтобы вычерпывать воду и ставить распорки, — лишь бы это не заняло много времени. Но в маленькой штольне это ни к чему. — Он показал на блестящую неровную стену, которой оканчивалась штольня. — Посмотри на неё. Кто знает, что там за нею? Может, целый мешок самородков.
— Или ещё куча глины, — ответил Дик, который был полон надежд, как Сандерс, но считал долгом охлаждать пыл слишком нетерпеливых взрослых.
— Что ж, всякое бывает, — согласился Сандерс, нащупывая у себя в рубашке жевательный табак.
Они вернулись к началу штольни, и Сандерс дал сигнал, чтобы его подняли наверх. Затем он спустил вниз кожаное ведро, и Дик принялся вычерпывать жёлтую воду, выливая её в железную бадью, подвешенную к канату. Штольня шла под уклон, так что дно шахты было вскоре осушено; Дику пришлось ходить взад и вперёд по штольне, продолжая вычерпывать воду. Штольня была вырыта неправильно, но мистер Престон считал, что золото можно находить только в нижних пластах, и потому проходка велась с уклоном вниз. Сандерс отказался выровнять штольню, ибо в этом случае пришлось бы заново крепить кровлю.
Вычерпывать при тусклом свете фонаря воду из проходки, где воняло глиной и корой, было довольно нудным делом, но Дику это нравилось. Он что-то напевал, спускаясь и поднимаясь по скользкому подземному проходу. Приходилось быть осторожным, чтобы не упасть: стоило схватиться рукой за одну из стоек, как кровля могла бы обрушиться.
Дик пел, потому что жизнь была захватывающе интересна. Он чувствовал, что на его плечах лежит ответственность за семью и золотоносный участок, не говоря уже о проблеме старательских прав; но это бремя его не тяготило. Дик часто спрашивал себя: что случится, если он перестанет следить за тем, чтобы мать не переутомлялась, отец не следовал советам каждого первого встречного, а Сандерс своей небрежностью не довёл шахту до полного разрушения? А ведь, кроме этих важных дел, ему надо было ещё выяснить поднятые Шейном вопросы о положении в стране.
Но всё это входило в игру. Он стал тихонько насвистывать.
Глава 2. Шейн Корриген
Шейн работал неподалёку на участке, владельцы которого приняли его в компанию, предложив небольшую долю. В течение последних трёх лет он бродил с одного прииска на другой, собирая золотой песок в спичечные коробки, а затем снова всё растрачивал. В 1851 году он служил палубным матросом на судне, но дезертировал, как только это судно прибыло в Порт-Филипп.
— Я был не единственным. Вся команда ушла. А если хотите знать, то и сам капитан тихонько посмеивался себе в бакенбарды. Я слышал, каким тоном он сказал, что ему не найти людей для новой команды, — впрочем, так оно и было, — а затем и сам отправился искать золото.
Дик знал, что в этом рассказе не было ничего невероятного.
Когда было найдено золото, все словно сошли с ума. Отец Дика, учительствовавший в Мельбурне, бросил работу и направился в Джилонг, но из-за своей нерешительности упустил момент, когда золото добывали диким способом, прямо на поверхности. Из Джилонга Престоны перебрались в Балларат. Иногда им везло, но за этим следовали недели, когда удавалось намыть всего несколько песчинок. Неудивительно, что мистер Престон был обескуражен. И всё же у него не хватало решимости всё бросить. Всякий новый рассказ про удачную находку, самородок или богатую жилу вселял в него новые надежды.
Дику нравилась бродячая жизнь, и всё же иногда он чувствовал, что здесь что-то не так; это бывало, когда они с отцом возвращались домой усталые и с пустыми руками, а в жалкой хижине-палатке их встречала миссис Престон и кормила скудным обедом, отдающим дымом сухой травы.
Но, слушая старателей, которые пели вокруг костра под аккомпанемент варгана[409], он сразу забывал все несчастья, а рассказы старых золотоискателей о Калифорнии увлекали Дика не менее, чем его отца.
Восхищали и рассказы Шейна. Шейн был ещё молод, ему недавно перевалило за двадцать, и пятнадцатилетнему Дику было лестно иметь такого друга. Шейн, казалось, объездил весь свет: в Южной Америке он сражался, в Китае играл в азартные игры, в Сан-Франциско вербовщики напоили его допьяна и отправили в плавание, потом на голландском судне он занимался ловлей жемчуга. И вот теперь, как только кончится работа, он должен встретиться с Диком.
— Завтра после обеда постарайся освободиться, мальчуган! — сказал Шейн, таинственно подмигивая и кивая головой.
— Хорошо, — ответил Дик. — Надеюсь, отец не рассердится, если я разок устрою себе праздник. А в чём дело?
— Да ведь тебе уже всё известно, — сказал Шейн своим мягким, проникновенным, характерным для ирландца голосом, в котором чувствовался оттенок насмешки. — Будто ты не слыхал, как гнусно вела себя полиция в деле Бентли, этого подлого убийцы, которого покрывает двурушник и предатель судья Дьюс? — Его голубые глаза злобно сверкнули. — Ну-ка попробуй скажи, что ты жалкая гнида и вся эта мерзость не приводит тебя в бешенство! Но, Дик Престон, возможно, будут беспорядки. Так что, мой дорогой, лучше не ходи, если боишься за свою драгоценную шкуру. Мы обязательно накостыляем им шею и выставим отсюда, так и знай.
— Кто? Почему? — спросил Дик. Он знал, что шотландцу Скоби проломили голову, когда тот стучался в двери ресторана гостиницы «Эврика» после его закрытия на ночь; впрочем, отец Дика одобрял судью, который прекратил дело, сказав, что пьяницам так и надо.
— Да ну тебя! — И Шейн дал ему дружеского пинка. — Ты просто струсил.
— Ничуть, — горячо возразил Дик. — Я, конечно, пойду с тобой. Мне бы только хотелось побольше узнать об этом.
— Да, но сумеешь ли ты постоять за себя? — Склонив голову набок, Шейн взглянул на него проницательными смеющимися глазами. — Да падёт стыд на мою голову за то, что я сбил с правильного пути мальчика, которому следует сидеть дома и учить уроки возле маминой юбки.
— Ты отлично знаешь, что я могу постоять за себя, — сердито ответил Дик. — Я пойду с тобой.
— Конечно, дело не в том, заслужил Скоби то, что получил, или получил то, что заслужил, — сказал Шейн. — Хотя он шумел ничуть не больше, чем обычно шумит человек, когда на него вдруг нападёт охота промочить глотку. Но ложь и жульничество вывели ребят из терпения. Этот каторжник Бентли, отпущенный с Ван-Дименовой земли, орудует на пару с судьёй Дьюсом, словно оба они — воры из одной шайки. Да, правительство всё больше и больше позорит себя и с каждым днём всё сильнее теснит нас, бедных старателей, из-за лицензий. Живому человеку такого не стерпеть. — Он сплюнул. — Это тирания, вот что, мой храбрый дружок, и никакой ирландец не станет с этим мириться.
— Англичанин также, — решительно поддержал Дик, хотя и сам не вполне понимал, что он этим хочет сказать.
— Жму твою руку, — примирительным тоном сказал Шейн и крепко стиснул руку Дика. — Да, ты парень неплохой, только соображаешь медленно. Но когда ты вырастешь, это пройдёт.
Дик уже собирался возмутиться, но заметил весёлый огонёк в глазах Шейна и только рассмеялся.
— Итак, долой тиранию! — сказал Шейн.
— Долой тиранию!
Они оба засмеялись.
— Хватит ли у нас времени, чтобы сыграть в кегли до темноты? — спросил Шейн.
— Только не сегодня, — сказал Дик. — Я хочу помочь матери.
— Пай-мальчик. Правильно, я и сам пойду и помогу тебе стирать бельё.
Непринуждённо обняв Дика за плечи, он отправился в его хижину. Дик гордился своим рослым рыжим другом, у которого было такое приятное ирландское лицо.
— Вы больше палец о палец не ударите, миссис Престон, — сказал Шейн, когда они вошли в хижину. — Мы с Диком покажем вам для разнообразия, как надо управляться с домашними делами. Добрый вечер, сэр.
— Добрый вечер, — пробормотал мистер Престон, который при свете чадной керосиновой лампы пытался изучать руководство по горному делу. — Надеюсь, вы отвыкаете от ваших буйных ухваток. Пора, пора.
— Честное слово, — сказал Шейн, — я стал таким смирным, что почти всё время только и делаю, что слушаю, как мухи летают. Интересно, чем объясняют учёные люди, вроде вас, что, когда становится очень тихо, мы всегда слышим, как летают именно мухи?
Мистер Престон хотел нахмуриться, но не сумел.
— Ты дурень, Шейн Корриген, — ласково сказал он. — Но веди себя как следует и будешь хорошим парнем.
— Ты только послушай! — Шейн повернулся к Дику с деланным изумлением. — Он же слово в слово сказал то, что я сам всегда говорю! Рад слышать, что мистер Престон согласен со мною. Если миссис Престон дозволит взглянуть на её очаг, я научу её всему тому, чему сам научился, когда был коком на борту «Мэри Уилкинс» — бригантины водоизмещением в сто четырнадцать тонн. Ничто так не способствует развитию кулинарной мысли, как куча голодных моряков, которые толпятся вокруг тебя с ножами и вилками, и особенно если дело происходит посреди океана.
Мистер Престон покачал головой и, склоняясь к керосиновой лампе, вновь погрузился в чтение, продолжая наживать головную боль. В то же время Шейн приступил к приготовлению обеда, одновременно давая советы по части кулинарии под открытым небом. Дик пришёл в восторг, видя, что мать, хотя и считает в душе влияние ирландца вредным для своего сына, всё же не может устоять перед его непринуждёнными манерами.
Глава 3. Беспорядки у гостиницы Бентли
Назавтра около полудня, оставив Сандерсу записку для отца, Дик улизнул из шахты. Ему было стыдно, что он не поговорил прямо с отцом, но, хотя он и знал, что отец отпустит его с работы, мысль о пререканиях, которые неизбежно возникнут из-за этого, была ему невыносима. Да кроме того, Дик и сам ещё не решил, как отнестись к происходящим событиям.
Не принимая всерьёз всего сказанного Шейном, Дик тем не менее понимал, что у старателей есть достаточно оснований для недовольства. Составляя большинство населения Виктории, они не имели права голоса в политических делах. Из двухсот тысяч человек участвовать в выборах не мог ни один. А вот налог в тридцать шиллингов должен был ежемесячно платить каждый старатель. И хотя против самого налога никто особенно не возражал, но бесчеловечное поведение полиции при поисках неплательщиков вызывало бурные протесты.
Шейн ходил взад и вперёд по жёлтой глинистой площадке между кучей породы и надшахтным сараем.
— Разрази меня гром! — воскликнул он. — Наконец-то ты явился. Вот уже добрых полчаса ноги сами тащат меня отсюда, так что мне пришлось бегать взад и вперёд, чтобы только угомонить их.
Они отправились к холму Спесимен, где стояла гостиница «Эврика». Владелец её, Бентли, открыл при гостинице кегельбан, всегда имел в запасе несколько колод карт для игроков, — словом, лез из кожи вон, чтобы привлечь посетителей в любое время дня и ночи. Но, когда явился Скоби и принялся барабанить в дверь, Бентли почему-то был не в духе. Он выскочил и, как рассказывали Дику, свалил Скоби ударом топора, выкрикивая: «Прекрати этот шум, болван, и дай мне спать!»
У подножия холма Шейн и Дик влились в поток старателей, направляющихся к месту сборища. Лощина Спесимен была заполнена людьми, твёрдо решившими выразить свой протест.
В основном тут были англичане и ирландцы с небольшой примесью шотландцев и валлийцев, но встречались также группы немцев, французов, американцев и итальянцев; многие были в лохмотьях, измазанных глиной, которая преследовала их всюду — на работе, во время отдыха и сна; другие были одеты чисто, в куртках из саржи и молескиновых брюках; одни пришли с непокрытыми головами, другие — в широкополых шляпах или головных уборах из пальмовых листьев.
Дик начал понимать, что всё это куда серьёзнее, чем можно было судить по болтовне Шейна. Только подлинное сознание несправедливости могло собрать воедино такую массу старателей.
Шейн и Дик долго толкались в задних рядах толпы. Кто-то говорил, взобравшись на пень, но до них доносились только отдельные слова, сопровождаемые глухим рёвом собравшихся. Наконец им удалось пробраться поближе, и теперь они уже лучше видели ораторов. Молодой человек с серьёзным загорелым лицом произносил речь. Рядом стоял крепко сложенный голубоглазый шатен, лет двадцати пяти, больше шести футов ростом, с густыми широкими бровями. Он-то и привлёк к себе внимание Дика.
— Кто это стоит у пня? — спросил он.
— Это Питер Лейлор, — ответил Шейн. — А другой — Хэмфри.
— Мы взываем только к конституционным принципам! — кричал Хэмфри, и чем больше он волновался, тем чаще попадались в его речи обороты, свойственные жителям Уэльса.
— Мы добиваемся только справедливости. Мы требуем, прежде всего, права голоса в делах управления. Пока мы его не получим, как с рабами будут с нами обращаться. Пока мы не станем сильны, никакое правительство не будет считаться с нашими интересами. По горам и долам гоняли нас. Преследования, обиды и оскорбления терпелимы от чинодралов, с нами обращались как с подонками общества, — а подумайте только о том, что мы сделали для этой страны.
В толпе поднялся тихий глухой ропот, подобный песне надвигающейся бури, которая звучит в листве деревьев. Дик вздрогнул. Нельзя было не испугаться этих звуков, говоривших о силе, спорить с которой так же невозможно, как с бурей, а между тем этот Хэмфри своими словами сам её поднимал.
— За последние три года Виктория превратилась из жалкой скотоводческой дыры в процветающий штат. Сделали это мы! А нам за это что? Пренебрежение, пощёчины, гнёт! Но мы уважаем закон. Мы хотим законности и порядка. Мы хранили молчание, хотя иной раз гнев закипал в наших сердцах от наглости тех, кто поставлен над нами. Мы столько терпели, сколько может терпеть свободный человек, даже больше.
Коренастый лысый мужчина вскарабкался, держась за плечо Лейлора, на пень, где уже стоял Хэмфри.
— Да, всё это правда, ребята. Мы терпели слишком долго. То, что случилось теперь, выходит за всякие границы. Если мы и на этот раз подчинимся, — значит, мы самые презренные из рабов. Убийца отпущен без суда, потому что судья у него в долгу. Так и знайте, ребята, — тень моего старого дружка Скоби глядит на вас и требует справедливости. Мы должны стоять друг за друга и брать силой то, чего нам не дают по доброй воле.
Толпа гневно заревела. У Дика мурашки пошли по коже от страшного предчувствия. Он всё ещё не совсем понимал происходящее, но и его увлекли призывы ораторов. Он чувствовал, как Шейн, стоявший подле него, весь напрягся и даже охнул от восхищения, вызванного новым оратором, и от непреодолимого желания что-нибудь сделать. В сердце Дика рождался тот же порыв. Он знал теперь, что так говорить можно только правду.
— Кеннеди — парень что надо, — сдавленным голосом сказал Шейн. — Чего бы я не дал, чтобы пожать ему сейчас руку! Или съездить по морде одного из этих легавых! Клянусь всеми святыми!
Хэмфри поднял руку и продолжал прерванную было речь:
— Никаких насилий, ребята! Мы подняли знамя возмущения и, клянусь богом, не опустим его. Да, не опустим, пока правительство не предоставит нам наших прав. Но не давайте им повода отговориться тем, что мы, мол, шайка бунтовщиков. Только этого они и хотят. Не играйте им на руку, прибегая к насилию. Соблюдайте дисциплину. Мы здесь для того, чтобы выразить протест против судьи, продавшего свой приговор, и собрать деньги на борьбу с этой продажностью.
Маленький рыжеватый человечек с подстриженной бородкой всё время подпрыгивал, стоя возле Лейлора, словно ему не терпелось выступить самому и в то же время жаль было прерывать оратора.
— Это Рафаэлло, — шепнул Шейн.
Человечек повёл мохнатыми бровями; в глазах у него сверкало яростное веселье.
— Раскошеливайся, ребята! — закричал он, когда Хэмфри сделал паузу. — Выверните ваши карманы ради святого дела свободы.
— А ты сам что даёшь? — шутливо отозвался один из старателей.
Рафаэлло принял эти слова как оскорбление.
— Всё! — воскликнул он, сверкая глазами. Он схватился за карманы брюк и вывернул их наизнанку, рассыпав монеты по земле. — Вот! — Он рванул рубашку и вытащил три банкноты. Помахав ими, он подбросил их в воздух. Затем, внезапно став серьёзным, повелительно поднял руку. Наступило молчание. — И мою жизнь в придачу, если понадобится!
— Ай да старина Раффи! — закричали старатели.
Хотя участники митинга были сильно возбуждены, но настроение у них было добродушное, и они соблюдали порядок. Ораторы сумели разжечь старателей и в то же время держали их в руках. Глаза Дика снова устремились на молодого великана Питера Лейлора, который стоял в непринуждённой позе возле пня и прислушивался к словам сначала Хэмфри, потом Кеннеди и наконец Рафаэлло. Его привлекательное подвижное лицо светилось гордой решимостью, и он явно руководил собранием, хотя сам ничего не говорил.
— Ты знаешь Лейлора? — спросил Дик у Шейна. — То есть знаком ли ты с ним?
Малость знаком, — ответил Шейн. — С ним все знакомы. Он не прячется от людей.
— Ты познакомишь меня с ним?
— А зачем тебе это? Просто подойди к нему после митинга и скажи: «Питер Лейлор, я хочу примкнуть к вашему движению, потому что, как и вы, свободу я люблю». Он тут же пожмёт тебе руку, даром что ты самый обыкновенный паренёк.
— Нет, я хочу, чтобы ты познакомил меня с ним.
— Ладно, — сказал Шейн, хлопнув его по плечу. — Я скажу ему, что ты сам не мог с ним познакомиться, потому что застенчив как барышня.
— Нет, нет! — запротестовал Дик.
— Ш-ш, — успокоительно сказал Шейн. — Эх ты, шумливый щенок, ты что, решил перекричать ораторов?
Теперь на пне стоял какой-то немец, который громил продажность правительственных комиссаров и чиновников, спекулировавших землёй; но Дика не интересовали его неистовые крики. Он посмотрел в сторону гостиницы, перед которой выстроился отряд полиции. Офицер, командовавший отрядом, — молодой англичанин, с правильными, аристократическими чертами лица, — небрежно сидел на лошади, со скучающим и презрительным видом наблюдая за толпой.
— Взгляни-ка на этого красавчика, — сказал Шейн, подталкивая Дика. — Как бы мне хотелось сбить с него спесь!
Они с Диком повернулись и стали пробираться к гостинице, где старатели, до которых не долетали речи ораторов, говоривших с пня, развлекались насмешками над полицией. Подойдя к гостинице, Дик заметил в одном из окон верхнего этажа белобрысого человека со светло-серыми глазами. В этих светлых глазах тускло мерцала такая ненависть, что Дик вздрогнул и схватил Шейна за руку.
— Это Бентли, та самая крыса! — закричал Шейн и нагнулся в поисках метального снаряда. Но на дороге не было камней, и поэтому он швырнул в окно свою палку. Стекло разбилось, и белесое лицо исчезло. Среди стоявших поблизости поднялся ропот. Они подхватили крик Шейна.
— Там Бентли! Давайте его сюда! Давайте сюда этого каторжника!
Дик увидел, как, спотыкаясь, по ступенькам крыльца сбежал человек, волоча правую ногу, словно она была повреждена. При виде его бледного лица с безумными глазами толпа завопила: «Бентли!»
Бентли кинулся к небрежно сидевшему на лошади офицеру, и тот выслушал его с тем же презрением, с каким смотрел на Лейлора. Затем офицер, внезапно выпрямившись в седле, быстро подал команду, и полицейские двинулись вперёд, через дорогу. Один из конников соскочил с лошади и помог Бентли взобраться в седло. Старатели пустили в ход весь свой запас ругательств, обзывали Бентли трусом и вонючкой. Бентли, без куртки, но в шляпе, наспех нахлобученной на лоб, яростно рванул поводья и, повернув коня, поскакал галопом по дороге.
Толпа ринулась к цепи полицейских. Юный офицер, повернувшись с ленивым презрением, отдал отрывистую команду, и полицейские взяли винтовки на изготовку.
— Соблюдайте спокойствие! — кричали Лейлор и человек, которого звали Мак-Интайр.
Толпа отхлынула назад.
— Он поскакал в правительственный лагерь, — сказал Шейн.
— Да, — подтвердил человек, стоявший рядом с ним. — Должно быть, чтобы привести подкрепление. Ну что ж, пусть-ка сунутся ко мне. Берусь справиться с двоими.
Другой мужчина взобрался на пень, не обращая внимания на попытки Лейлора и других вожаков успокоить его.
— Кто это? — спросил Дик.
— Не знаю, — ответил Шейн.
— Это брат Скоби, — сказал маленький коренастый старатель из Уэльса, стоявший рядом с ними.
— За солдатами небось кинулся! — кричал человек, взобравшись на пень. — Этот вандемонский бездельник, убийца моего бедного брата! Он кинулся за своими сообщниками! За судьёй Дьюсом, которого можно купить и продать; за доктором Карром, который, если его подмазать, поклянётся, что чёрное — это белое; за комиссаром Ридом, который лжёт и клевещет на нас, забыв всякий стыд. Как сказал мой друг Кеннеди, тень моего убитого брата сегодня здесь с нами. Он смотрит на нас своими мёртвыми глазами. Его кровь вопиёт из земли. Это кровь Авеля — почти такая же древняя, как само время, и она всё ещё вопиет к нам.
Толпа орала и бесновалась, и нужен был только вожак, чтобы повести её за собой.
Шейн снова принялся искать камень, но ничего не нашёл.
— Можешь ты где-нибудь найти камень? — серьёзно спросил он Дика. — Чёрт возьми, у меня до того руки чешутся, что я просто лопну, если не раздобуду камня.
Дик пытался помочь Шейну. Но вокруг была такая давка, что он видел у себя под ногами лишь клочок земли и — ни одного камешка.
— Мне необходимо что-нибудь швырнуть, — не унимался Шейн. — Проклятие, Дик Престон, какая жалость, что ты упрямишься и не желаешь дать мне взаймы свою голову, чтобы разок запустить ею.
Он принялся шарить по карманам и вытащил большие подержанные часы.
— Придётся пожертвовать ими ради доброго дела, — сказал он и поцеловал их. — Сейчас около половины третьего, если учесть, что они спешат минут на сорок. — Затем, тщательно прицелившись, он запустил часами в большой фонарь, висевший на цепи перед входом в гостиницу.
Фонарь разлетелся вдребезги, и град осколков осыпал полицейских. Одному из них порезало щёку.
Толпа радостно загудела. Люди бросились вперёд, сметая с пути полицию. Начальник караула Эймс — человек, которого старатели уважали за справедливость, — встал в дверях и старался перекричать толпу. Но его оттолкнули, и старатели ринулись в гостиницу, ломая по пути мебель. Перила лестницы с грохотом обрушились. Какой-то старатель схватил перекладину и начал размахивать ею, стараясь разбить лампы. В буфете били бутылки. Дик, которого толпа увлекла за собой, заметил, что несколько мужчин, слив виски из бутылок в ведро, пустили его потом по рукам. Гостиница была разгромлена.
Дик и Шейн с трудом выбрались на улицу; им хотелось увидеть, что происходит на дороге. Полиция выстроилась на обочине. Юный офицер пригнулся к шее лошади, слушая, что ему говорит начальник караула Эймс; впрочем, он по-прежнему был ко всему равнодушен. С каждым мигом толпа росла. Добрых десять тысяч старателей теснились и кричали на холме. Бегство Бентли через прииски привлекло сюда почти всех мужчин, желавших разнюхать, чем тут пахнет.
— Солдаты!
Наступило молчание. Шейн схватил Дика за руку и указал на долговязого парня, ирландца с виду, который шёл вразвалку к концу кегельбана, держа в руках охапку бумаг и тряпья. Толпа следила за ним затаив дыхание. Дойдя до наветренного конца кегельбана, парень свалил свою ношу под холщовым навесом и не спеша чиркнул спичкой. Дик взглянул на молодого офицера, который, сидя на лошади, через головы толпы следил за происходящим. Офицер медленно поднёс руку к кобуре револьвера, но затем, пожав плечами, наклонился вперёд и похлопал лошадь по шее.
Бумага вспыхнула, пламя побежало по кегельбану, и холст загорелся. Ветер быстро погнал языки пламени к гостинице. Толпа снова стала вопить и стучать ногами, и этот шум слился с рёвом огня. Солдаты, присланные из лагеря после того, как туда примчался перепуганный Бентли, уже въезжали в лощину Спесимен, но спасти дом было невозможно. Он весь был охвачен пламенем.
Чёрная тучка появилась над чёрным холмом и пролила несколько крупных капель дождя; но огонь, достигший теперь крыши, вырвался из-под конька, и золотой его венчик, словно в дикой пляске, метался над столбами дыма. Затем ветер вдруг утих, и крыша провалилась со страшным грохотом.
Глава 4. Свалка
Дику захотелось выбраться из этой неразберихи. Теперь, когда гостиница сгорела, у старателей пропала всякая решимость; им больше нечего было делать, и они растерялись. Солдаты оттеснили их назад и усердно старались не допустить распространения огня. Военный в форме старшины громким голосом, тонувшим, однако, в общем шуме, читал закон о мятежах. Дик понял всё же, что старшина именем королевы приказывает толпе разойтись.
— Это мерзавец Мильн, — сказал Шейн. — Чтоб у него язык сгорел!
Старатели, охваченные гневом, который не находил выхода, то топтались на одном месте, то начинали наседать на солдат, и вскоре неподалёку завязалась драка. Дика оттеснили от Шейна. Сперва он отчаянно боролся, а потом решил, что лучше всего поскорее убраться отсюда. Пуская в ход кулаки, локти и колени, Дик выбрался наконец на свободное место. Он стоял, тяжело дыша, полный решимости уйти домой, как только сообразит, где легче пробраться сквозь толпу.
Но тут он услышал чьи-то крики и узнал голос Шейна. Он снова нырнул в толпу и протолкался сквозь неё как раз вовремя, чтобы увидеть, как Шейна тащили сквозь ряды полицейских; лицо Шейна было разбито и окровавлено.
— Надеть наручники на это животное! — сказал офицер холодным, равнодушным голосом.
Полицейские поспешно защёлкнули наручники на запястьях Шейна. Стоявшие поблизости старатели возмущённо закричали и бросились вперёд, но, испугавшись при виде направленных на них ружей, остановились.
— Освободим его! — завопил Дик. — Вперёд!
Толпа угрожающе двинулась на полицейских, Дик споткнулся и, наклонившись, увидел у себя под ногами большую почерневшую головню. Он поднял её, размахнулся изо всех сил и метнул в лейтенанта. Головня угодила тому прямо в живот. Лейтенант громко замычал от боли, скорчился и рухнул с лошади на землю. Лошадь встала на дыбы, а затем рванулась вперёд, смяв ряды полицейских. Те отпрянули, чтобы избежать копыт напуганной лошади, и лишь немногие, бросив винтовки, кинулись на помощь упавшему офицеру. Дик, в сопровождении десятка наиболее смелых старателей, напал на полицейских; началась ожесточённая свалка. Добравшись до лошади, Дик схватился за повод и повернул её туда, где стоял в наручниках Шейн. Тот воспользовался сумятицей и вырвался из рук державшего его фараона. Следя за движениями Дика, он ринулся вперёд и встретился с ним в небольшом пространстве, которое очистили испуганные лошадью полицейские. Люди, возившиеся с потерявшим сознание офицером, заслоняли Дика и Шейна от выстрелов, но нельзя было терять ни минуты. Один из полицейских, гнавшихся за Шейном, налетел с размаху на группу, занятую спасением офицера, и с руганью растянулся на земле.
— На коня! — закричал Дик.
Шейн отчаянно пытался взобраться на лошадь, но та всё ещё брыкалась, а наручники делали задачу особенно трудной. Дик вскочил в седло и, нагнувшись, втащил Шейна на загривок лошади, так что его голова и руки болтались по одну сторону, а ноги — по другую. Старатели, сообразив, что задумал мальчик, расступились. Дик ударил ногами в бока лошади и поскакал.
Люди с приветственными криками тут же сомкнули ряды; а когда полицейские, оттащив в сторону раненого офицера, отбили натиск старателей, Дик уже отъехал на несколько сот ярдов, и густая толпа отделила его от полиции.
Как ни плотно стояли старатели, они расступились перед Диком, и он нёсся галопом, пока не достиг первых палаток на равнине. Там он остановил лошадь, соскочил с неё и стащил Шейна, ухватившись за пояс его молескиновых штанов. От неудобной езды у Шейна кружилась голова, и он стоял, держась за седло и моргая.
Поблизости в это время никого не было, так как все старатели собрались возле гостиницы. Лишь неопрятная женщина вышла из ближайшей хижины и окинула их безразличным взглядом.
— Спрячь наручники, — сказал Дик.
— Куда, к чёрту, я их спрячу, — ответил Шейн, вращая глазами. — Пусть у меня кровь отхлынет от головы, и тогда я соберусь с мыслями. Не забудь, что я ехал вниз головой и всё время боялся, как бы дорога не поднялась и не стукнула меня по башке.
Он зашатался и опёрся о Дика, затем с сожалением посмотрел на наручники.
— Куда бы мне спрятать эти проклятые штуки? В один брючный карман обе руки не засунешь, а пиджак я оставил дома. Я мог бы воздеть руки к небу и сделать вид, что молюсь, но не привлечёт ли это взоры человечества ко мне, бредущему по стезям грешного мира сего?
— Подожди минутку, — сказал Дик. — Вон там валяется старый мешок.
Он отошёл в сторону и поднял рваный мешок, затоптанный в грязь. Затем набросил мешок на наручники, чтобы казалось, будто Шейн несёт его обеими руками.
— Эта изящная поза скорее подошла бы застенчивой барышне, нежели мне, Шейну Корригену из Корригена в баронетстве Кильмарни, — сказал Шейн. — Впрочем, принимая во внимание обстоятельства, это всё же лучше, чем получить по физиономии.
— Ладно, сегодня нам с легавыми воевать не придётся, — сказал ему в утешение Дик и, ударив лошадь по крупу, послал её по той же дороге, по которой они приехали.
— Точно! — сказал Шейн. — Они все на холме и веселятся на тамошней ярмарке. Но как нам снять эти дрянные штуки?
— У нас дома есть напильник. Пошли быстрее!
Они торопливо зашагали по направлению к дому, выбирая безлюдные тропинки и беседуя.
— Напильник — это вещь, — согласился Шейн. — Но он поднимет такой визг и скрежет, что покойники проснутся. Да что там, приличные покойники — это ещё полбеды. А вот легашей или каких-нибудь косоглазых доносчиков, будь они трижды прокляты, я предпочёл бы не будить.
— Вот что я тебе скажу, — ответил Дик. — Я спущу тебя в нашу шахту. Там, конечно, прекратили работу, когда начались беспорядки. А потом я спущу тебе напильник, и, если ты отойдёшь подальше в штольню, никто ничего не услышит.
— Эта мысль ниспослана небом, — сказал Шейн. — Если не считать того, чтобы я сам распилил свои наручники. Чем мне держать напильник? Мне бы не хотелось зубами, потому что тогда я так наточу их, что превращусь в тигра.
— Ну так я убегу после обеда и сам буду пилить. А сейчас лучше всего спустить тебя в шахту.
Они прокрались к шахте, прячась за сараями и кучами породы. Насколько они могли судить, все старатели до единого ушли на холм Спесимен. Одни лишь китайцы не вмешивались в это дело и продолжали вынимать столбы из заброшенных выработок и промывать золото вдоль берегов Яррови. Но оттуда, где они работали, участок Престона не был виден.
— Приходи поскорее, — сказал Шейн, — потому что я насквозь отсырею до наступления ночи.
Глава 5. Наручники
С помощью ворота Дик спустил Шейна в шахту, а сам отправился домой. Миссис Престон стояла на пороге, но она смотрела в направлении холма, где происходило сборище, и не услышала шагов Дика; ему пришлось сделать круг, чтобы зайти на шахту, и теперь он подошёл к дому с противоположной стороны.
— Ты невредим! — вырвалось у неё, когда сын её окликнул. — Мы так беспокоились. Отец ушёл в лощину Спесимен.
— Я могу и сам за собою присмотреть, — сказал Дик. — Мы с Шейном пошли туда только узнать, что там происходит.
Мать недоверчиво взглянула на него, и Дик увидел, что она плакала.
— Я бы не хотела, чтоб ты говорил мне неправду, Дик, — сказала она.
Дику стало не по себе, хотя, в сущности, он сказал правду. Ему захотелось рассказать матери обо всём, что произошло, но, когда он уже раскрыл рот, оказалось, что говорить ему не о чем; а между тем можно было рассказать так много, — если б только у него нашлись нужные слова.
Он не знал, правы ли были старатели, что подожгли гостиницу, но ему казалось, что поджог сам по себе не имел большого значения. Имело значение то, что говорили ораторы; но когда Дик пытался припомнить, что именно они говорили, на память приходило только слово «Свобода», строгое, загорелое, подвижное лицо Лейлора и страстный, напряжённый энтузиазм толпы, её глубокая решимость сделать жизнь свободной и справедливой.
Но какими словами рассказать обо всём этом? Даже если старатели поступили неправильно, всё же стремились они к справедливости. В них пробудилось нечто, придавшее им решимость упрямо, отчаянно сопротивляться всему, что, по их мнению, было несправедливо и деспотично.
Дик понимал: пережитое им в толпе было необыкновенно важно, а всё остальное не имело никакого значения. Но он ещё не мог этого выразить. Так что, по сути дела, он не солгал матери. Ему просто не хватило слов.
— Я был только одним из многих в толпе, — добавил он, словно этим было всё сказано. Он гордился тем, что оказался в числе старателей, гордился больше, чем надменный молодой лейтенант своими золотыми галунами и непринуждённой посадкой в седле.
— Как ты напугал отца! — сказала миссис Престон. — Ты поступил необдуманно, Дик. Он будет повсюду искать тебя там.
Дику хотелось раздражённо ответить, что пусть они не обращаются с ним, как с маленьким ребёнком, который не способен позаботиться о себе. Но он не мог обидеть мать, да и отца тоже. Когда мистер Престон вернулся запылённый и усталый, Дик молча выслушал длинный выговор. Он чувствовал, что заслужил его, но в то же время ни о чём не жалел. Сразу же после ужина он поспешил с напильником к шахте. Там он вдвое удлинил канат, намотанный на ворот, и бросил один конец Шейну. Потравливая канат, Шейн спустил бадью с Диком.
— Я так дрожал от холода, — сказал Шейн, — что боялся, как бы не попадали твои стойки и меня не завалило породой. Какое счастье услышать твой ангельский голосок, Дик Престон, а если ты захватил огарок свечи, то меня ожидает ещё и дополнительное блаженство при виде твоего ангельского личика; кроме того, можно будет наконец выяснить, не отвалились ли отмороженные части моего тела.
Дик не догадался взять с собой свечи и не мог найти в темноте фонарь. В кармане у Шейна были спички, и Дик достал их; но, сидя в шахте, Шейн прижал коробок к сырой глине, и теперь спички не зажигались.
— Неважно, — сказал Дик. — Я с таким же успехом поработаю напильником и в темноте.
— Не сомневаюсь. Но с тебя станется, что ты при этом отпилишь что-нибудь и от меня. Впрочем, придётся рискнуть. Только пили поосторожнее, и если я заору благим матом, сперва прекращай работу, а потом уж задавай вопросы.
Дик взялся за наручники и начал пилить. Темнота очень замедляла работу. Дик всё должен был помнить о том, что напильник может соскользнуть с закруглённого металлического края наручника и поранить Шейна, а невозможность следить за тем, как подвигается дело, настолько отупляла Дика, что он потерял счёт времени и ему стало казаться, будто он пилит уже много часов подряд. Однако, ощупав канавку, он обнаружил на железе лишь неглубокую царапину.
— Чёрт возьми! — сказал Шейн, который терпеливо сидел скрючившись на земле, пока Дик пилил. — Ты, видно, принёс сюда пилку для дамских коготков!
Дик стал пилить ещё усерднее и раз даже задел Шейна. Ему казалось, что он должен был, по крайней мере, уже раз пять перепилить наручники. А между тем канавка как будто совсем не углублялась. Наконец, когда он потерял уже всякую надежду, вспотел и почувствовал, что еле шевелит руками, в наручниках что-то подалось.
— Ага, с одним покончено, — облегчённо вздохнув, сказал Шейн. Он выпрямился, размял ноги и опять сел. — Давай дальше.
Приободрившись, Дик снова стал пилить, и на этот раз, несмотря на его усталость, работа пошла быстрее. Шейн вытянул свою освобождённую правую руку и завопил от восторга.
— Теперь уже недолго. Отдохни, малыш. У меня одна рука свободна, и я сам справлюсь с другим наручником. После того как мои руки побывали в тюрьме, приятно опять приложить их к чему-нибудь.
Он зажал распиленный конец наручников между колен и принялся пилить с такой силой, что искры полетели. Визг металла отдавался по всей штольне.
— Что нового? — спросил он, не переставая пилить.
— Ничего особенного. Отец говорит, что они арестовали троих — Мак-Интайра, потом печатника и ещё одного, не помню его имени.
— Но Мак-Интайр был одним из тех вожаков, которые орали вовсю, чтоб мы шли назад и вели себя прилично.
— Верно. Но они схватили именно его. Все говорят, что остальных двух вообще и в толпе-то не было. Полиция набросилась на них на шоссе. Должно быть, им нужно было кого-нибудь арестовать.
— Ну, теперь ты видишь, какой в этом городе самый верный способ угодить в неприятную историю, — свистнув, сказал Шейн. — Надо просто сидеть сложа руки. Легавые и солдатня не будут тебя бояться и поэтому обвинят в том, что сделали другие.
Он снова набросился на наручники и, довольный, засмеялся.
— Ну, готово. Теперь я снова свободный человек — и всё благодаря тебе, Дик Престон.
— Как ты думаешь, узнали нас?
— Об этом не может быть и речи. Они не узнают нас среди тысяч людей, которые побывали сегодня там, особенно теперь, когда я избавился от этой улики.
— Ну, мы ещё не совсем избавились; нельзя же оставить её здесь, чтобы отец на неё наткнулся.
— Спрячь под куском породы, а завтра брось в речку, — сказал Шейн. — Ведь не потащишь же ты эту штуку домой.
Дик согласился с этим предложением. Шейн поднял его наверх в бадье, после чего Дик, в свою очередь, поднял Шейна, снова обмотав канат вокруг вала ворота. Заметив неподалёку кучу породы, они спрятали распиленные наручники под комом светлой глины, чтобы легче было их отыскать. Затем Дик поспешил назад в хижину.
Глава 6. Посещение театра
На следующее утро Дик встал рано, принёс матери несколько вёдер воды из речки и ускользнул на участок. Удостоверившись, что поблизости никого нет, он подошёл к куче породы, где были спрятаны наручники, и стал шарить под комом белой глины. К его удивлению, наручников там не оказалось. У Дика замерло сердце. Он оглянулся, снова проверил все приметы и убедился в том, что не ошибается. Он спрятал наручники именно под этим комом глины, — и вот они исчезли.
Кровь прилила к голове Дика, когда он понял, что кто-то их нашёл и унёс. Но знал ли нашедший, что они были спрятаны именно Шейном и Диком?
Дику хотелось верить, что они были найдены случайно. Но нет, это не могло произойти так быстро! Ни один старатель ещё близко не подходил к шахтным колпакам. Значит, кто-то шпионил за ним и за Шейном?
Дик тут же отправился в палатку, которую Шейн делил со своими компаньонами. Когда он пришёл, Шейн мылся в помятом оловянном тазу, потом причёсывался перед осколком зеркала, покрытым трещинами и пузырями; Дику не сразу удалось отвести его в сторону. Сначала Шейн отказался верить Дику, твердя, что тот ошибся местом.
— Нет, — настаивал Дик. — Я считал шаги и запомнил, что эта куча ближе всего к лебёдке Митчелла.
— Что ж, — сказал Шейн, хмурясь, — тогда удивительно, что мы оба ещё не сидим в кутузке с головы до ног в наручниках. Если б легавые что-нибудь знали, они схватили бы нас обоих прежде, чем мы успели бы продрать глаза.
— Пожалуй, что и так, — согласился Дик, снова обретая надежду. — Когда полицейские после этой свалки арестовали ни в чём не повинных людей, то поднялся такой шум, что они теперь последние сапоги отдадут, лишь бы заполучить тех, кого засудят любые присяжные.
— «Тех» — то есть нас с тобой, как это ни грустно, — сказал Шейн, делая себе пробор гребёнкой, в которой отсутствовало большинство зубьев. — Что бы ни случилось с этими наручниками, пока что они ещё не добрались до правительственного лагеря. Иначе на нас бы уже напустились все четыре комиссара и полк солдатни в ярко-красных мундирах, да ещё, может быть, парочка пушек в придачу.
Дику пришлось удовлетвориться этими слабыми утешениями. Однако по мере того как день склонялся к вечеру, а их никто не трогал, Дику стало казаться, что он действительно ошибся относительно места, где были спрятаны наручники; поэтому он согласился пойти с Шейном на театральное представление, которое давали на холме Эврика. Мистер Престон нахмурился, когда Дик, сообщив о приглашении Шейна, попросил отпустить его; но тут уже миссис Престон встала на защиту Шейна.
— Вот так так, — сказала она мужу. — Ты бранишь мальчика за то, что он ввязывается в политику и в эту историю с Лигой Реформ. А затем ты его бранишь за то, что он хочет развлечься. Нельзя же одновременно сердиться за то и за другое.
— Я его не бранил, — сказал мистер Престон, протирая очки, которые надевал при чтении.
— Ну, так ты нахмурился.
Мистер Престон поморгал, взглянул на свои очки и медленно водрузил их на нос.
— У меня нет возражений против серьёзной драмы, — сказал он. — Но я, гм, не думаю, чтоб в Балларате поставили что-нибудь классическое. Послушай, Дик, я расскажу тебе о том вечере, когда видел Макреди в «Отелло». Это было зрелище, действительно возвышающее душу. Он выглядел совершеннейшим мавром, а говорил, как истый английский джентльмен.
— Дик уже слышал всё это, — заметила миссис Престон, твёрдо решив, что Дику сегодня следует отдохнуть.
— Да, о да, — сказал мистер Престон, мигая и глядя на неё поверх очков. — Мы не можем рассчитывать в Балларате на такого актёра, как Макреди. Что сегодня идёт, Дик?
— «Жертва вдовы» и ещё «Ирландский наставник», для концовки, — краснея, ответил Дик. Он уже читал афиши. — В том же исполнении, в каком они шли с успехом в присутствии коронованных особ.
Мистер Престон пососал зуб; это был признак раздумья.
— Лучше бы ты лёг спать. Но раз мать согласна, то и я не возражаю. Возвращайся домой сразу же после спектакля. Завтра вечером я, может быть, почитаю тебе «Отелло». Конечно, это будет неудачным подражанием красноречию Макреди, но я приложу все усилия. То есть я хочу сказать, что это подражание будет настолько удачным, насколько позволяют мои малые способности. Мы не должны допустить, чтоб твоё образование страдало из-за того, что обстоятельства привели нас, гм, в не совсем благовоспитанное общество.
Дик с нетерпением ждал вечера, а пока что старался разузнать что мог о последствиях беспорядков. Судья был вынужден отпустить арестованных под залог, так как в противном случае можно было ожидать нового и ещё более опасного бунта старателей; образовался комитет, который взял на себя организацию защиты обвиняемых; было решено послать к губернатору — сэру Чарлзу Хотхэму — делегацию с требованием снять выдвинутые обвинения.
Но у Дика пока что пропал интерес к политике. Отмыв лицо до блеска и надев лучшую рубашку и куртку, он встретился с Шейном, и они оба отправились к холму Эврика. Смеркалось, шоссе было ярко освещено длинным рядом фонарей; в Балларате началась обычная ночная жизнь с барами, игорными домами, кабаками, притонами, китайскими закусочными и танцевальными салонами.
Дик и Шейн прежде всего отправились перекусить в китайский ресторан Джона Аллу. Вывеска под фонарём, подвешенным к металлическому кронштейну, гласила: «Всегда горячий суп». Пройдя мимо группы людей, которые собрались возле лавки Пиппена и, сидя на бочках, болтали и читали вслух объявления об аукционе и о пароходстве «Белая Звезда», Дик и Шейн вошли в ресторан, где рядом с доской, покрытой китайскими письменами, висел рисунок, изображавший дилижанс, несущийся во весь опор. Надпись на рисунке гласила: «Билетная касса дилижансов на Мельбурн и Джилонг».
Они уселись на скамью рядом с несколькими разговорчивыми китайцами и тремя дюжими матросами в грубых морских сапогах и полосатых шерстяных кепи и принялись за рис, приправленный пряностями. Затем они стали ходить по шоссе, рассматривая витрины магазинов и читая объявления о распродаже, большом танцевальном вечере в концертном зале Джона О'Гроутса и последние сообщения из Крыма.
Наконец они взобрались на холм Эврика. Театральное здание из дерева и парусины стояло почти напротив гостиницы Критерион. Пробравшись сквозь толпу старателей, одетых по-праздничному, в синие и красные саржевые рубашки, перехваченные длинными алыми кушаками, в ковбойские шляпы и высокие сапоги, Дик и Шейн вошли в зал.
Дик впервые попал в театр и сидел на жёсткой скамье в нетерпеливом ожидании, не замечая шумливых старателей и не решаясь оторвать глаза от занавеса — вдруг он поднимется без предупреждения и Дик что-нибудь пропустит! Чтобы время шло быстрее, он изучал объявления на занавесе и прислушивался к пиликанью инструментов, настраиваемых а оркестре.
Когда начался спектакль, Дик пришёл в восторг и уже не замечал никаких недостатков в постановке, хотя Шейн, который побывал во всех театрах от Дублина до Сан-Франциско, отпускал замечания столь оскорбительного характера, что они понравились бы даже мистеру Престону. Содержание пьесы Дика почти не занимало, хотя у него и создалось представление, что дело шло об интригах некоей лукавой вдовы. Но он был очарован непринуждёнными манерами и уверенной декламацией актёров, всем этим театральным миром с его напускным блеском и мишурой. Когда же Шейн упрямо указывал ему на убожество декораций и безвкусицу в костюмах актёров, Дику становилось не по себе и он старался не слушать друга.
Наконец первая пьеса кончилась, занавес опустился, и зрители шумным потоком устремились в бары, где заказывали всякие смеси, бывшие тогда в ходу: персиковую настойку, херес с лимоном или лимонадом и льдом, коктейли. Шейн ограничился смесью простого пива с имбирным, клянясь при этом, что в ней нет никакого алкоголя, но Дик не поверил ему на слово и выпил лимонаду, несмотря на предупреждение Шейна, что это опасное и вредное для здоровья зелье. Пил он так поспешно, что часть лимонада попала ему в дыхательное горло и он поперхнулся.
— Видишь, какое это страшное зелье! — сказал Шейн. — У тебя вся душа выйдет наружу пузырьками.
Но Дику было не до шуток: он боялся пропустить вторую пьесу. Шейн сказал, что у них ещё куча времени, но Дик потащил его назад в театр, и им пришлось ждать несколько минут, пока старатели снова не заняли своих мест и не начали нетерпеливо стучать ногами. Когда занавес рывком поднялся, Дик, к своему удовольствию, увидел на сцене того же «знаменитого» актёра.
— Смотри, какой он стал красный! — заметил Дик Шей-ну. — Это потому, что он в новой роли?
— Это потому, что был антракт, — ответил Шейн.
Сначала Дик не уловил смысла этого ответа, но немного спустя сквозь толщу его восхищения пробилось понимание того, что актёр изрядно выпил. Публика заметила это задолго до Дика и стала громко высказывать своё мнение. Актёр пришёл в ярость, потерял самообладание, начал натыкаться на мебель и чуть не опрокинул бутафорское дерево. Потом, по ходу действия, ему пришлось ненадолго уйти со сцены, там он явно выпил ещё, и, когда вернулся, публика встретила его криками: «Передай бутылку, друг! Не скупись! Нечего лакать тайком!»
В следующей сцене он должен был просить прощения у своего отца, но рассердился на актёра, исполнявшего эту роль, и, когда тот отвернулся, лягнул его в зад.
Обиженный актёр замахал кулаком перед самым носом «знаменитости».
— Можешь пить, сколько влезет, — кричал он, — но не смей больше меня лягать! Если ты это ещё хоть раз сделаешь, я уложу тебя на месте!
Публика радостно орала и била в ладоши, приглашая актёров решить спор дракой. «Знаменитость» икнула, царственным жестом отстранила своего партнёра и, подойдя к рампе, произнесла:
— Леди и джентльмены! Этот грубый тип, я хочу сказать, болван, этот исландский дог, у которого ушки на макушке, утверждает, будто я пьян. Итак, джентльмены, я задаю вам всем вопрос. Я обращаюсь в данном случае не к дамам, ибо это дело исключительно мужское. Итак, я заявляю вам всем, что если я его лягнул, то он знает, что заслужил это.
— Давай, давай, старина! — откликнулась публика. — Лягни его ещё разок!
— Пьян ли я, джентльмены?
— Нет! — ответило несколько человек, раскачиваясь на сиденьях, хлопая в ладоши и стуча по скамьям.
— Да! — кричали другие. — Дай ему хорошенько!
Актёр нахмурился и жестом потребовал тишины.
— Джентльмены, я всегда предпочту быть пьяным, чем глупым. Согласитесь, что всякий напьётся, если его заставят играть с таким вот дураком! Разве я не играл в присутствии губернатора Нового Южного Уэльса? Но пьян ли я, джентльмены?
За ним поспешно опустили занавес, который при спуске заскрипел и чуть было не застрял, так как заело валик. После этого кто-то — вероятно, второй актёр — просунул ногу под занавес и столкнул ораторствовавшую «знаменитость» в оркестр. «Знаменитость» полетела вниз, задевая музыкантов и их пюпитры, и растянулась рядом с контрабасом, где принялась болтать ногами и вопить, держась за шейку инструмента.
В зале раздался оглушительный взрыв хохота, старатели повскакали с мест, выкрикивая шутливые советы и приветствия. Антрепренер и служители принялись очищать зал, угрожая вызвать полицию. Насмеявшись до хрипоты, публика позволила выставить себя за дверь, более довольная, чем если бы пьеса была сыграна как следует до конца.
— Что бы там ни говорил недоброжелательный критик обо всей программе, концовка была замечательная, — объявил Шейн.
Дик, как и остальные старатели, смеялся от души, но ему было немного жаль крушения того театрального мира, которым он был так приятно поглощён в начале вечера. Однако ему не хотелось давать Шейну повод посмеяться над собой и своей неопытностью, и он ничего не сказал.
Глава 7. Неожиданная встреча
Они пошли домой и, чтобы сократить путь, свернули в плохо освещённый переулок. Когда они проходили между двумя тёмными лачугами, из мрака вынырнула сгорбленная фигура и плаксивый голос произнёс:
— Мистер Престон… Мистер Корриген…
— Это ещё кто? — резко спросил Шейн, вглядываясь в незнакомца.
— Нет, нет, вы меня не знаете, конечно, не знаете! — заскулил человек, подходя ближе. — Для таких благородных молодых людей я — пустое место. Да, пустое место. Я уверен, что вы меня не знаете.
— Но я тебя знаю! — сердито сказал Шейн. — Ты — Чёрный Макфай. Прочь с дороги!
— Так значит, вы меня знаете? — в плаксивом голосе послышалась угрожающая нотка. — Подумать только! Какая честь быть таким известным человеком! А куда вы направляетесь, молодые люди?
— Нам с тобой не по пути, старое чучело! — ответил Шейн. — Убирайся в свою собачью конуру!
Дику приходилось слышать имя Макфая, хотя его самого он ни разу не встречал. Макфай был старый попрошайка, живший в сарае неподалёку от китайского квартала и занимавшийся тем, что вынимал столбы из заброшенных выработок; однако поговаривали, что помимо этого занятия у него были и другие, менее почтенные: он не гнушался ни доносами, ни ростовщичеством, ни продажей краденого, ни организацией мелких краж, ни торговлей опиумом.
— Пошёл вон, собака! — повторил Шейн.
Но Макфай и не думал повиноваться. Он неуклюже затрусил рядом с юношами, которые ускорили шаг, стараясь отделаться от него.
— Вы так от меня не отвяжетесь, — заскрипел он. — Пусть я стар. О да, пусть я стар и слаб и никому на свете не нужен, но если вы хотите перегнать меня, ребятишки, то вам понадобится лошадь, хорошая сильная лошадь, вроде той, которую вы украли вчера у лейтенанта Дальримпла.
Шейн и Дик остановились и молча смотрели на Макфая. Макфай же, хрипя, опёрся о столб и свесил голову набок.
— Что это значит? Выкладывай! — произнёс наконец Шейн. — Я не стал бы угрожать старому человеку, но не думаю, чтобы тебя можно было считать человеком. Выкладывай, говорят тебе!
— Я — бедный старик, — сказал Макфай, воздевая руки к небу. — Жизнь у меня тяжёлая, и вы видите, какие на мне лохмотья, хотя я дожил уже до седых волос. Иной раз я сам удивляюсь, как у меня душа не расстаётся с телом. Вы, верно, слыхали, молодые люди, что я иногда ссужаю деньги под залог. Разумеется, когда у меня есть кой-какие деньжата, а это случается не часто. Иногда я продаю невыкупленные залоги. Дело чистое, тут ничего не скажешь.
— Говорят тебе, выкладывай! — вышел из себя Шейн. — Выкладывай сейчас же, а не то пожалеешь, клянусь своей душой!
— А разве я не выкладываю? — спросил Макфай, съёжившись и обращаясь к Дику. — Замолвите за меня словечко, мистер Престон. Ваш ирландский друг нагнал на меня страху. Он не слушает того, что я говорю, и только кричит: «Выкладывай!», и теперь я совсем запутался.
— На что вы намекаете? — спросил Дик; у него, как и у Шейна, чесались руки проучить мерзавца, но его останавливали возраст старика и та насмешливая злая сила, которая чувствовалась в нём.
— И этот тоже! — захрипел Макфай. — О небо, сколько неблагодарности в этом мире!
Шейн угрожающе двинулся к нему.
— Я хочу только кое-что продать вам, — заговорил Макфай, прикрывая лицо руками. — Я же вам сказал, что люди мне приносят иногда в залог вещи. У меня-то обычно нет денег, но мой хозяин даёт мне взаймы, если дело того стоит. Как раз сейчас у меня есть кое-какие невыкупленные вещи. Итак, молодые люди, разве одному из вас не хочется купить прекрасную пару браслетов? Мне нужно найти покупателя, понимаете?
— Браслеты? — свирепо повторил Шейн. — Золотые или серебряные?
— Нет, нет! — прогнусавил Макфай, набираясь храбрости. — У некоторых типов странные вкусы. Вы ведь знаете. Речь идёт о стальных браслетах.
Дик и Шейн безмолвно переглянулись. Итак, Макфай каким-то образом раздобыл наручники. То ли он рыскал по прииску накануне ночью и видел, как их прятали, то ли ему рассказал об этом другой жулик, вор или осведомитель, какой-нибудь шпик из той банды, которую, как говорили, он возглавлял.
— Не смотрите на меня так, — продолжал Макфай. — Бесполезно думать о том, как хорошо было бы прикончить меня. Не воображаете же вы, что я настолько глупый старик, чтобы в мои лета прийти сюда, не приняв никаких мер предосторожности. — Он злобно зашипел. — О нет, я оставил у одного своего друга записку, которую он отнесёт в правительственный лагерь, если я исчезну. Понятно?
— Назови свою грязную цену, — с презрением сказал Шейн.
— Двадцать фунтов, — ответил Макфай. — И не говорите, что это дорого. Вы знаете, что в лагере я могу получить больше. Но я предпочитаю обделывать свои делишки с друзьями. Живи и жить давай другим, — говорю я. — Я-то сам не собираюсь нести их в лагерь, но если вы не заплатите двадцати фунтов, владелец потребует их назад, и вы, конечно, понимаете не хуже меня, куда он пойдёт и что сделает.
— У меня нет двадцати фунтов, — сказал Шейн. — А у Дика, как тебе известно, вообще нет ни фартинга.
— Но у вас есть друзья, у вас есть разные возможности, — захихикал Макфай. — Как бы я хотел быть таким сильным молодым парнем, как вы! Я бы живо раздобыл жалкие двадцать фунтов. Но спешить некуда. Даю вам сроку до завтрашнего вечера. Принесите деньги ко мне домой. Я буду ждать вас. И не забывайте про записку, которую я оставил там, где вы её достать не можете. Если со мной что-нибудь случится, она попадёт прямо в руки к правительственным комиссарам. Доброй ночи, молодые люди.
Он заковылял по переброшенным через канаву доскам и исчез в тени лачуги.
— Что же нам теперь делать? — спросил наконец Дик.
— Понятия не имею, — ответил Шейн. — Если б дело было только во мне, я бы удрал в Новый Южный Уэльс. Но он знает, что ты не можешь этого сделать, чёрт егоподери. Идём, незачем стоять тут. Придётся нам пораскинуть мозгами до завтрашнего вечера, вот и всё.
Глава 8. Лачуга Чёрного Макфая
Когда назавтра в полдень Дик с Шейном снова встретились, ни один из них ещё не придумал способа перехитрить Макфая.
— Я избил бы этого старикашку, как собаку, — свирепо сказал Шейн. — Но вполне возможно, что он вправду оставил письмо для полиции.
— Боюсь, что тебе не собрать двадцати фунтов, — сказал Дик. — Мне противно даже думать о том, чтобы откупиться от него; но что же нам остаётся делать?
— Мне не достать столько денег, даже если бы я и захотел, — ответил Шейн. — Мы сейчас в пустой породе, золотом не пахнет, а из моих компаньонов ничего не извлечь. Адамс — такой тип, что не даст посмотреть на деньги, даже если от этого зависит твоя жизнь; Хикс же готов отдать последнюю рубашку; но у него ничего нет. На прошлой неделе он проиграл в карты всё, что у него было.
После этого они разошлись по своим участкам, и Дик, поднимавший из шахты бадьи с жёлтой глиной и гравием, с каждой минутой становился всё мрачнее. Если его поймают, то, несомненно, приговорят к долгому заключению, и тогда он не сможет больше присматривать за домом. Его не столько пугало заключение в тюрьму, сколько горе, которое он причинит отцу и матери. Что они станут без него делать? Они будут считать себя обесчещенными. Отец совсем потеряет голову, начнёт прислушиваться к советам первого встречного и будет бродить с одного прииска на другой; мечта матери о спокойной жизни станет ещё менее осуществимой.
Дик поклялся, что если он выпутается из этой истории, то никогда больше не станет ввязываться в политику. Он забыл, что его увлекло чувство, двигавшее огромной массой старателей, которые выступили против несправедливости, и мог теперь думать только о том, что в своём эгоизме навлёк беду на любящих родителей.
Поужинав тушёным мясом, он ускользнул из дому. Пусть родители думают, что он, как обычно, бродит меж костров и соседних палаток, прислушиваясь к песням и россказням старателей. Когда Дик разыскал Шейна, тот печально сидел на куче глины, взявшись руками за голову.
— А, Дик Престон, — сказал Шейн, — в хорошенькую историю я тебя втянул! От души сожалею обо всём, что случилось. За себя я не беспокоюсь, но мне тяжело думать, что я принёс несчастье твоим близким, которые приглашали меня к своему столу. Что касается меня, я лучше бы дал себя дважды повесить, прежде чем уплатить старикашке хоть один фартинг, но ради тебя я попытался раздобыть немного золота. Пока у меня всего около десяти фунтов. Впрочем, возможно, и этого хватит, чтобы заткнуть ему глотку.
Они отправились в китайский квартал. Макфай жил в сравнительно добротно построенном сарае, который был брошен хозяевами после прибытия китайцев. Стараясь не привлекать к себе внимания, Дик и Шейн свернули на тропинку, по шатким доскам перебрались через булькающую грязь и приблизились к сараю. Сквозь щели в стенах наружу пробивался слабый свет. Они постучались в дверь, и Макфай впустил их с такой быстротой, словно поджидал их, стоя у входа.
— А, вот и вы! — Он потёр костлявые руки. — В самое время. Люблю разумных людей. Потому что я и сам разумный человек. Не старайся пробиться сквозь тернии. Да, Библию я знаю. Не старайся пробиться сквозь тернии. Это ещё никому не приносило пользы. В этом коротком совете скрыта мудрость, высшая мудрость. Я снимаю перед ней шляпу. И я рад видеть, что вы, молодые люди, не собираетесь делать глупости. Садитесь.
Он указал им на неотёсанную деревянную скамью, а сам уселся в старое кресло, из-под обивки которого торчали пучки конского волоса. На столике рядом с креслом стояла лампа, и свет, падавший на лицо старика, подчёркивал его отвратительное уродство — запавшие глаза, густые косматые брови, длинный тонкий нос, тонкие бледные губы. Растрёпанная борода была грязно-жёлтого цвета, с густой проседью.
Дик и Шейн молча глядели на него, но он, казалось, больше не собирался говорить. Он сидел, что-то бормоча себе под нос, иногда кивая головой и потирая сложенные руки.
— Послушайте, Макфай, — начал наконец Шейн, тщетно ожидавший, что тот скажет ещё что-нибудь. — Мы хотим выяснить ваше предложение.
— Да, да, выяснить, — мягко и вкрадчиво сказал Макфай. — Именно так. Выяснить. Если хотите, можете курить, молодые люди.
— Вы говорили о браслетах, — продолжал Шейн, твёрдо решив так или иначе довести дело до конца. — Что вы имели в виду?
Макфай не поднял глаз и только пошевелил сложенными пальцами на коленях. Дик и Шейн ожидали, что он опять скажет какую-нибудь раздражающе двусмысленную фразу. Но он опустил веки и по-прежнему мягко ответил:
— Ну конечно наручники. Наручники, которые защёлкнулись на ваших запястьях после того, как вы были арестованы за буйное поведение. Наручники, распиленные вашим молодым дружком после того, как он напал на полицейских её величества, которые находились при исполнении обязанностей, и набросился на офицера, который теперь в госпитале. Конечно, наручники.
Дик и Шейн, уже привыкшие к тому, что он ходит вокруг да около, были озадачены этими прямыми словами.
— Я уплачу вам за них десять фунтов, — с усилием произнёс Шейн, скрипнув зубами.
— Двадцать фунтов, — поправил Макфай прежним мягким, бесстрастным голосом.
— Я не могу достать двадцать, будь вы прокляты, — теряя терпение, сказал Шейн.
— Двадцать фунтов, — повторил Макфай; лицо его искривилось подобием улыбки, он поднял указательный палец и укоризненно погрозил Шейну. — Мы сговорились на двадцати фунтах. Не стыдно вам пытаться обмануть бедного, беззащитного старика?
— У меня их нет! — воскликнул Шейн.
— Кто может достать десять, может достать и двадцать, — спокойно ответил Макфай. — В банках и в кассах лавочников их сколько угодно.
— К тому же, — продолжал Шейн, пропуская мимо ушей совет Макфая, — откуда нам знать, что вы будете держать язык за зубами после того, как вернёте наручники? Вы всё равно сможете пойти и донести на нас.
— Конечно, мог бы, — кивнул головой Макфай. — Только я не пойду на это. Я — деловой человек. И конечно, не я — главный. Я только исполнитель, который должен сбыть наручники. Я буду нем как рыба. А так, как вы говорите, дела не делаются. Это уничтожило бы торговлю. Не осталось бы доверия. Спросите любого банкира или лавочника. Они вам скажут, мистер Корриген, что ничего нет ценнее в делах, чем это самое доверие, о котором вы сейчас говорили. — Он снова погрозил пальцем. — Платите, и вы в безопасности.
Шейн молчал, и через некоторое время Макфай опять забубнил:
— Власти уже схватили трёх человек по подозрению; теперь им требуется кто-нибудь, против кого есть настоящая улика. А распиленные наручники и есть настоящая улика. Такая, какую любят судьи и присяжные. У властей глаза на лоб полезут, если кто-нибудь явится к ним с чистеньким вещественным доказательством и скажет: «Посмотрите, что спрятали при мне Дик Престон и Шейн Корриген под кучей пустой породы». Это было бы получше любых свидетельских показаний. Кто может с уверенностью сказать, кого именно он видел во время свалки, при которой тысячи людей орали как оглашённые? Адвокаты живо заговорят об ошибках и алиби, присяжные скажут: «Это дело подстроенное». А вот наручники заставят мельбурнских присяжных иначе отнестись ко всему. Не так ли? Какой смысл идти и заявлять, что кто-то видел, как двое ребят закапывали наручники? Полиция сразу спросит: «Ну а где наручники? Где улики? А?»
Закончив свою длинную речь, Макфай чихнул, закашлялся и стал шарить под столом. Нащупав бутылку, он вытащил её и поднёс ко рту, потом, отпив глоток, поставил бутылку на место и вытер рот волосатой тыльной стороной руки.
— Я не предлагаю вам, молодые люди, — захихикал он. — Вино до добра не доведёт. Кто пьёт, тот делает вещи не по душе закону. Не так ли?
— Послушайте, — яростно начал Шейн, но, с трудом взяв себя в руки, продолжил довольно спокойно: — У меня есть для вас десять фунтов. Берёте их?
— Двадцать фунтов, — повторил Макфай, и голос его снова стал мягким и вкрадчивым.
— Да падёт на вас проклятие Кромвеля, если вы хоть раз повторите это! — закричал Шейн, вскакивая с места. — Возьмёте вы десять фунтов наличными, с тем что остальные я отдам через несколько дней?
— Долго я ждать не смогу, — сказал Макфай. — Блюдо остынет. Судья скажет: «Почему вы не пришли раньше, милый мой?» Они ведь тоже понимают.
— Завтра вечером, — попросил Шейн, бросив тревожный взгляд на Дика, который на протяжении всей этой беседы принуждён был сидеть как беспомощный зритель.
Макфай призадумался.
— Идёт. До завтрашнего вечера. В такое же время. Но давайте сюда всё, что у вас есть. А если не принесёте остальные, то потеряете и то, что уже уплатили. Ясно?
— Ясно! — мрачно сказал Шейн. — Держите.
Он выложил на стол несколько монет и мешочек с золотым песком. В этот момент снаружи послышались шаги, Макфай мгновенно сгрёб деньги и песок и спрятал у себя за пазухой; повернувшись в бешенстве к Дику и Шейну, он подозрительно взглянул на них. Но увидев, что они поражены и встревожены не меньше, чем он сам, Макфай поспешно поднялся с кресла и заковылял в глубь комнаты.
— Ступайте туда, — сказал он, откидывая полог из мешковины.
Глава 9. Убийство
Они зашли за полог и очутились в алькове, заставленном крадеными, как решил Дик, вещами: часами, кувшинами, цветочными горшками, вазами, одеждою. Заглянув в комнату через дыры в пологе, они увидели, что Макфай подошёл к двери.
— Сюда нельзя, — грубо сказал он. — Уходи. Я сегодня нездоров. Делами не занимаюсь.
Но гость не обратил внимания на эти слова, оттолкнул Макфая и вошёл в сарай.
— Ах, это ты, Томми? — сказал Макфай уже не раздражённым, а льстивым голосом. — Но всё-таки я сказал правду, что мне сегодня нездоровится. Я не могу уделить тебе время…
Вошедший — худощавый, широкоплечий мужчина с длинными, нелепо болтающимися руками и лицом, указывавшим на происхождение от европейца и китаянки, — ничего не ответил. Он оглядел комнату, а затем уселся в кресло.
— Это моё место, — ворчливо запротестовал Макфай. — Не садись сюда, Томми. Пересядь куда-нибудь. Ну вставай же!
Томми не двинулся с кресла и ничего не ответил. Он сидел, разглядывая Макфая прищуренными глазами сквозь полуопущенные веки; пряди иссиня-чёрных волос свешивались ему на уши.
Макфай встревожился ещё сильнее.
— Ладно, Томми. Можешь немножко посидеть в моём кресле. Только нехорошо обращаться с бедным стариком в его собственном доме, как с собакой. Ну, давай, Томми, скажи, по крайней мере, что-нибудь. Что у тебя на уме?
Появление нового пришельца, видимо, так встревожило старика, что он забыл о Дике и Шейне; но, спросив, что у Томми на уме, он как будто вспомнил о них, потому что, вместо того чтобы повторить вопрос, отступил назад и невнятно заговорил:
— Нет, не отвечай мне, Томми. Я знаю, что ничего плохого. Только ты раньше никогда так не обращался со мной в моём собственном доме. Но я не сержусь. Выпей, Томми, а потом уходи. Говорю тебе, что мне нужно поспать…
Томми по-прежнему сидел безмолвно и неподвижно. Макфай снова подошёл к нему, бормоча:
— Мне нужно поспать, Томми. Ты мешаешь мне лечь в постель.
Наконец Томми вытянул ноги и зевнул.
— Ты никогда не спишь, — сказал он. — Чёрту не нужно спать.
Макфай продолжал бормотать. Томми ткнул в него пальцем.
— Эй, ты! Ты думал, Томми в Джилонге!
Он сплюнул. Затем стал шарить под столом, нашёл бутылку джина и стал пить, ставя её в промежутках между глотками себе на колени.
— Бери её, Томми, — вертясь вокруг него, плаксиво протянул Макфай. — Всю бутылку. Можешь взять её. Мне не жалко бутылки джина для такого старого друга, как ты.
— Смотри, какой добрый стал! — сказал Томми резким, невыразительным голосом, отбрасывая назад длинные волосы.
— Хватит, Томми! Говорю тебе, — я болен. Ты что, сам никогда не болел и поэтому мне не веришь? Не пожелаю тебе таких дьявольских болячек, как у меня! Я хочу спать.
— Как ты можешь спать, когда у тебя такие болячки? — насмешливо спросил Томми.
— Я хотел сказать, что попытаюсь уснуть, забыть о них.
— Так иди спать, — ответил Томми и снова сплюнул.
— Я не могу спать при свете, — сказал Макфай. — Неужели у тебя совсем нет жалости?
— Тогда погаси свет.
Макфай попытался засмеяться.
— О, да ты, как видно, шутник, Томми! Тебе захотелось пошутить. Ну а теперь иди домой, в свою палатку.
— Томми будет теперь жить здесь.
Макфай бродил по комнате, бормоча себе под нос и не зная, что предпринять.
— Как идёт новая работа? — спросил Томми, снова отпив из бутылки.
— Какая новая работа? — в свою очередь спросил Макфай тоном оскорблённой невинности. — Я, как всегда, роюсь немного в заброшенных выработках у реки — вот и всё.
Томми тихонько захихикал.
— У тебя есть наручники. Скоро ты будешь сам носить их, если не станешь осторожней.
Макфай остановился перед ним, судорожно дёргая руками.
— Что ты сказал?
Томми не ответил и снова погрузился в непроницаемое молчание.
Затем он взглянул на Макфая.
— Ты сказал, — тебе плохо. Я слышу тебя. Ну, так Томми тоже плохо. Плохо из-за тебя. Ты его надул. Но он за тобой следил, Макфай. Ты слишком часто его надувал. Делись и делись поровну. Это здорово получалось, не так ли? И Томми верил тебе, как проклятый дурак. Как насчёт той половины, которую ты забрал у него после маленького дельца на складах Колак?
— Держи язык за зубами!
— Томми всё равно, если у стен есть уши. Он пришёл говорить в открытую, Макфай. Придётся тебе потерпеть.
— У меня не было времени сказать тебе об этих наручниках, — закудахтал Макфай. — Убей меня на месте, если это не так. Ты слишком быстро ушёл. Я собирался поделиться с тобою. Ты напился, а теперь думаешь, что я тебя надул. Тебя надувают там, где ты напиваешься, а я невинен, как младенец. Приходи ко мне завтра утром, и мы обо всём поговорим.
— Томми теперь всё знает, — ответил Томми, вытягивая ноги и давая этим понять, что он не собирается уходить со своего удобного места. — Он останется здесь, пока всё не разузнает.
— Кто это наговорил тебе? Будь они прокляты! — неистовствовал взбешенный Макфай. — Это Нелли, конечно, я знаю, это она.
Он заскрежетал зубами.
— Заткнись! — сказал Томми. — С чего это ты стал называть имена? Я же тебе не говорил, кто. Так что не слишком бросайся словами, а не то берегись, — бросишься в собственную могилу!
Макфай нерешительно ходил взад и вперёд по комнате.
— Что ты собираешься делать, Томми? — горестно спросил он наконец. — Не можешь же ты оставаться здесь вечно. Что ты собираешься делать?
— Томми останется, пока не придут те двое молодцов, из которых ты жмёшь деньги. А когда они придут, будем жать вдвоём.
Макфай не знал, что ответить на эти откровенные слова, потому что любой ответ только ухудшил бы его положение. Он бросил быстрый взгляд на альков и, что-то ворча, отошёл в ту часть сарая, где за перегородкой находился чулан с выходом на двор. Оглядев альков, Дик заметил в задней части оконце и сообразил, что Макфай собирается шмыгнуть во двор, чтобы убедить Шейна и его самого незаметно выбраться через это оконце.
Томми не стал удерживать Макфая. Он только прислушался и, когда тот постучал тарелкой о тарелку, создавая впечатление, будто готовит еду, Томми бесшумно поднялся с кресла, осторожно поставил бутылку на пол и ножом, извлечённым из-за пояса, начал медленно приподнимать половицы. Но Макфай, который отодвигал засовы на задней двери, решил взглянуть на Томми, прежде чем улизнуть во двор; он высунулся из-за перегородки и, увидев, что делает Томми, оцепенел от ярости, мгновение поколебался, а затем вернулся в чулан.
Там он вытащил револьвер из-под своих лохмотьев, взвёл курок и повернул щёлкнувший при этом барабан, чтобы под курком оказался боевой патрон. Обычно при ношении револьвера в камеру, которая находилась под курком, патрона не вкладывали, чтобы избежать несчастных случаев.
Затем, держа в руке револьвер со взведённым курком, Макфай тихонько вошёл в комнату. Но, несмотря на осторожность Макфая, Томми услышал скрип половиц и поднял голову с беспечной полупьяной усмешкой.
— Всё равно. Придётся тебе поделиться. Видишь, Томми знает, где ты держишь деньжата.
Но тут его челюсти сжались, и он уставился на револьвер, направленный ему прямо в сердце. Что-то в выражении глаз Макфая подсказало Томми, что мешкать нельзя; он почувствовал возрастающий страх и злобу старика, палец которого уже нажимал курок.
В то же мгновение, быстро схватив нож за лезвие указательным и большим пальцем, Томми запустил его в Макфая. Тот отпрянул, но лезвие уже вонзилось ему между рёбер. Револьвер стукнулся об пол.
— Так, так, — произнёс Томми странным пронзительным голосом. — Так, так, Макфай. Не вини меня в этом. Ты сам напросился. Так, так!
Наклонившись, Томми стал пальцами отдирать половицы, но остановился, когда из-под ногтей у него показалась кровь. Он лихорадочно осмотрелся в поисках предмета, который мог бы послужить ему рычагом. Не найдя ничего подходящего, Томми подошёл к мертвецу и встал над ним, растерянно улыбаясь и облизывая губы.
— Ты ведь сам напросился на это, Макфай, — бормотал он. — Не вини меня теперь. Я хочу только взять обратно свой нож. Он мой, а не твой.
Он вытащил нож, отёр его о рваную рубашку Макфая и снова принялся приподнимать доски.
— Мы не можем оставаться здесь и смотреть на это, — весь дрожа, прошептал Дик.
— Нет, — ответил Шейн, кладя руку на плечо Дика, чтобы успокоить его. Он слышал, как потрескивает ящик комода, о который опирался Дик.
Как ни слаб был этот звук, Томми тоже его услышал.
— Кто там? — крикнул он, вскочив на ноги.
— Убирайся к чёрту, Томми! — заорал во весь голос Шейн. — Мы всё видели.
Томми в ужасе прыгнул назад, выронил нож и опёрся о стол. Он пытался заговорить, но у него спёрло дыхание. Видя, что Томми безоружен, Шейн выскочил из алькова, собираясь поднять револьвер, лежащий у тела Макфая. Дик последовал за ним. Увидев их, Томми понял, что ему не перехватить Шейна до того, как тот успеет поднять револьвер. Вместе с тем он уже оправился от ужаса, который сковал его, когда среди ночи, непонятно откуда, загремел обличавший его голос.
Томми схватил лампу и запустил ею в Шейна. Шейн отскочил в сторону — и лампа ударилась о стену сарая. Томми кинулся к наружной двери, распахнул её и исчез. Лампа разбилась и на мгновение стало темно, затем сразу же взвился столб огня. Пламя побежало по полу и охватило потолок.
— Выбирайся отсюда! — закричал Шейн и, схватив Дика за руку, потащил к задней двери.
Через секунду они уже очутились во дворе, вдыхая прохладный ночной воздух.
— Быстро! — скомандовал Шейн. — Сейчас здесь соберётся толпа. Нужно убраться подальше от этого проклятого места, пока пламя не выбралось наружу.
Они опрометью бросились бежать, и когда остановились передохнуть, то увидели позади зарево пожара.
— Надеюсь, что продолжения не будет, — сказал Дик, которому стало лучше после того, как на бегу он наглотался чистого и прохладного ночного воздуха. — Не скажу, чтобы мне жалко было Макфая. Мне бы только хотелось, чтобы Томми тоже прикончили.
— Мои дорогие десять фунтов приказали долго жить, — сказал Шейн с грустной усмешкой. — Вот уж точно — исчезли в мгновение ока.
Затем он добавил уже серьёзно:
— Думаю, мы в сравнительной безопасности. Теперь я, конечно, не верю, что Макфай оставил у кого-нибудь письмо насчёт нас. Это он нас взял на пушку. Он хотел обделать дельце без ведома компаньонов. Я видел этого Томми прежде. Его прозвали Томми Китайцем. Макфай, как видно, всё время надувал его. До чего грязные свиньи!
Проводив Шейна и добравшись до дому, Дик остановился, чтобы перевести дыхание и стереть с лица пот, а затем с напускной беспечностью вошёл в комнату.
— Ну, Дик, я надеюсь, ты получил удовольствие, — сказала миссис Престон, поднимая глаза от шитья. — Слышал ты какие-нибудь новые матросские истории? Ведь ты их так любишь.
— Для него было бы лучше… — сказал мистер Престон, считавший своей обязанностью делать предложения, которые явно не имели шансов на успех у Дика, — да, для него было бы гораздо лучше, если бы он хоть один вечер посидел дома и занялся уроками, которые я ему задал, а не бездельничал у костров.
— Ну-ну, сказала миссис Престон. — Не можешь же ты требовать, чтобы он работал весь день и весь вечер.
— Думаю, что мне надо попробовать посидеть дома, — сказал Дик. — Я не прочь для разнообразия заняться уроками.
Глава 10. Уловка фараонов
Дик не мог не слышать постоянных жалоб старателей на произвол властей, но больше не проявлял интереса к этим жалобам и держался в стороне. Он всё время боялся, что расследование убийства Макфая и пожара приведёт ко всяким разоблачениям; но никто этим делом особенно не занимался. Полиция произвела поверхностное следствие, но так как она исходила из того, что в основе всего лежит простая ссора между преступниками, то эту историю вскоре вообще забыли. Что касается старателей, то они не раз говорили при Дике:
— Потеря невелика, этот Макфай был порядочной дрянью.
Дик успокоился, перестал бояться за будущее, но всё же твёрдо решил не вмешиваться больше в политику и вообще в дела, которые могут привести к столкновению с полицией.
Всё же он не мог не слышать, что говорили старатели. На холме Бэйкери состоялся большой митинг, участники которого потребовали освобождения заключённых и увольнения ненавистного старшины Милна, читавшего вслух закон о мятежах, а также заявили о правах народа на полное представительство в парламенте, всеобщее избирательное право для всех мужчин, отмену имущественного ценза для депутатов, выплату им жалованья (чтобы в парламенте могли заседать и рабочие), частых выборов в парламент, упразднения комиссии по золотым приискам и отмены лицензионного сбора, ложившегося всей тяжестью на старателей и лавочников. Эти вопросы обсуждались, куда ни повернись; от них было не уйти.
Наконец, правительство отстранило от исполнения обязанностей судью, который за взятку вынес приговор, послуживший толчком к волнениям, а содержатель гостиницы Бентли был вновь арестован. Его судили в Мельбурне, нашли виновным и приговорили к трём годам каторжных работ за непреднамеренное убийство. Трёх человек, обвинённых в бунте, также судили в Мельбурне и тоже нашли виновными.
Дик продолжал упорно трудиться, либо под землёй, в шахте, либо у промывного корыта, а вечерами сидел дома и учился под наблюдением отца. Он не мог уклониться от случайных встреч с Шейном, но сторонился его, потому что Шейн вечно говорил о Лиге Реформ.
— Приходи, и я познакомлю тебя с Питером Лейлором, — сказал он как-то. — Помнишь, ты сам упрашивал меня об этом.
— Я передумал, — ответил Дик. — К тому же мне нечего сказать ему.
И как Шейн ни уговаривал, он отказывался пойти с ним.
Однажды Дик работал на своём участке и вдруг услышал справа от себя, за кучей породы, страшный шум. Увидев, что несколько старателей отправились узнать, в чём дело, он присоединился к ним. Два человека, в рваных, заляпанных глиной рубашках и штанах, вступили в перебранку с двумя старателями, которые, как было известно Дику, владели участком, где происходила ссора. Двое незнакомцев, с грубыми лицами, заросшими нечёсаными бородами, явились на участок и отказались его покинуть.
Участок этот не разрабатывался. С этого времени, как россыпные залежи золота истощились, приходилось углублять шахты до семидесяти футов, чтобы добраться до русла россыпи, до жилы, то есть до того места, где в древности протекал золотоносный песок. Пласты, расположенные в стороне от жилы, никем не разрабатывались; для этого потребовались бы механизмы, а старатели-одиночки были решительно против введения машин, так как это означало бы появление синдикатов и дельцов, имеющих капитал. С появлением же синдикатов старатели перестанут быть свободными людьми, действующими на свой страх и риск, и вскоре превратятся в наёмных рабов.
При таком порядке вещей только участки, расположенные непосредственно над жилой, представляли ценность. Время и труд старателей, которые, достигнув глубины семидесяти футов, обнаруживали, что не напали на жилу, пропадали даром. Поэтому старатели начали задерживать разработку участков, если не было уверенности в направлении жилы. Люди выставляли заявочные столбы на участке и располагались на нём. Если на участке оказывалась жила, он становился чрезвычайно ценным; если же нет, — его бросали. Теперь в Балларате были тысячи подобных «сторожей» своих участков, и так как они пока что не получали никакого дохода с вложенных в эти участки денег, то, естественно, к лицензионному сбору относились особенно неприязненно. Всякий раз, как раздавался крик «легаши!», они рассыпались по равнине и прятались в бесчисленных ямах, которыми она была изрыта; разыскать их там полиция не могла.
Дик видел, что двое бродяг, занявших участок, постепенно довели «сторожей» до белого каления.
— Вылезайте, а не то получите хорошую трёпку! — кричали старатели, поднимая лопаты.
— Это наш участок, — отвечали незнакомцы. — Вы его заняли обманом.
«Сторожа» обратились к собравшейся толпе.
— Послушайте, ребята, вы ведь можете подтвердить, что участок наш?
— Не слушайте их! — в свою очередь взывали незнакомцы. — Вы, может, и видели, что эти лживые псы разбили здесь свою палатку, но что с того? Они напали на нас на болоте Бахус и украли наши деньги и бумаги. Это настоящие акулы.
— Мы ваших безобразных рож и в глаза не видывали! — старались перекричать их другие.
— Ну, так вот, теперь мы здесь и не уйдём, разве что вы нас выкинете.
Толпа слушала, не становясь ни на чью сторону; старатели знали, как много было кругом жульничества, и не хотели принимать необдуманного решения. Но когда речь зашла о драке, они стали проявлять живой интерес.
— Правильно! Пусть решат дело дракой!
Послышались крики: «В круг! В круг!»
— Я вам черепа лопатой раскрою! — завопил один из «сторожей».
— Нет, не раскроишь, — появляясь из ямы, ответил тот из противников, который был покрепче на вид. — Ребята — свидетели, что я буду драться с тобой по-честному. — Он встал в позицию. — Давай выходи! — Он сделал выпад и ударил «сторожа» кулаком по лицу.
— Ну, тут тебе и крышка! — ответил «сторож».
Но один из старателей выхватил у него лопату. Лишившись оружия, «сторож» бросился на противника и повалил его на землю, отплатив за полученный удар.
— Ну, давай, давай ещё! — ревел победитель, прыгая вокруг побеждённого.
— В круг, ребята, в круг! — кричали в толпе.
Но, заглушая эти вопли, раздался предупреждающий крик: «Легаши! Легаши!» Старатели пытались убежать, спрятаться в бесчисленных ямах, но конная полиция отрезала им путь к отступлению. Конные и пешие полицейские цепью продвигались вперёд, гоня перед собою не успевших скрыться, и старатели, проклиная всё на свете, убедились, что они окружены. Сзади мчались галопом конные полицейские и занимали все господствующие позиции на холмах.
— Чтоб вас разразило и разорвало, фараоны! — кричали старатели, отбиваясь от полицейских.
Дика так сдавили в толпе, что ему пришлось напрячь все силы, чтоб не быть сбитым с ног и затоптанным. Он слишком поздно вспомнил о том, что и Шейн и Сандерс предупреждали его об этой уловке полиции, которая затевала драки, разыгрывая незаконное занятие участков; зрелище драки всегда до такой степени поглощало старателей, что в это время их легко было окружить.
Дик лихорадочно принялся шарить в рубахе, ища лицензию, но не мог её найти. Он отлично знал постановление № 1: «Настоящую лицензию иметь при себе и предъявлять по первому требованию любого комиссара, офицера, ведающего поддержанием общественного порядка, или любого другого, должным образом уполномоченного лица; передаче не подлежит». Куда же девалась его лицензия? Дома она, конечно, не могла остаться; он всегда носил её при себе и помнил, что перед завтраком проверял, в кармане ли она. Но, может быть, она выпала, когда случайно нагнулся? Или же её вытащил в давке кто-нибудь из старателей, рассчитывая выдать за свою во время неожиданной проверки?
— Назад! Не толкаться! — кричали полицейские. — Стройся!
Люди неохотно, кое-как построились, и проверка началась. Полицейские были необычайно довольны тем, что им удалось успешно окружить такую толпу старателей, и теперь они грубо над ними издевались. Даже когда кто-нибудь быстро предъявлял лицензию и та оказывалась в полном порядке, они толкали предъявившего в бока и ощупывали, чтобы проверить, нет ли при нём револьвера, так как существовало постановление, запрещающее носить огнестрельное оружие. Дик увидел, как полицейский засунул руки в карманы одного старателя, потом под брючный пояс и под рубашку, отрывая пуговицы и разрывая материю. Старатель запротестовал.
— Заткнись! — сказал полицейский. — Тебе повезло. Убирайся!
Наконец подошла очередь Дика.
— Где твоя лицензия? Ищи быстрей! — потребовал полицейский.
— Оставил дома, — робко сказал Дик. У него мелькнула мысль, что лицензия могла выпасть, когда он, по просьбе матери, задвигал под кровать чемодан.
— Придумай что-нибудь поновее. Ступай туда!
Полицейский указал на группу старателей, которых окружали полицейские с винтовками наперевес.
— Пожалуйста, пойдёмте ко мне домой! — попросил Дик. — Это недалеко. Я найду вам лицензию.
Он знал, — если лицензия не отыщется, отец заплатит деньги, но молил бога, чтоб она нашлась: этот непредвиденный расход будет отцу не под силу.
— Ступай туда! — ответил полицейский, поднимая приклад винтовки.
— Её могли украсть в толпе, — жалобно сказал Дик. Он вдруг сообразил, что украденную лицензию можно будет обнаружить по имени владельца. — «Р. Престон. № 205. 8-го октября». Кто-нибудь уже предъявлял такую?
— Откуда, чёрт подери, мне знать об этом? — сказал полицейский. — Ври, да знай меру. К тому же теперь всё равно слишком поздно. Ступай, куда велят, да поживее.
Он крикнул ближайшему коннику:
— Слушай, Уилл, добавь-ка ещё пару наручников, у меня все вышли!
Дик пытался робко протестовать, но на него надели наручники и пинками загнали в группу арестованных.
Глава 11. В кутузке
Полиция арестовала более шестидесяти человек, не имевших при себе лицензии или пытавшихся уклониться от уплаты. Не принимались во внимание никакие объяснения, хотя некоторые старатели утверждали, что их лицензии остались в куртках, брошенных на участках. Нарушителей собрали вместе, надели на них наручники, как на уголовников, а затем погнали под конвоем конной полиции по пыльной, опалённой солнцем дороге к лагерю на крутом западном склоне холма.
Дик грустно брёл среди других арестованных, бессильно опустив скованные руки. Сначала мысли его были заняты потерей лицензии и той брешью, которую новый расход пробьёт в отцовском бюджете, но вскоре к этому прибавились ещё более страшные опасения. На равнине, среди множества старателей, Дик не боялся, что его узнают; но если он предстанет перед судом в одиночку, без шляпы, под сверлящим взглядом полицейских, то тут его легко опознает любой из конников, охранявших гостиницу Бентли в день беспорядков. Кроме того, Дик боялся, что его упрячут в тюрьму, так как за него не успеют внести залог, и он ломал голову, как сообщить о случившемся, отцу.
Когда вереница скованных старателей и ликующих полицейских покидала равнину, ей вслед понеслись свистки и угрозы тех, кто спасся, предъявив лицензии или же спрятавшихся в ямах. Было брошено несколько камней, но не много, потому что бросавшие боялись попасть в арестованных.
Дик шагал вместе со всеми, погруженный в малодушное отчаянье. Подойдя к кутузке — так называли здание суда и тюрьмы, — он посмотрел на часы, недавно установленные на гостинице Баса, стоявшей напротив, и увидел, что ещё только одиннадцать часов утра. Дик обрадовался, потому что впереди была большая часть дня, в течение которой можно установить связь с отцом.
Правь, Британия!
Ты, Британия, правишь волнами!
Никогда, никогда, никогда
Англичане не будут рабами! —
тихонько напевал шедший рядом с Диком мускулистый йоркширец. Старатели в наручниках подхватили припев и, шагая по пыли, повторяли его тихими, угрожающими голосами.
— Заставьте арестованных замолчать! — закричал один из офицеров, ехавших впереди.
— Есть, сэр, — ответил конник.
— Попробуйте ещё хоть пикнуть, — понизив голос, злобно сказал стражник, — и мы с вами расправимся, как только дойдём до лагеря.
Старателей загнали в лагерь через деревянные ворота и оставили на открытом пыльном дворе, где их пекло солнце и терзали мухи, которых они не могли отгонять скованными руками, Полицейские ушли в казарму, чтоб утолить жажду, и арестованные видели, как они спокойно отдыхали на крытой террасе. На страже осталось полдесятка чернокожих полицейских, которые явно гордились своими блестящими чёрными сапогами; они пересмеивались друг с другом и были явно довольны тем, что в их власти оказалось так много беззащитных белых.
Старатели проклинали туземцев-полицейских, словно они олицетворяли последнюю ступень их унижения. Но Дик был так убит своим арестом, что даже не обращал внимания на охрану.
Один из пленников погрозил скованными руками полицейским и мухам.
— Ох как славно бы снова очутиться дома! — сказал он с акцентом, выдававшим в нём уроженца лондонских трущоб. — Дома с мамой. Зачем я ушёл от неё, когда был смелым, но скверным мальчишкой? Как славно было бы снова увидеть уличного торговца, который продаёт липкую бумагу и распевает симпатичную песенку.
Он загнусавил, подражая кому-то:
Прибегайте, покупайте,
А потом кусачих, злобных,
Чёрных мух уничтожайте!
— Уже за полдень, — после долгого молчания сказал Дик человеку, который стоял рядом с ним, седеющему старику — старателю из Корнуэльса. — Накормят они нас завтраком?
Тот воззрился на него.
— Видно, прежде не приходилось бывать здесь? — «Он молод, да ещё и порядком глуп, если думает, что они привели нас сюда для кормёжки». — Ты что, в первый раз?
— Да.
— Оно и видно. Ну что ж, узнаешь.
Хотя Дик был очень подавлен, но всё же внимательно следил за невозмутимым старым корнуэльсцем, который молча уселся на землю, не обращая внимания на мух и беззвучно шевеля губами. Как бы Дик хотел научиться такому же хладнокровному отношению ко всему на свете! Наконец любопытство взяло в нём верх.
— Не скажете ли вы мне, что вы шепчете?
— Почему бы не сказать? — ответил старик. — Это гимны Джона Уэсли, которые я не раз певал на торфяных болотах. И когда я пою их, я всегда вижу вересковые заросли вокруг Бодмина, и мне тогда хорошо.
Целых три часа арестованные провели в наручниках, под жгучим солнцем, осаждаемые роями мух. Потом наконец появились первые признаки каких-то перемен. Нескольких старателей увели в помещение суда. Дик выждал, пока мимо него прошёл один из полицейских.
— Я хочу послать за отцом, — сказал он.
Полицейский поднял брови.
— Ты слишком молод, чтобы быть головорезом, но я, к сожалению, не могу бегать и ловить для тебя отцов. Придётся тебе подождать и заявить об этом судье.
Он прошёл дальше, но Дику стало легче оттого, что кто-то ласково поговорил с ним, и он сел рядом на землю с корнуэльсцем, пытаясь подражать спокойствию старика. Наконец пришёл и его черёд. Когда Дика ввели в помещение, где находился судья, в голове у него мутилось от жары, горло пересохло. От усталости он едва держался на ногах и не мог собраться с мыслями. Над его ухом забубнили чьи-то голоса… Дик с трудом понял, что обращаются к нему.
— Отсутствие лицензии… объяснение…
Голос был монотонный, безжалостный, усталый. Дик взглянул в острые блестящие глазки, которые рассматривали его пристально, но без интереса. Он начал объяснять, но его тут же оборвали:
— Пять фунтов. Следующий!
— Мой отец уплатит, — сказал он. — Мой отец…
— Отходи! — гаркнул стражник. — Следующий! Эдвард Куин.
Человек, сидевший за столом, раздражённо отмахнулся от Дика. Было что-то сказано о том, что его надо задержать, навести справки. Дик услышал, как следующий подсудимый — Куин — заговорил с сильным ирландским акцентом:
— Да, сэр. Я только сегодня утром зажёг лицензией свою трубку, — думал, что это проклятый счёт от Робинзона; и в какой же ужас я пришёл, когда понял, что зажёг трубку правительственной бумагой!
Раздались громкие голоса, угрожавшие старателю привлечением к ответственности за оскорбление суда. Больше Дик ничего не расслышал, потому что его увели в помещение для ожидающих, где по крайней мере можно было сесть на скамью.
— Можно мне напиться? — хрипло спросил он.
Стражник принёс ему тепловатой воды в оловянной кружке. Дик жадно выпил и почувствовал, что оживает. Полицейский записал, где он живёт и имя его отца.
Часы шли за часами. Дик был так счастлив, что в комнате прохладно и нет пыли, что почти перестал тревожиться. Все его мысли сосредоточились на ожидании отца, который, конечно, придёт, как только получит известие о нём. Но как долго они промешкают, прежде чем послать за отцом?
Вслед за Диком в то же помещение втолкнули несколько старателей, также ожидавших, что друзья или компаньоны внесут за них выкуп. Большинство сидело молча, свесив скованные руки между колен, но один старатель — полупьяный француз — всё время болтал:
— Я ему говорю: «Ви не понимайт. Что у вас, глаз нет, легави ви?» Я говорю: «Позовите консуль la France, мне нужен le comte de Moreton de Chabrillon[410]. Ви не понимайт. Immediatement![411] Le comte de Moreton de Chabrillon».
Тут Дик услышал, что кто-то, стоявший у двери, зовёт его по имени. Он встал и пошёл за стражником обратно в помещение суда, а француз кричал ему вдогонку:
— Позовите le comte de Moreton de Chabrillon. Никто другой ни к чему. Это всё легави.
Дик с беспокойством оглядел помещение. Да, отец его здесь, бледный и встревоженный. Увидев Дика, он попытался ободряюще улыбнуться.
— Пять фунтов, Ричард Престон, — повторял кто-то.
Дик видел, как отец подошёл к столу, стоявшему сбоку, и отсчитал деньги. У мистера Престона возник спор с судейским из-за векселя какого-то бакалейщика.
— Он обанкротился, — сказал судейский.
Мистер Престон принялся шарить по карманам в поисках другого векселя, чтобы заменить отвергнутый. Дик дрожал от нетерпения. Когда же, когда же наконец будут уплачены деньги и всё уладится? Когда можно будет снова дышать воздухом свободы?
Вдруг он почувствовал какую-то заминку. Полицейский сиплым голосом говорил, указывая на Дика… Судья наклонился вперёд, покусывая перо. Он ткнул кончиком пера сначала в сторону полицейского, потом в сторону Дика и нахмурился.
— Штраф уплачен? — спросил он.
— Да, сэр, — сказал мистер Престон, опережая судейского чиновника. — Все улажено. Могу я взять сына?
— Вопрос об отсутствовавшей лицензии теперь урегулирован, — произнёс чиновник.
— Хорошо, — сказал судья невыразительным голосом. — Арестованного задержать для доследования.
Мистер Престон стал возражать, спрашивать, в чём дело, но ему велели «заткнуться» и вывели из помещения; выходя, он обернулся и бросил на Дика вопросительный взгляд, полный осуждения и любви. Дик почувствовал, что лишился последней опоры.
Он услышал, как судья сказал: «Мальчик, ранивший лейтенанта Дальримпла…»
Затем его снова увели — на этот раз в маленькую тёмную бревенчатую хижину.
Тяжёлая дверь захлопнулась за ним. Через щель в потолке в комнату проникал слабый свет. Он услышал, как кто-то заворочался на соломе.
— Что за несчастная свинья здесь? — раздался скрипучий голос. — Ох ты, несчастная свинья! Ручаюсь, что ты только старатель. Мерзавец ты!
Послышался страшный, надтреснутый смех…
— Не обращай на него внимания, — произнёс голос из другого угла. — У него не все дома. Дружок свистнул весь его золотой песок, а потом у него не оказалось лицензии и его схватили. Фараоны привязали его и ещё несколько парней к дереву и оставили на ночь. После этого он и тронулся. Завтра он едет в психический госпиталь. А ты что натворил, паренёк?
— Он — старатель! — закричал безумец. — Ох, несчастная свинья!
Глава 12. Шейн в красном мундире
Дик с трудом проснулся и не сразу сообразил, где он находится. Все кости у него болели, и он ворочался с боку на бок на койке, разглядывая непривычную обстановку. Он всё ещё был в наручниках, и его рёбра и запястья омертвели там, где во время сна к ним прижимался металл.
Когда рассвело, Дик смог рассмотреть своих соседей. Один из них пожилой, бородатый; другой — с виду лет тридцати, не больше, хотя в волосах его уже пробивалась седина. Этот второй заключённый и был сумасшедшим. Он сидел на краю койки, медленно покачивая головой из стороны в сторону.
— Не смотри на него, — сказал пожилой, — не то он опять начнёт болтать и не скоро угомонится. За что ты тут?
Дик объяснил.
— Меня обвиняют в краже, — продолжал сосед. — Но я невиновен. Просто мне не везёт. Я не осуждаю полицию. Она предпочитает ловить кого следует, но кто-то наклепал на меня, и дело моё, кажется, плохо.
Дик поверил соседу и сказал ему об этом. Тот принялся жать ему руку и клясться в вечной дружбе. Дику стало так жаль пожилого старателя, что он едва не предложил ему после отбытия наказания присоединиться к Престону и Сандерсу для разработки золотоносного участка. Но, вспомнив, что участок принадлежит отцу, промолчал.
После скудного завтрака, состоявшего из грубого хлеба и водянистой каши, Дика вызвали на допрос в небольшое деревянное здание. Там за столом сидел офицер в пышном мундире. Как только Дик вошёл, его схватил сзади полицейский и сильно встряхнул, а затем подтолкнул к улыбающемуся офицеру.
— Садитесь, — сказал офицер сладким голосом, указывая на табурет.
Дик, ошеломлённый, сел.
— А теперь, молодой мистер Ричард Престон, — продолжал офицер, — надеюсь, вы будете вести себя разумно. Иначе вы только повредите себе.
Дик был слишком угнетён, чтобы говорить, поэтому он простокивнул головой.
— Вы знаете, почему вы здесь? — спросил офицер, пристально глядя на него.
Дик кивнул головой.
— Ах так, значит, вы знаете? — Офицер, казалось, был удивлён. — Так почему же?
Дик всё ещё молчал. Он почувствовал, что полицейский вплотную подошёл к нему сзади, чтобы снова встряхнуть, но офицер жестом отослал того на место.
— Лейтенант Дальримпл был ранен во время беспорядков перед гостиницей Бентли. Вы при этом присутствовали?
Дик кивнул головой. Сначала он решил было всё отрицать, но за ночь пал духом. Ему хотелось одного — сказать правду и покончить с этим делом. Он не желал продолжать бесполезную борьбу. Лучше просидеть многие годы в тюрьме, чем терпеть дальше ужас ожидания и неопределённости.
— Имеются свидетели, готовые присягнуть, что вы бросили поленом в лейтенанта Дальримпла, ранили его и помогли спастись бегством одному из вожаков бунта.
Дик откашлялся и с трудом произнёс:
— Да, это правда.
Офицер был удивлён и обрадован.
— Хорошо, очень хорошо. Вот это я называю разумным поведением. Я позабочусь о том, чтобы его зачли в вашу пользу. — Он откинулся на стуле. — Теперь ещё один вопрос. Если вы и тут поведёте себя разумно, то вам это очень поможет. Кому именно из вожаков вы помогли бежать?
Дик молчал. Он забыл о неизбежности этого вопроса и вот теперь корил себя за то, что вообще признал себя в чём-то виновным. Всё равно они будут мучить его, допрашивая и запугивая; изменятся только вопросы, которые они станут задавать.
— Не знаю. Этого я не могу вам сказать.
— Бросьте! — улыбнулся в ответ офицер. — Какой смысл сказать так много и не договорить до конца!
Но Дик сурово стиснул губы. Никто не заставит его выдать Шейна. Офицер внимательно посмотрел на него и отметил упрямый взгляд и плотно сжатые челюсти.
— Лучше скажите нам. Лучше скажите. Право, так будет лучше.
Он быстро приподнялся с места и сверху вниз посмотрел на Дика.
— Не могу, — сказал Дик. — Не хочу.
Он ничего не сказал, хотя сначала его забрасывал вопросами один офицер, потом другой. Наконец они решили на время оставить его в покое.
— Этим вы не облегчаете своё положение, — сказал офицер в конце допроса. — Раз вы бросаете нам вызов, то не можете ожидать хорошего обращения с нашей стороны. Я снова поговорю с вами завтра утром, — посмотрим, что вы тогда скажете.
Дик почти не слушал его. Ему хотелось только, чтобы поскорее кончился допрос. Теперь все свои надежды он возлагал на тот день, когда его повезут к судье — в Мельбурн, без сомнения, ибо власти боялись, что рассмотрение подобных дел в местных судах может вызвать беспорядки. Пусть бы уже с этим было покончено. Если ему предстоит тюрьма, — а тюрьмы ему теперь не миновать, — то пусть он очутится там быстрее и начнёт отбывать наказание, чтобы потом снова стать свободным человеком — человеком, которого никто не сможет обвинять, мучить и допрашивать.
Его отвели назад, в бревенчатую хижину, и втолкнули туда. Проходя в свой угол, он перехватил взгляд, которым обменялись тюремщик и бородатый пожилой заключённый. Дик был так несчастен, что в первый момент не обратил внимания на этот взгляд, но затем сразу понял его смысл. Он припомнил быстро опустившееся веко заключённого и жест, который тот украдкой сделал. Этот человек был полицейским шпионом, подсаженным в камеру, чтобы вытянуть у Дика признание.
Дик сжал губы. О своей роли в восстании он уже поведал шпиону, но это было не страшно, потому что офицеру он тоже всё рассказал. К счастью, он ни разу не упомянул имени Шейна.
Шпион пытался снова втянуть Дика в разговор, но тот уклонился, сославшись на усталость и нездоровье. Дик теперь удивлялся, как он мог поверить этому человеку; голос, который прежде казался ему грубовато-добродушным и искренним, теперь звучал елейно и фальшиво.
В полдень сумасшедшего увели. Потом принесли обед — тушёное мясо. Дик продолжал не поддаваться на льстивые уловки шпиона.
— У меня болит голова, — сказал он.
— Ты мне теперь не веришь, думаешь, я и вправду вор, — ворчал тот. — Вот что получается, когда поговоришь по душам. Но я никак не могу отучиться от этого. Мне всегда кажется, что у всех душа так же нараспашку, как у меня, но когда-нибудь, верно, и я научусь уму-разуму.
— Я совершенно не верю обвинению в краже, — ответил Дик, окончательно убеждённый, что вообще не существовало никакого обвинения. — Но я не могу говорить.
— Нет лучше средства, чем болтовня, чтобы почувствовать себя как дома и забыть про все беды, — сказал шпион с сердечностью, которая была отвратительна Дику, так как он знал, что она напускная. — У меня был друг, которого отчаялись спасти. Он уже совсем кончался. Но какой-то парень, который стоял за окном, начал рассказывать его любимую историю, да всё и перепутал. Тут уж мой дружок не вытерпел. Он сел в постели и заявил, что хочет рассказать её как полагается. История была длинная, и когда он её кончил, то потребовал бренди и сбитых сливок, а потом прожил ещё пять лет и умер только потому, что однажды в ветреный день случайно попал на каток, а это было в Канаде.
Дик не обращал на него внимания, хотя очень сердился на себя за то, что поверил этому человеку и верил бы до сих пор, если бы не перехваченный взгляд. Как это ужасно — не знать, кому верить!
День тянулся медленно. Принесли хлеб и суп, и через открытую дверь Дик увидел небо, обагрённое закатом. Есть Дику не хотелось, но суп он с жадностью выпил. Шпион устал от бесплодных попыток втянуть мальчика в разговор и только время от времени спрашивал, как его головная боль. Мрак сгущался, и вскоре Дик услышал храп шпиона.
Он и сам впал в полузабытье и проснулся оттого, что дверь снова открылась и кто-то остановился на пороге. Вошли двое мужчин, один из них — с фонарём. Свет заиграл на красном мундире.
— Зачем вам это нужно? — спросил грубый голос.
— Он должен подписать бумаги, — ответил другой голос. — А как он это сделает в наручниках? Я слышал, что поступили новые важные сведения. Но я пришёл сюда не для того, чтобы спорить с вами. Я передал вам приказ, и если вы отказываетесь повиноваться, пеняйте на себя.
— Ну ладно, вот он.
Дик услышал, как звякнула связка ключей, и заметил, что стражник снял с неё один ключ.
— Порядок. Я верну его вам, когда приведу заключённого назад.
Дик задрожал от радостного ожидания. Второй голос был ему знаком. Это был голос Шейна. Дик с трудом верил своим ушам, но всё же это был голос Шейна. Надежда внезапно вернулась к Дику, согревая и укрепляя. Он тихо лежал, боясь, как бы что-нибудь не выдало Шейна. Он видел отблеск огня на металле, слышал пыхтенье и сопенье стражника. Позади него ворочался шпион, настороженно вслушиваясь в разговор.
— А ну вставай! Я же вижу, что ты не спишь! — закричал стражник. — Вставай или я подниму тебя сапогом. Капитан хочет видеть твою безобразную физию.
Дик медленно поднялся, позёвывая и моргая, делая вид, будто только проснулся. Стражник схватил его и потащил из хижины.
— Справитесь с ним сами? — спросил он Шейна. — Я уже сменился с дежурства, и всё же меня стащили с постели.
— Старый лгун! — сказал Шейн. — Вы же играли в карты.
Дик пришёл в ужас от безрассудства Шейна, вступившего в перепалку с этим человеком; но ссоры не последовало, стражник только проворчал:
— Ну так я мог бы быть в постели. Я говорил в официальном смысле.
— Тогда возвращайся к своим картам.
— Им следовало послать сюда двоих. Так было бы правильнее.
— Ох, да убирайтесь вы! — сказал Шейн, который, как увидел теперь Дик, был одет в полную форму рядового, с винтовкой через плечо. — Вы думаете, мне не справиться с ребёнком в наручниках?
Стражник, ворча, ушёл, закрыв дверь камеры и заперев её. В тот же миг Шейн схватил Дика за шиворот и потащил за собой, прикрикивая:
— Ну, пошёл, и без глупостей! Ты из молодых, да ранний!
Но едва они миновали освещённый двор и очутились в тени сарая, как Шейн прошептал:
— Идём, дорогой мой! Мы не можем терять ни минуты.
— Сними с меня наручники, — попросил Дик, готовый к любому приключению, как только с него снимут оковы.
— Пожалуй, теперь их уже можно снять, — отозвался Шейн. — Протяни мне руки.
Зажав винтовку между колен, Шейн отомкнул наручники Дика и спокойно положил их вместе с ключом на землю. Дик стал растирать омертвевшие запястья.
— Стой здесь, — сказал Шейн, — пока не услышишь мой свист.
Взяв винтовку на плечо, он обошёл сарай и очутился в освещённом пространстве между этим сараем и стеной. Здесь стоял только один часовой, потому что ему был отлично виден всякий, кто приближался справа или слева. Шейн пошёл прямо на него. Часовой увидел человека в форме и стал в положение «смирно», думая, что ему принесли приказ от караульного начальника.
— Распоряжение лейтенанта Гардайна, — сказал Шейн, подходя к часовому. — Примите!
Он взмахнул винтовкой и ударил часового по голове. Тот упал. Шейн тихонько свистнул. Дик тотчас же обежал вокруг сарая и очутился рядом с ним.
— А ну полезай, — сказал Шейн, положив винтовку на землю и сбрасывая с головы кивер.
Он нагнулся. Дик влез ему на спину, затем встал на плечи и, взобравшись на стену, уселся верхом.
— Прыгай, дурак! — прошипел Шейн.
Дик прыгнул на ту сторону. Шейн поднял винтовку, воткнул её дулом в землю и прислонил к стене так, чтобы получилась опора для ноги. С помощью этой одоры он подпрыгнул, ухватился за край стены, быстро подтянулся на руках и очутился по ту сторону.
Раздался выстрел.
Шейн и Дик пригнулись, хотя в этот момент они были невидимы и находились в безопасности, ибо стена отделяла их от преследователей; затем побежали вниз по склону холма. В нижней своей части улица была хуже освещена, и они почувствовали себя увереннее, когда миновали группу разбросанных в беспорядке домов и достигли погружённой в темноту равнины. Время близилось к полуночи, и почти все костры уже погасли. В конце улицы Шейн сбросил с себя мундир и пояс.
— Сюда! — сказал он и потащил Дика влево. Они побежали по лабиринтам палаток и заброшенных выработок, стараясь обходить места, где ещё горели костры. Наконец Шейн стукнул в дверь одного из сараев. Она тотчас же открылась, и оба беглеца проскользнули в сарай.
— Ну вот мы и в безопасности, Дик, — сказал Шейн тихим, довольным голосом. — Теперь дай-ка мои собственные штаны, а эти я сброшу.
В сарае горела свеча; человек, открывший им дверь, светловолосый русский юноша, подал испачканные глиной штаны Шейна и ушёл, несколько раз пожав руку Дику и Шейну.
— Он почти не говорит по-английски, — заметил Шейн, — вот и старается выразить свои чувства другим способом.
— Ты мне не рассказал, как это тебе удалось всё устроить, — спросил Дик.
— Ох, да тут особенно и рассказывать нечего, — ответил Шейн. — Всё устроил не я, а красный мундир. Я, видишь ли, приметил среди солдат ирландского парня, и вот я и несколько моих друзей, то есть твоих друзей, потому что мы все теперь заодно, подпоили этого парня, а когда он напился до бесчувствия, — раздели его, и я натянул на себя его мундир.
— А он тебя не выдаст?
— Ну нет! Нас было больше десятка, — все ребята, на которых можно положиться, и мы непрерывно вертелись вокруг него, так что чёрта с два сумеет он отличить одного от другого. Он проснётся, и у него будет трещать голова, он больше ни о чём не сможет думать, а к тому времени, когда его кончат пороть, он и об этом забудет.
— Но как же ты заставил стражника отпустить меня?
— Слушай, и я тебе расскажу. Мы уговорили солдата устроить нам пропуск, уверив его, что принесём водку, сделанную на настоящем ирландском винокуренном заводе, и не менее крепкую, чем сама Ирландия. И он дошёл до такого состояния и так хотел выпить ещё, что когда мы все пошли домой вместе с ним, то это не показалось ему странным. Ну а я хорошо знаю местность. Ты, верно, заметил караулку около ворот, где всегда стоит часовой — и днём и ночью. Я прошёл через ворота, обогнул несколько строений, а затем направился прямиком в караулку. Я знал, что лейтенант сидит в отгороженной каморке сбоку, потому что мне пришлось разок побывать там из-за лицензии, которую у меня стащили. Итак, я промаршировал в караулку, потребовал лейтенанта, вошёл в каморку, вынул пистолет и сказал: «Одно слово — и тебе крышка». Ты даже представить себе не можешь, как он побелел. Сначала я всунул ему кляп в рот, затем привязал к стулу, оставив руки свободными. Я сказал ему, что написать, и он написал. Затем я связал ему руки и взял винтовку из пирамиды. Затем вышел и сказал часовому, что офицер велел его не беспокоить. Затем пошёл и вызвал тюремщика, а остальное ты знаешь не хуже, чем я.
Дик, запинаясь, начал благодарить Шейна.
— Не трать слов понапрасну, — сказал Шейн. — Ты однажды спас меня от фараонов. Любезность за любезность! Будем надеяться, что больше нам не придётся заниматься спасением друг друга. Совсем не обязательно, чтобы это превратилось у нас в привычку; что там ни говори, а это дело портит нервы.
— Возражений нет, — сказал Дик. — Но что со мной будет теперь? Мне бы хотелось побывать дома.
Несколько секунд Шейн молча смотрел на него.
— Как ты думаешь, Дик, почему я ушёл из дому?
— Почему?
— Потому что у меня не стало дома, а мать умерла на моих руках в канаве. Помещика звали Паркер. Великий мистер Паркер. Год был неурожайный, и мы не смогли уплатить арендную плату — вся наша деревня, семнадцать дворов. Так вот, Паркер был, как говорится, человеком слова. Он явился и начал бушевать. «Я всегда плачу свои долги, — сказал он. — Я требую, чтоб и со мной обращались так же. Платите», — сказал он. Тогда мы объяснили ему, что не можем заплатить. «Нет таких слов, как „не можем“, „не могу“, — сказал Паркер. — Я человек слова и плачу свои долги, а если б не платил, то был бы готов к тому, что меня выселят из дому. Убирайтесь отсюда со всеми вашими монатками, бездельники вы этакие!» И он всех нас выселил, а чтоб не было лишних разговоров, в один день спалил все семнадцать дворов. «Разве я не могу распоряжаться своим имуществом, как пожелаю?» — сказал Паркер. Так что, видишь, я рано узнал жизнь.
— Таких вещей нельзя допускать! — сказал Дик с горечью, рождённой собственным недавним опытом.
— Нельзя, конечно, нельзя! — ответил Шейн. — В этом-то всё дело. Ты вот теперь научился кое-чему; так не думаешь ли ты, что стоит вступить в борьбу за свободу и справедливость, даже если при нашей жизни из этого ничего не выйдет? Разве скваттеры, которые пытаются здесь всё захватить в свои руки, не те же паркеры? Вот с ними мы и боремся. Только благодаря им полиция стала такой самоуверенной и всемогущей. Так не думаешь ли ты, что стоит сразиться со всеми паркерами этого забавного мира?
— Стоит, — сказал Дик. — Определённо стоит.
Глава 13. В укрытии
Шейн ушёл из сарая до рассвета. Он сказал, что должен посоветоваться с друзьями о дальнейшем. Всё произошло так внезапно, что, кроме самого побега, ничего не было организовано, но кто-нибудь, несомненно, что-нибудь придумает. Дик, голодный, ждал в сарае и мучился желанием скорее увидеть родителей, успокоить их. Порою ему казалось, что лучше всего сдаться полиции и отбыть наказание, каково бы оно ни было. Затем его снова охватывала жгучая решимость не покоряться…
К приходу Шейна голод и чувство одиночества довели Дика до того, что он почти жаждал сдаться, но, завидев лицо друга, отбросил все сомнения. А когда Шейн вытащил кулёк с хлебом, сыром и куском холодного пирога, Дик почувствовал, что сдача была бы проявлением величайшей слабости и постыднейшим из поступков. Слушая Шейна, он съел всё до крошки.
— Ребята послали меня к Фреду Верну. Он немец, но парень хороший. Один из членов Лиги Реформ. Ты на днях слышал его речь. Он немножко болтун, но всё же на него можно положиться. У него есть друг, миссис Вертхайм, и она тебя спрячет. У неё собственный дом. Слишком рискованно прятаться в сараях и палатках, — тебя обязательно кто-нибудь увидит.
— Но какой вообще смысл прятаться? — спросил Дик, снова пав духом. — Неужели мне придётся всю жизнь прятаться от закона?
— Что за странный вопрос, — ответил Шейн. — Я же тебе говорил, что ребята собираются выступить в бой за свободу! Разве ты не хочешь быть здесь, когда настанет этот день?
— Ну а если не настанет?
— Будь покоен, настанет. Но допустим даже, что нет. В этом случае ты тоже ничего не потеряешь, если спрячешься у миссис Вертхайм. Сперва надо выждать, пока вся эта шумиха уляжется, а затем уже двигаться дальше. Тогда ты сможешь улизнуть в Сидней или Новую Зеландию, и никто даже не посмотрит в твою сторону, словно это не ты; а твои близкие смогут последовать за тобой.
— Ты сообщил им, что я на свободе?
— Да, я сказал одному из ребят, чтоб он передал об этом твоему отцу, — мне самому лучше туда пока не ходить. Полицейские, возможно, следят за всеми, кто приближается к спичечной коробке, которую ты называешь своим домашним очагом. А я не хочу наводить их на свой след.
— Правильно, — сказал Дик. Он встал с места, снова полный смелости и решимости. — Прости, что я так раскис. Но теперь обещаю, что всегда буду заодно с вами со всеми, и это моё последнее слово. Больше я не буду тебе докучать.
— Это ещё не называется докучать! — со смехом сказал Шейн. — Просто заговорил пустой желудок, я по себе знаю.
— Ну, так пошли.
Шейн схватил его за руку.
— Ты, видно, совсем рехнулся, если собираешься идти на улицу днём! Придётся тебе подождать темноты, паренёк. А теперь мне пора идти. Я вернусь только после захода солнца, но кто-нибудь принесёт тебе ещё еды, и что бы ни случилось, — не вылезай из сарая, какой бы сильный припадок бродячей болезни с тобой ни приключился.
— Я не сойду с места. Обещаю тебе, — сказал Дик, и Шейн ушёл.
Дик прилёг, продолжая лихорадочно размышлять, но усталость взяла своё, и он уснул. Вскоре после полудня ему принёс мешочек с провизией юноша канадец, который успокоил Дика, сказав, что через несколько минут будет говорить с мистером Престоном.
— Передай ему, чтобы он не тревожился, — попросил Дик. — И ещё скажи, чтоб он заставил Сандерса проверить крепления.
— Тебе повезло, что ты убежал из кутузки, — сказал канадец. — Ты получил бы по меньшей мере пару лет каторжных работ. Уэстерну дали шесть месяцев за участие в беспорядках, а он даже близко не подходил к «Эврике».
— Я не так уж беспокоюсь за себя, — серьёзно ответил Дик, — но всё-таки хотелось бы знать, чем всё это кончится.
— Не изводись понапрасну, брат. Правительству придётся сдаться, и мы заживём по-новому. Это я знаю твёрдо, а большего и не хочу знать. Мы постараемся уладить всё миром, но если будет нужно, — что ж, уладим по-другому. Ты Кеннеди знаешь?
— Я слышал его речь.
— Он хороший человек. Один из членов Лиги. Когда продажные болтуны начинают говорить о том, что всё надо сделать вежливенько, надо объяснить людям, как неправильно они поступают, — Кеннеди встаёт и поёт:
Увещеваний не слушает враг,
Лучшего довода нет, чем тумак!
— Ну вот, может, если сэр Чарлз Хотхэм не возьмётся за ум, то мы дадим ему хорошего тумака и спросим, нравится ли ему это, заешь его собаки!
После ухода канадца Дик доел принесённую еду, и ему захотелось поразмяться. Он стал бродить по хижине и заглядывать во все щели подряд. Иногда мимо сарая проходили старатели, иногда — женщины, а однажды прошёл полицейский солдат. Дик отпрянул от щели в страхе, что он обнаружен, что биение его сердца или лёгкое посвистывание воздуха при дыхании могут выдать его даже в том случае, если солдат ничего не подозревает. Но всё обошлось благополучно. Солдат больше не появлялся.
Затем Дика напугал мальчуган, который, убив на камне жука, начал бесцельно заглядывать в сарай через самые широкие щели. Хотя Дик знал, что снаружи ничего не видно, он решил, что тот выследил его. Мальчишка подошёл к двери и попробовал её открыть, но Дик уже раньше задвинул засов. Он сидел скрючившись, ожидая, что мальчик начнёт колотить по непрочной стене из древесной коры, и одновременно доказывая себе, что попытка открыть дверь — хороший знак, потому что такой карапуз не решился бы на это, если б не был уверен, что сарай пуст.
После этого мальчик ушёл. Дик стал с нетерпением ждать Шейна, теперь уже убеждённый в том, что шаткие постройки на равнине, наскоро сооружённые из кое-как отёсанных эвкалиптовых досок, коры и мешковины, парусины, дранок и жести, — плохое укрытие от полицейских.
Наконец спустились сумерки, и вскоре пришёл Шейн.
— Я не принёс тебе никакой еды, — сказал он. — Но я думаю, ты достаточно съел, чтобы не умереть с голоду, а если ты мило улыбнёшься, то тебя скоро накормят как следует. Возьми, надень это на себя.
Он бросил Дику свёрнутую одежду. Дик развернул свёрток, любопытствуя, какой костюм ему придётся носить.
— О, Шейн! — вскричал он с отвращением. — Это же девчоночье платье!
— Именно! — ухмыльнулся Шейн. — Влезай в него, мой мальчик!
Дик чуть было не взбунтовался, но, поразмыслив, решил, что лучшей маскировки для хождения по шоссе не придумать, и настоял только на праве носить под юбкой свои штаны.
— Только хорошенько подверни их, — сказал Шейн. — Я сведу тебя к миссис Вертхайм. Она живёт возле гостиницы «Герцогиня Кентская», которой заправляет — о чём ты, вероятно, не знаешь — миссис Спанхейк, старинная приятельница Верна. Берн дал клятву, — вернее, целый десяток клятв, — что миссис Спанхейк можно доверять, а миссис Спанхейк ручается головой за миссис Вертхайм. Но тебе нельзя ходить по дороге в собственном обличье, так что залезай скорее в эти финтифлюшки, а я возьму тебя под ручку и отведу в твоё новое жильё.
— Сколько мне придётся там прожить?
— Надеюсь, недолго. Губернатор отклонил требование делегации. Задал ей перцу. Послезавтра на холме Бэйкери будет общая сходка, так что скоро придёт и твоё время.
С помощью Шейна Дик напялил на себя блузу, нижнюю и верхнюю юбку, шаль и чепец. Башмаки были ему малы, их пришлось разрезать, чтобы он мог всунуть в них ноги. Но Шейн сказал, что лёгкая хромота только украсит Дика.
— У тебя будет грациозная, покачивающаяся девичья поступь. Любой полицейский при виде тебя растает и подумает, что ты напоминаешь ему далёкую возлюбленную. И пора нам уже убираться отсюда. Один из наших парней видел, что поблизости бродил тип, про которого известно, что он осведомитель, чёрт его подери!
Они тихонько выбрались из сарая — причём Дик опирался на руку Шейна — и благополучно вышли на шоссе. Затем им пришлось выдержать испытание в виде сверкающих огней и шумной толпы. Дважды полупьяные старатели пытались остановить Шейна и отпускали замечания насчёт его девушки, но Шейн и Дик продолжали идти быстрым шагом и наконец очутились перед домом миссис Вертхайм.
— Она сдаёт квартиры, — сказал Шейн, — но в данный момент у неё только один постоялец — доктор, янки и хороший парень, телом и душой преданный делу свободы. Ты можешь доверить ему свою жизнь, кошелёк и вообще всё, что у тебя есть при себе.
Стучать в дверь не пришлось. Она сразу же открылась, и Дик с Шейном вошли в дом. Хозяйка выкрутила фитиль керосиновой лампы, которая до этой минуты туско горела на подставке в прихожей, и Дик увидел толстую добродушную женщину. Она внимательно разглядывала его.
— Himmel![412] Это же настоящая картина! — сказала женщина с сильным немецким акцентом, воздевая к небу пухлые руки. — Козима!
В конце коридора появилась девочка примерно того же возраста, что Дик, со светлыми волосами, заплетёнными в толстые косы, и блестящими синими глазами.
— Да, тётечка?
Дик пришёл в ярость оттого, что Шейн не предупредил его. В одежде девочки он чувствовал себя ужасно глупо.
— Тебе не стыдно, — сказала миссис Вертхайм Козиме, — смотреть на человека, который, даже переодетый, выглядит таким чистеньким и аккуратным? Я уверена, что он впервые в жизни носит юбку и при этом у него вид более аккуратный, чем у тебя, которая носит её с рождения.
Девочка тряхнула головой, её льняные косы подпрыгнули.
— По-моему, он выглядит ужасно, — холодно заметила она, — и смешно.
Дик уже успел покраснеть, но, услышав оценку своей внешности, почувствовал желание выскочить назад на шоссе, какие бы опасности его там ни ожидали. Он попытался укрыться за спиной Шейна, но тот опрокинул его расчёты, вежливо подтолкнув вперёд.
— Не обращайте на неё внимания, — сказала миссис Вертхайм. — Она очень своевольная девица.
— Можно ли ей довериться? — тихо спросил Шейн у миссис Вертхайм.
— Довериться? — повторила она и повернулась к девочке, которая не мигая враждебно смотрела на Дика. — Козима, где был убит твой отец?
— На баррикадах Дрездена, — резко сказала девочка и, к облегчению Дика, отвела от него взгляд. — И я хотела бы тоже быть там, чтобы умереть с ним и бросить вызов тиранам всего мира.
Шейн и миссис Вертхайм улыбнулись в ответ на этот, исполненный энтузиазма, возглас. Но на Дика он произвёл впечатление. Ему казалась прекрасной эта девочка, которая стояла в светлом круге от лампы, откинув назад золотистую головку, и он забыл о ярости, которая охватила его, когда услышал её оскорбительное замечание.
— Отведи его наверх и покажи, где его комната, — сказала миссис Вертхайм. — В мои годы не стоит лишний раз лазить по лестнице.
— Идём! — повелительно сказала Козима.
Не глядя, следует ли он за ней, она поднялась по лестнице. Дик шёл сзади, крепко держась за перила, потому что башмаки спадали у него с ног.
— Вот твоя комната, — сказала она, резко распахивая дверь. — Надеюсь, ты не храпишь?
— Конечно, нет, — возмутился Дик. — Думаю, что не храплю. До сих пор никто не жаловался.
— Ну так и не вздумай начать теперь, — сказала Козима. — Я сплю в соседней комнате, и если кто-нибудь мешает мне заснуть, я готова убить такого человека.
Она угрожающе посмотрела на Дика, и он поразился, что у девочки с таким нежным, округлым лицом может быть столь свирепый вид.
— Я это уже испытала; несколько месяцев назад здесь жил один постоялец, и он храпел.
— Ты его убила? — спросил Дик, к которому теперь, когда Шейн и миссис Вертхайм не могли больше посмеяться над ним, стало возвращаться мужество.
— Он уехал как раз вовремя, — сдержанно ответила Козима. Она повернулась, чтобы уйти, но остановилась в дверях. — Послушай, ты… как тебя зовут?
— Дик Престон.
— Ну так вот, Дик Престон. Я не думала того, что сказала внизу. Просто мне нужно было поставить её на место. Она цепляется решительно за всё, чтобы прочитать мне мораль. А я не выношу этого. Я ненавижу, когда меня пичкают моралью, поучениями и притчами. Если мне ставят кого-нибудь в пример, я готова убить этого человека. И я просто не выношу уроков музыки. Я с удовольствием убила бы человека, который изобрёл фортепиано; а ты? Я не возражаю против труб, но они не хотят учить меня играть на трубе, они хотят, чтобы я училась играть на фортепиано. Так что, как видишь, я не думала того, что сказала.
— Я рад… — запинаясь пробормотал Дик. — Я…
— Потому что, видишь ли, — сказала она, — ты, по моему, такой хорошенький, что этого не выразишь словами.
И, хлопнув дверью, она шумно сбежала по лестнице.
Глава 14. Приятная передышка
Дик чуть было не отказался перебраться из сарая к миссис Вертхайм, так как думал, что ему будет там очень тягостно. Однако на следующий день — 29 ноября — он вдруг захотел, чтоб события не развивались слишком быстро. Ему понравилась по-матерински ласковая миссис Вертхайм, все интересы которой сосредоточились на кулинарии и Козиме. Он был очарован Козимой. И кроме того, ему удалось немного побеседовать с американцем, доктором Кенворти, человеком, много путешествовавшим и много думавшим.
У доктора Кенворти было что рассказать и о Калифорнии, и о конституции Британии и США, и о народном движении в Европе в 1848 году, во время которого погиб отец Козимы. Козима дополнила его повествование фантастическим описанием революции 1848–1849 годов, в котором не было ни начала, ни конца, и хотя Дик мало что понял из её слов, но всё же был глубоко взволнован.
К тому же миссис Вертхайм замечательно стряпала; Дику никогда ещё не приводилось пробовать блюда, какие она умела готовить; впрочем, даже у самой обыкновенной еды, поданной ею, был совсем особенный вкус.
— Вам нужно прибавить в весе, — сказала она с явным удовольствием. — То-то и оно. Прибавить в весе.
Она вернулась на кухню.
Мир теперь совершенно преобразился для Дика. Всё приобрело в нём новый смысл. Перед мальчиком открылись неведомые дали, и он больше не рассматривал то, что произошло в Балларате, как случайные беспорядки, вызванные обидами нескольких тысяч старателей. Он рассматривал их как звено в цепи непрерывных усилий, прилагаемых людьми во имя мира и справедливости.
Слушая, он думал именно об этом, хотя не мог найти слов для выражения своих мыслей. Происходило нечто великое, и сам он тоже был частью великого. Нечто великое потому, что все усилия добиться свободы каким-то образом объединялись, сплетаясь в силу, которая когда-нибудь станет необоримой.
— Я полагаю, — сказал Кенворти, выставляя вперёд челюсть, — что мы никогда не достигнем полностью того, к чему стремимся. Люди с незапамятных времён кричат о свободе, и всё-таки они ещё очень далеки от неё. Однако всякая малость идёт на пользу дела. Я верю в это. Одно добавляется к другому. И наступит день, когда правда победит. Но даже если этого и не случится, всё равно мы должны продолжать борьбу. Именно борьба делает нас свободными.
— Довольно людям быть рабами, — прервала его Козима, подпрыгивая на софе от распиравшего её желания высказаться. — Я презираю рабов!
— Вы совершенно правы, мисс, — сказал Кенворти. Он снова повернулся к Дику. — Мы свободны, пока боремся, даже если через тысячу лет о нас скажут: «Эти бедняги все были тогда рабами». Да, молодой человек, такова моя философия. Зарубите её себе на носу.
Дик, наотрез отказавшись носить и дальше женское платье, снова надел рубашку и штаны. Однако миссис Вертхайм требовала, чтобы без блузки и чепца он и думать не смел подходить к окнам.
— Кто-нибудь обязательно заметит вас. Вы не женщина, поэтому не знаете, что такое соседи. Женщина, да ещё вдова, сразу поняла бы всё. А впрочем, может, вы и понимаете, раз у вас есть мать; и, надо думать, вы иногда слышите, что она говорит? Большинство людей и живёт-то главным образом на свете для того, чтобы говорить, говорить, говорить, особенно в таком маленьком городке, и если не поостеречься, все они начнут болтать: «У миссис Вертхайм живёт молодой человек, кто бы это мог быть?» И они придут одолжить соли, или спичек, или ещё что-нибудь и скажут: «А кто будет ваш новый жилец, миссис Вертхайм? Не правда ли, красивый парень?» — и всё это с улыбочками, и не успокоятся, пока не докопаются до всего. Но я всюду рассказываю, что к Козиме приехала из Мельбурна подруга, а так как у неё никаких подруг нет…
— Не желаю никаких подруг! Не стану заводить подруг! Противные девчонки! — сверкая глазами, выпалила Козима.
— Как раз это я и хотела сказать, Козима. Зачем тебе нужно было обязательно ввернуть своё слово? Так вот, молодой мистер Престон, поскольку у Козимы нет подруг, никто не станет совать сюда нос, чтобы узнать, которая из них приехала.
Итак, Дик обещал не подходить к окнам, не болтаться в коридоре, не ходить на кухню и не выглядывать во двор. А Козима обещала не выпускать его из виду, чтобы он не забыл об этом.
Позднее в тот же день в городке началось смятение, послышался гул голосов, издалека доносились глухие выстрелы. Кенворти ещё не возвращался, а миссис Вертхайм не разрешила Козиме выйти из дому и разузнать, в чём дело.
— Чем меньше мы будем привлекать к себе внимания, тем полезнее для нас, — сказала она.
Козима и Дик затеяли страстный спор о том, что именно случилось. Дик предполагал, что между конной полицией и старателями произошла небольшая стычка. Козима держалась же мнения, что произошла всемирная революция, направленная против всех тиранов и рабовладельцев. Миссис Вертхайм сказала, что она не видывала такого возбуждения со времени скачек во Флемингтоне, на которых была год назад.
Однако около десяти часов вечера явился Шейн, и Козима сразу же бросилась к нему, требуя, чтобы он подтвердил её догадку о событиях этого дня.
— Вы могли бы ошибиться и сильнее, — сказал Шейн. — Дела идут неплохо. Губернатор прислал войска, чтобы запугать нас. Ребята забросали камнями полицейских и атаковали солдатню из Мельбурна, хотя у тех с собой были две пушки. Это было в лощине Уорренхайт. Они отрезали обоз и перерыли несколько повозок в поисках ружей и патронов. Но, к сожалению, им не повезло. Там было только продовольствие и обмундирование и всякие такие вещи. Они преследовали войска почти до ворот правительственного лагеря. Но потом оттуда на них ринулись конные полицейские и ранили нескольких наших. Мы отошли, а солдаты залезли обратно в лагерь, и, надо сказать, вид у них был плачевный.
— Сколько вы убили? — с восхищением спросила Козима.
— Ну, чтобы быть точным, мисс, — сказал Шейн, — должен признаться, — ни одного. Хотя нескольких ранил.
— Они наёмники тирании! — воскликнула Козима, и глаза её засверкали.
— Ну-ну, не растравляй себя, а то у тебя будет несварение желудка, — сказала миссис Вертхайм. — Я бы не позволила тебе есть и яблочный пирог и драчену, да ещё после ростбифа, если б знала, что ты потом договоришься до такого состояния. Теперь ты не будешь спать целый месяц.
— Неправда! Отвратительная неправда! — ответила Козима и добавила с торжеством: — Я никогда не сплю. Я и не думаю спать, пока не будет провозглашён Свободный Мир.
— Осторожнее на поворотах, — сказал Шейн, почёсывая затылок. — Мы сделаем всё для вас, что сможем, мисс, но вам придётся туговато, если на это потребуется год или вроде того.
— Но ведь года не потребуется, правда? — обратилась Козима к Дику.
Дик покраснел.
— Конечно, нет.
Он знал, что Шейн в душе смеётся над ним, и хотя готов был признать, что высокие принципы Козимы выглядели иногда ребяческими в применении к действительности, всё же не мог согласиться с Шейном и миссис Вертхайм, которые явно считали их смешными.
— Ну, оставим пока политику в покое, — сказала миссис Вертхайм. — У меня в печке вкусный пирог, и, может быть, мистер Корриген согласится разделить с нами наш скромный ужин.
— Безусловно, — отозвался Шейн, — и вот доказательство моей правоты, когда я говорил, что у вас золотое сердце и проницательность патера Мак-Гайра. Впрочем, прошу прощения, вы, наверно, не знаете его. Он был священником в моей деревне и нагонял на меня ужас в детстве, потому что от него нельзя было ничего утаить. Никогда не забуду дня, когда я стоял, дрожа, перед ним, а он орал: «Не вздумай врать, Корриген, говори, что ты прячешь в шапке!» Я ему говорю: «Ваше преподобие, там только большая картофелина, которую я подобрал на дороге», — а он в ответ: «Теперь я понимаю, почему у меня так плохо уродился картофель». Ох, он был великий человек!
— И молодому мистеру Престону тоже надо перекусить. — Миссис Вертхайм благожелательно улыбнулась. — Он растёт и нуждается в питании. Ему это необходимо. В его возрасте нужна пища, которая укрепляет кости.
— В моём тоже, — сказала Козима.
— Ни в коем случае, — возразила миссис Вертхайм. — Ты и так съела больше, чем нужно, и теперь не будешь спать всю ночь.
— У меня столько же костей, сколько у него, — возмутилась Козима. — Если вы не дадите мне есть, я больше никогда не буду заниматься музыкой. Изрублю топором фортепиано. Убью учителя, пусть даже это будет милый и добрый герр Бромбергер и пусть у него будет пятеро детей, которых я ненавижу!
— Ну ладно, так и быть на этот раз, — со вздохом согласилась миссис Вертхайм. — По случаю гостей. Но ты ведь знаешь, как ты мучаешься от несварения.
И, прежде чем Козима успела открыть рот, миссис Вертхайм вышла из комнаты.
— Какая бесстыдная ложь! — сказала Козима. — У меня в жизни не было несварения. Ни единого раза. Она это говорит, чтобы унизить меня.
— Не принимайте это близко к сердцу, — сказал Шейн. — У меня, признаюсь, много раз было несварение.
— Да, но вы — мужчина! — топнув ногой, воскликнула Козима. — Мужчине всё можно. Не то что девочке. Ох, если бы я была мужчиной!
— Ну-ну! — сказал Шейн. — Вы же взяли верх над вашей тётей. Вам дадут кусок пирога.
— Да, это верно, — сразу утешилась Козима.
Дик никак не мог решить, была ли Козима вправду самой красивой девочкой на свете или ему это казалось: до сих пор он ещё ни разу не вглядывался ни в одну девочку. И он дал себе слово внимательно рассматривать всех, кого он встретит, чтобы собрать материал для сравнения.
— Сыграй нам, Козима! — крикнула миссис Вертхайм из коридора.
— Не хочу! — отозвалась Козима. Потом она обратилась к Дику и Шейну: — Я раз слышала человека, который замечательно играл на фортепиано. Он изображал грозу, и это была настоящая гроза. Но как я ни стучу по клавишам, у меня всё равно так не выходит, хотя, — добавила она с гордостью, — однажды я даже порвала струну.
— Пожалуйста, сыграйте нам что-нибудь, — сказал Шейн, опередив Дика, который тоже хотел попросить Козиму об этом, но был обескуражен её явным отвращением к фортепиано. — Только не грозу, а что-нибудь помелодичнее.
— С удовольствием.
Козима подошла к инструменту, села на табурет, сгорбилась и подняла руки, плотно прижав локти к бокам и неуверенно растопырив пальцы. Она громко и очень тщательно отбарабанила песню: «На ней был веночек из роз».
— Отвратительно, правда? — спросила она.
— Да нет, что вы, милая барышня. Так же красиво, как и ваше личико, — ответил Шейн. — Именно эту песню я люблю слушать после драки с полицейскими и солдатней. Сыграйте её нам ещё раз.
Козима снова заиграла, — так же тщательно и без всякого выражения.
— Помоги мне накрыть на стол, Козима! — позвала миссис Вертхайм.
— Не хочу! — ответила Козима.
— Я очень голоден, — бросил вскользь Шейн.
— Ах, бедняга, вы голодны? — Козима вскочила с табурета. — Сейчас помогу тёте побыстрее управиться с ужином.
Она выбежала из комнаты.
— Забавное существо. — Он снисходительно покачал головой. — Девочка, — что с неё возьмёшь!
Дик воззрился на него, потрясённый тем, что человек может быть так слеп.
Глава 15. Восстание
Следующий день прошёл так же приятно. Невозможность принять участие в сходке старателей на холме Бэйкери огорчила Дика меньше, чем огорчила бы в прежние дни, когда рядом с ним не было Козимы. Зато Козима очень волновалась и хотела тайком удрать из дому.
— Я переоденусь мальчиком, — предложила она, — а ты снова оденься девочкой, и нас никто не узнает.
— Правильно, не узнают, — заметил Дик, — и меня не пустят на сходку.
Кенворти вернулся домой, не дождавшись окончания сходки, и рассказал Дику, что старатели водрузили на флагштоке знамя восстания — Южный Крест. Оратора, призывавшего действовать только увещеваниями, чуть не разорвали на клочки. Старатели были разгневаны и полны воли к действию. На сходке было принято несколько резолюций. В одной из них осуждались слова помощника главного судьи в Мельбурне, который назвал порочной и преступной борьбу английских и ирландских рабочих за лучшие условия жизни.
Потом явился Шейн. Он рассказал об остальных резолюциях. Старатели избрали исполнительный комитет Лиги Реформ. Был составлен протест против поведения военных, которые вводили в мирные посёлки отряды солдат с примкнутыми штыками и приказывали полицейским и солдатам стрелять в народ, не прочитав предварительно вслух закон о мятежах. Была также осуждена вся система выдачи лицензий. Старатели единогласно решили сжечь все лицензии и наотрез отказаться от новых. Что сможет сделать правительство с десятками тысяч нарушителей закона о лицензиях?
— И мы их действительно сожгли, — рассказывал Шейн. — Вам бы надо было посмотреть, как проклятые бумажки летели в огонь — сотни и сотни этих бумажек! Неплохо было погреть руки у такого костра. И конечно, старатели во всех других крупных поселениях последуют нашему примеру. Пришёл конец тирании военщины.
— А как, по-твоему, отнесётся к этому правительство? — спросил Дик.
— Придётся им на всё согласиться не поморщившись, — ответил Шейн. — Что они ещё могут сделать?
— Нет, они не подумают соглашаться, — спокойно возразил Кенворти. — Всё не так просто. Кого поддерживает правительство? Английских землевладельцев. Кто входит в законодательное собрание? Ставленники правительства и представители скваттеров — людей, которые заграбастали всю землю и во что бы то ни стало желают сохранить за собой свои огромные поместья. Они будут бороться с вами до последней крайности. Дело не в том, что нравится полицейским и солдатам, а в том, что им прикажут делать.
— Ну и что же из этого следует? — спросил Шейн.
— Боритесь и победите! — Кенворти хлопнул Шейна по спине. — Я с вами до конца.
При таком обороте событий Дик почувствовал к ним новый прилив интереса. Ему хотелось знать, что предпримут власти. На следующее утро Козиму отправили за покупками и за новостями. Вернувшись, она сообщила, что полиция и солдаты предприняли новую проверку лицензий, ещё более беспощадную, чем в прошлый раз. Старателей арестовали скопом, прогнали по всей долине и обошлись с ними грубее, чем когда бы то ни было.
— Я слышала такую страшную историю! — продолжала Козима. — Её рассказал в лавке один человек. Священник. Он рассказал, что отправил своего слугу отнести собранную среди благотворителей еду голодающим старателям. Полиция арестовала слугу, хотя он вовсе не был старателем. Он слабый калека и поэтому попросил, чтобы его не тащили через всю долину, а отвели прямо в суд, и тогда конный полицейский свалил его на землю и избил. В конце концов суд приговорил его к пяти фунтам штрафа, а когда священник заплатил их, слугу снова вызвали в суд и обвинили в нападении на полицейского и снова приговорили к пяти фунтам штрафа.
Диком овладела утихшая было ярость. Он шагал взад и вперёд по комнате.
— Я не могу оставаться здесь, когда кругом происходят такие события! — сказал он. — Пусть меня узнают, но я должен идти.
Козима подбежала к нему, обняла и расцеловала.
— Мой герой! — воскликнулаона и тут же окатила Дика холодной водой, добавив: — Я бы хотела расцеловать вас всех!
Дик поспешил к холму Бэйкери. Отряды полицейских и солдат, предшествуемые цепями стрелков и охраняемые с флангов кавалерией, построившись в боевые порядки к югу от правительственного лагеря, шли теперь на прииски. Старатели отступали, временами останавливались, но задержать противника не могли. Взяв пленных, полицейские вернулись в лагерь. К тому времени, когда Дик добрался до холма Бэйкери, там уже снова развевалось синее, усеянное серебряными звёздами знамя повстанцев.
На холме Дик увидел толпу людей, полных энтузиазма.
Питер Лейлор, не расстававшийся с винтовкой, стоял на пне, откуда произносились речи, и кричал:
— Стройтесь, ребята!
Старатели торопливо сбегались, держа в руках такое оружие, какое им удалось раздобыть, и, повинуясь словам и жестам Лейлора, строились в длинные неровные ряды. Дик встал в ряд, самый близкий к Лейлору. Незнакомый человек заносил в книгу названия образовавшихся отрядов и имена их командиров.
Дик видел, как к Лейлору подбежал итальянец Рафаэлло. Лейлор взял его за руку и показал на группу невооружённых немцев и итальянцев.
— Синьор, мне нужен как раз такой человек, как вы. Скажите этим джентльменам, что, если они не могут раздобыть огнестрельное оружие, пусть каждый возьмёт кусок железа дюймов шести в длину и прикрепит к дубинке. Такой пикой они вполне смогут пронзить тиранов насквозь.
Рафаэлло отвёл своих людей в сторону и передал им указание Лейлора. Раздались оглушительные крики, угрожающие и весёлые. Люди бегали взад и вперёд, спорили, ободряли друг друга, делились новостями, обращались к Лейлору за подтверждением какого-нибудь приказа или за помощью в затруднительном положении. Только что назначенные командиры ревностно обучали своих людей начаткам военной дисциплины. Вооружённые старатели, дефилируя перед Лейлором, произносили слова присяги повстанцев:
— Клянёмся Южным Крестом нерушимо стоять. друг за друга и бороться, защищая наши права и свободу!
Дик увидел Шейна и вышел из рядов, желая перемолвиться с ним словечком. Шейн обменялся с Диком рукопожатием и дал ему револьвер.
— У меня их два, малыш. — Он толкнул Дика к крупному румяному немцу. — Знаменитый борец за свободу Фред Верн, а это патриот Дик Престон.
— Искренне рад знакомству с тобой, товарищ! — сказал Верн, стискивая ручищей руку Дика, а потом потрясая длинной шпагой. — Пришёл час расплаты с угнетателями. Я, Фредерик Верн, клянусь в этом. Горе тому, кто встанет на моем пути. Месть моя будет ужасной, и говорю я это в здравом уме и твёрдой памяти. Дрожите, деспоты земли, ибо Фредерик Верн обнажил свою шпагу. Пусть исполнится правосудие даже наперекор небесам.
Потом он понизил голос и доверительно сказал Дику:
— Я храбрый, очень храбрый человек. Почему мне не признаться в этом? Ты сам увидишь. Ты тоже не из робких. Для такого малыша ты исполнен доблести, и я жму тебе руку с большим восторгом.
— Пойдём познакомимся с Лейлором, — сказал Шейн, уводя Дика.
Верн на прощание помахал им шпагой. Кричали командиры, проверяя по спискам своих людей. Кто-то стрелял из револьвера.
Лейлор стоял на пне, озираясь по сторонам. Когда Шейн с Диком подошли к нему, он слез с пня.
— Это мой друг, — сказал Шейн.
Лейлор пожал Дику руку.
— Хорошо быть среди друзей, — сказал он. — Всегда хорошо, а в такое время особенно. Мой друг, мы больше не балларатские старатели, мы идём по следам греков в Фермопилах, мы выходим на арену истории.
Он повернулся и крикнул красивому ясноглазому юноше канадцу:
— Капитан Росс, пусть люди рассчитаются по два!
Передав приказ другим командирам, Росс подбежал к флагштоку и снял знамя. Потом, привязав его к пеклке, он стал во главе повстанческих отрядов.
— К холму Эврика, защитники Южного Креста! — крикнул Лейлор, и колонна двинулась.
Кое-кто нёс на плече винтовку, другие тащили наточенные пики, у третьих были кирки или лопаты. Дик шёл рядом с Шейном. У костела повстанцы свернули и пошли через лощину. Отряд Дика был одним из передовых. Поднявшись на холм Эврика, мальчик оглянулся. Он увидел, что сдвоенные ряды повстанцев растянулись по всей широкой лощине и её дальнему склону до самого костела.
Когда последний ряд взобрался на холм, Лейлор велел строить баррикаду — не столько в качестве укрепления, сколько для того, чтобы образовать заслон, за которым можно было бы без помех проводить учения и заниматься подготовительными работами. Размещённый в отгороженном лагере штаб повстанцев должен был внести большую чёткость в ход восстания.
Пространство площадью приблизительно в акр было наспех обнесено оградой из брёвен, перевёрнутых телег, камней и всякого хлама. На холме не было настоящих шахт, потому что никто не знал, проходит ли там золотоносная жила, но несколько «сторожей» жили там на своих участках и от нечего делать вырыли неглубокие ямы. Несколько палаток этих старателей оказались в зоне, отведённой под лагерь; в них-то и расположился Лейлор со своим штабом.
Людям разрешено было разойтись. Некоторые старатели вернулись в долину, другие рьяно принялись строить ограждения, третьи, соединившись в небольшие отряды, продолжали учение. В каменном очаге развели огонь, и кузнец начал ковать наконечники для пик.
Из всех старателей, собравшихся на холме Бэйкери, походным порядком в лагерь пришло около трети. Иные с осторожностью относились к мысли о вооружённом сопротивлении; другие хотели посмотреть, как будут развиваться события; некоторые разбрелись по своим хижинам и палаткам, намереваясь по первому призыву присоединиться к повстанцам, но пока желая спокойно есть и спать.
Лейлор не мог держать под ружьём большое количество людей: для этого у него не было ни командиров, ни нужных средств. Он собирался сделать из лагеря командный пункт, где можно было бы с максимальной быстротой и пользой для дела продолжать обучение добровольных отрядов.
Командиры, Верн и второй немец — Льюмен, Кенворти и второй американец — Макджил, Лейлор, Рафаэлло и несколько других собрались неподалёку от лагеря, в лавке, которую содержал ирландец, некий Шенахан. Там они составили Декларацию независимости и избрали Лейлора главнокомандующим.
В нескольких ярдах от лагеря Дик с Шейном нашли незанятый полуразрушенный сарай и устроили там себе ночлег. Когда спустились сумерки, повстанцы развели костры, и под летним звёздным небом зазвучали песни ирландских повстанцев, английских чартистов, немецких борцов на баррикадах. Вблизи от Дика пела группа чартистов, арестованных в Англии за то, что они добивались всеобщего избирательного права с тайной подачей голосов, и приговорённых к каторжным работам с высылкой в Австралию. Дик был глубоко взволнован их песней.
Я видел купы гордых ив
В полях отчизны милых.
Стихий бушующих порыв
На землю повалил их.
Огнём сверкает небосклон,
Рычит, как зверь голодный:
Пусть будет молнией сожжён
Враг хартии народной.
Не успели чартисты замолчать, как зазвучал молодой ирландский голос:
Пусть клич наш слышит твердь:
Победа или смерть!
О сын Ирландии,
Сражайся за свободу!
Гони из сердца страх,
Врага повергни в прах,
Рази безжалостно
И конных, и пехоту.
Потом, словно прощаясь со старой жизнью, хор голосов запел балладу, сложенную австралийскими беглыми каторжниками:
По течению Сиднея, милая,
По теченью реки
Я уйду на рассвете, любимая,
По теченью реки!
Командование выделило вооружённые отряды для охраны шахт. Повстанцы теперь рассматривали себя как законную власть и хотели поддерживать порядок. Другие отряды собирали оружие, амуницию и боевые припасы.
— Начало положено, — сказал Шейн Дику, зевая и потягиваясь. — Скоро этот мир станет вполне подходящим местом для житья.
Глава 16. Снова Томми
На другой день, в пятницу, учения продолжались. Член Лиги Реформ, Холиок, был послан в Крезвик для вербовки волонтёров. Дик с Шейном и полдюжиной других старателей образовали отряд для сбора оружия — любого оружия, какое только удастся найти. Лейлор приказал выдавать расписки за всё отобранное имущество, чтобы владельцы впоследствии могли потребовать оплаты.
Старатели, входившие в отряд, направились прежде всего к правительственному лагерю. Там они увидели, что повсюду расставлены часовые и дозорные, а постройки лагеря укреплены брустверами, сложенными из дров, связок сена и мешков с зерном, взятых из правительственных складов. Потом отряд приступил к обходу лавок.
Большинство лавочников доброжелательно относилось к старателям — своим постоянным клиентам. К тому же они были недовольны полицией, которая до того увлеклась преследованием повстанцев, что совершенно перестала обращать внимание на воров. А так как почти все лавки размещались в строениях, больше похожих на палатки, чем на дома, то кражи были делом нетрудным. Потеряв надежду на помощь полицейских, лавочники решили организовать ночные дозоры. Дику не раз случалось видеть, как, отойдя подальше от жилья, они упражнялись на рассвете в стрельбе из револьвера по листку бумаги, прибитому к дереву вместо мишени.
Отряд славно поработал в это утро: удалось добыть четыре револьвера, допотопный кремневый аркебуз, малайский крис, несколько пачек зарядов и так называемую «вертикалку» — двуствольное ружьё, у которого верхний ствол представлял собой винтовку, а нижний — дробовик, причём оно заряжалось с дула.
В полдень, закусив хлебом и сыром, Дик улучил подходящую минуту и ускользнул, чтобы повидаться с родными. Мистер Престон был настроен весьма мрачно и предрекал неудачу восстания, но миссис Престон так обрадовалась, увидев Дика на свободе, здоровым и невредимым, что её радость взяла верх над унынием мужа. Дик вернулся в лагерь повстанцев, принял участие в учениях, а потом уснул крепким сном в сарае, вместе с Шейном, полный уверенности в благополучном исходе дела.
На следующее утро, в субботу, они снова отправились собирать оружие. Ружей и зарядов не хватало. У командования не было никаких запасов, и оно не могло обеспечить всем необходимым старателей, которые сотнями стекались в лагерь. Поэтому Лейлор старался возможно больше занять людей военной подготовкой, предоставляя им искать себе приют где придётся. Из Крезвика пришла большая группа старателей, но из-за отсутствия пищи и пристанища большинство вернулось через перевал в Крезвик, а некоторые ушли на равнину к друзьям.
В одной из балларатских лавок — пятой по счёту, которую посетил отряд Дика, — хозяин заявил, что он уже снабдил несколько отрядов. В доказательство он предъявил расписки. Дик прочёл безграмотные каракули:
«Получено из лавки в Балларате 1 пистолет, для камитета X. Х-ю Маккарти. — Да здравствует народ!»
«Камитет Лиги Реформ — 4 выпивки, читыре шиллинга; 4 пирога для патреотов ночного дозора — X. Р.».
Затем лавочник показал ещё одну расписку:
«Получено 2 фунта 15 шил. и шесть унций золота для Лиги Реформ. А. Блейк».
— Разве это подпись Блейка? — спросил Дик у Шейна. Блейк был военным министром повстанцев, и Дику случалось видеть его подпись. — Да Блейк и не стал бы заниматься сбором денег. У него и без того хватает дела в лагере.
— У человека, который выдал эту расписку, была чёрная борода, — сказал лавочник. — Сказать по правде, я не стал смотреть на его подпись. Он сказал, что он из лагеря повстанцев, и с ним было полдюжины ребят, которые так размахивали револьверами, что у меня пропала охота задавать вопросы. Я их вижу в первый раз, но мне подумалось, что они, может быть, из Крезвика. Разве это не так?
— Это жульничество, — сказал Шейн. — Какие-то грязные негодяи шляются тут под видом повстанцев и грабят лавки.
Они поспешно вышли и стали выяснять, не побывал ли человек, именующий себя А. Блейком, в других лавках на этой улице. Некоторые торговцы давали сборщикам деньги без всякой проверки, но были и такие, которые требовали у них удостоверения на право сбора средств и настаивали, чтобы их отвели к Лейлору, Верну или другим, известным им, вожакам восставших.
Наконец отряд набрёл на лавку, из которой, по словам хозяина, жулики ушли минут десять назад.
— Вперёд! — радостно закричал Шейн. — Мы идём по свежим следам.
Они выбежали на улицу. Дик, который отстал, чтобы поправить свой патронташ, заметил в небольшом переулке вывеску «Бакалейная торговля» и решил, что не мешало бы порасспросить её хозяина, раньше чем догонять товарищей. Он добежал по переулку до лавки и вошёл в неё.
Бакалейщик стоял у небольшой конторки, окружённый десятком людей подозрительного вида. Дик уже собирался заговорить, но вдруг узнал их главаря. Это был Томми Китаец. Около него стоял человек с чёрной бородой. Дик сразу понял, что он оказался один лицом к лицу с бандитами.
— А ну-ка гони монету, — говорил Томми.
— Но я вас совсем не знаю, — лепетал бакалейщик, седой человек с крючковатым носом. — Я не отказываюсь поддержать правое дело, но пусть ко мне пришлют кого-нибудь, кого я знаю! Да и деньги-то лежат в банке, а на руках у меня всего несколько шиллингов. А в банке сейчас ничего не получишь. Я слыхал, что солдаты укрепляют его, так как это единственное каменное здание в Балларате.
Дик повернулся было, собираясь скорее ретироваться, но один из бандитов схватил его за локоть.
— Это ещё кто такой?
Он вытащил Дика на середину лавки.
— Кто бы ни был, а вооружён он как следует, — отозвался чернобородый, взводя курок револьвера.
— Свой, свой, — ответил Дик, делая вид, что принимает бандитов за товарищей-повстанцев.
— Ах вот как, свой? — сказал Томми, потирая подбородок. Он пристально и угрожающе уставился на Дика. — Сдаётся мне, что где-то я уже видел твою физиономию, а? — Он ещё раз вгляделся. — Ну как же! Конечно, видел!
— Не пойму, о чём вы тут толкуете, — ответил Дик, пытаясь скрыть свой испуг.
— Ладно, ладно, — продолжал Томми и выхватил из ко буры Дика револьвер. — Для такого молокососа эта игрушка, пожалуй, тяжеловата. Держи-ка его покрепче, Джейкс. Мы займёмся им немного погодя.
Он повернулся к бакалейщику.
— Ну давай пошевеливайся, некогда нам с тобой канителиться! Гони десять фунтов, не то придётся стащить с тебя сапоги и поджарить пятки твоими же спичками.
Бакалейщик отошёл в сторонку и, причитая, стал перебирать какие-то ящики. Бандит, державший Дика, стоял так, что его кобура с револьвером прижалась к боку мальчика. Владелец револьвера был совершенно поглощён переговорами своего предводителя с лавочником.
Дик внезапно вырвался и схватил револьвер.
— Ни с места! — заорал он.
Все бандиты обернулись к нему, некоторые подняли руки. Но не успел Дик вновь раскрыть рот, как кто-то сзади ударом кулака вышиб у него из руки револьвер. Это был не замеченный Диком бандит, который стоял прислонившись к двери.
Томми злобно рассмеялся.
— Здорово сработано, Карл! В своё время мы рассчитаемся с этим задорным петушком. Он выдал себя с головой.
Но тут бакалейщик, о котором все забыли, поднял крышку одного из ящиков и извлёк громадный кольт с взведённым курком.
— Как бы не так! — сказал он. — Руки вверх!
Дик мгновенно хлопнулся на пол, чтобы не стоять на линии прицела. Грабители попятились к стене.
— А ну-ка, паренёк! Отбери у них оружие! — приказал бакалейщик.
Дик метнулся в сторону и отнял револьверы у троих. Один он сунул себе в кобуру, а два других бросил на пол возле бакалейщика, спустив сперва курки с боевого взвода. Затем он перебежал на другую сторону и начал отбирать оружие у остальных. Но он успел перебросить только три револьвера: здоровенный швед, стоявший позади других, внезапно схватил его, поднял и швырнул в бакалейщика.
К счастью, швед не мог как следует размахнуться, — иначе Дик сломал бы себе шею. Помогло и то, что один из бандитов в эту минуту, по неловкости, оказался на дороге, и Дик врезался в него со всего размаха. Бандит грохнулся на пол, и это смягчило падение Дика. Всё же удар был так силён, что у мальчика затрещали кости. Дик лежал совершенно ошеломлённый на стонущем бандите, не понимая, что произошло.
Дикая какофония звуков раздавалась в его ушах. По лавке бегали люди, прозвучал револьверный выстрел, послышался чей-то стон. Затем грянул новый выстрел, и едкий запах порохового дыма защекотал Дику ноздри. Он попытался встать, но кто-то, пробегавший мимо, придавил ему руку. Всё же ему удалось выбраться из свалки и дотащиться до старого лавочника, который сидел, прислонившись к стене, белый как мел. Бандиты пробили отверстие в стене, сколоченной из тонких досок, обтянутых парусиной, и исчезли.
— Ты ранен, Дик? — спросил Шейн, подбегая к нему.
— Нет, — ответил Дик, — только левая рука болит да чувствую себя так, как будто меня лягал целый табун лошадей.
— Ладно, этому парню досталось ещё больше! — Шейн нагнулся над бандитом, лежавшим на полу. — Кто-то двинул его в висок, когда они удирали, так что бедняга готов. — Он распорядился убрать труп, а сам заглянул в отверстие, через которое скрылась банда. — Удрать-то они удрали, но урок получили славный. В другой раз крепко подумают, прежде чем рискнут прикрываться именем Южного Креста.
— Но как вы попали сюда? — спросил Дик, понемногу приходя в себя.
— Боб Джулиэн заметил, как ты побежал в переулок, и, когда ты не вернулся, сказал мне об этом. Мы решили посмотреть, в чём дело. К тому же мы сбились со следа негодяев.
— Ими верховодил Томми Китаец.
— Вот оно что! — сказал Шейн. — Я слышал, что он спутался с бандой беглых каторжников. Похоже, что в здешних зарослях скрывается немало всяких бродяг. Это не то, что честные беглецы прежних времён, которые мечтали только об одном — свободно вздохнуть после кандалов и прочих прелестей каторги.
Глава 17. В ловушке
Под вечер того же дня депутация вождей Южного Креста, под защитой белого флага, направилась в правительственный лагерь с требованием рассмотреть вопрос о старателях вообще, а кроме того, освободить людей, арестованных в четверг, потому что они не более виновны, чем тысячи других золотоискателей, которые также сожгли свои лицензии.
Офицеры и чиновники, принимавшие депутацию, пообещали справедливо и дружественно разобраться в деле, после чего депутаты вернулись в лагерь повстанцев.
И в лагере, и на Красном Холме всё ещё продолжались учения, но из-за тесноты и отсутствия припасов не было никакой возможности собрать всех людей вместе. Всё внимание командования было сосредоточено на дороге Мельбурн — Джилонг, по которой должны были прибыть форсированным маршем сильные подкрепления для правительственного лагеря. Вдоль этой дороги, поблизости от горы Уорренхайп, были расставлены дозоры. Но большая часть старателей продолжала жить в своих палатках на равнине.
После перенесённых волнений и напряжения первых дней восстания все испытывали потребность как-нибудь отвлечься; самые необузданные разбрелись по пивным и дансингам, где могли растратить хоть часть запаса энергии.
В этот вечер, когда, казалось, все отдыхали от военных приготовлений, Дику захотелось вновь повидаться с родными. Шейн занялся игрой в ландскнехт с товарищами, но Дик не любил карты. Он отправился домой один. Однако мысль о миссис Вертхайм и Козиме заставила его свернуть на главную улицу. Он подошёл к их жилищу и постучался.
Дверь открыла Козима.
— Входи, — сказала она, — только вытри сперва ноги.
Дик вошёл и спросил, где миссис Вертхайм.
Козима ответила, что она ушла к своей приятельнице, миссис Спанхейк.
— Ах, как бы мне хотелось быть в лагере вместе с вами! — сказала она, сжимая руки. — Как ты думаешь, если я переоденусь мальчиком, возьмут меня?
— Ты ведь сама знаешь, — тётя всё равно разыщет тебя и заставит вернуться, — ответил Дик. — А кроме того, там не слишком-то удобно.
— Я презираю удобства, ненавижу удобства! — воскликнула Козима. — В доказательство я буду сегодня спать на полу. Не могу тебе сказать, как я ненавижу и проклинаю свою перину.
— Но тебя всё равно узнают, — сказал Дик, — пойдут тогда насмешки и всякие такие штуки.
— Я готова пойти на унижение, лишь бы это принесло пользу общему делу, — возразила Козима. — Но, пожалуй, ты прав.
Дик не сомневался в том, что он прав и что насмешки над Козимой ничуть не помогли бы восстанию. Насмешки над Козимой, — одна мысль об этом для него была невыносима.
— Ты страшно помогла мне, — сказал он, покраснев, — если только это можно назвать пользой.
— Чем же я тебе помогла? — спросила Козима.
— Благодаря тебе мне всё стало видеться по-другому. Ты… но я не сумею этого объяснить.
— До сих пор я думала, что только благодаря виски людям всё видится по-другому.
— Я хотел сказать, что ты помогла мне узнать правду о жизни.
— Это было бы чудесно, — печально сказала Козима. — Знаешь, мне иногда приходит в голову, что я страшно тщеславна, и тогда я нарочно мажу себе нос сажей и выворачиваю чулки наизнанку, и тётя считает меня просто неряхой. Но она ошибается… — Козима помолчала, потом глубоко вздохнула и наконец решилась: — Это я смиряю гордыню. Вот! — Она подождала, пока её слова дойдут до Дика, и продолжала: — Только это тайна, я ещё никому об этом не говорила, и если ты проболтаешься, то я сейчас же постригусь в монахини, потому что не смогу никому глядеть в глаза от стыда.
— Я лучше умру, чем скажу кому-нибудь, — взволнованно сказал Дик.
Он не совсем понимал, в чём состоит тайна, которую ему было велено хранить, так что мог дать это обещание с чистой совестью.
— Ну смотри. Куда ты идёшь теперь?
— Нужно повидаться с отцом и матерью. Они, вероятно, тревожатся.
— Можно мне пойти с тобой?
— Конечно, я был бы очень рад. Но твоя тётя на меня рассердится…
— Вовсе нет, она всегда сердится только на меня. Из-за всего.
— Но ведь тебе нужно присматривать за домом…
— Пусть сам присматривает за собой. Как славно было бы, если бы воры утащили фортепиано! Ты только подожди минутку.
Она побежала вверх по лестнице. Дик отлично знал, что миссис Вертхайм запретила бы Козиме идти с ним, но он был так потрясён непостижимой тайной, которой с ним поделились, и так хотел быть достойным доверия, что не мог отказать Козиме в её просьбе. И затем ему очень хотелось прогуляться с нею. Через несколько минут он услышал её шаги на лестнице и уже раскрыл рот, чтобы объяснить, почему молодой девушке не следует гулять в такой час. Но, к своему изумлению, он не увидел девушки. Перед ним стоял мальчик. Не будь Дик уверен, что, кроме Козимы, некому было спуститься сверху, он бы её ни в коем случае не узнал. На ней была голубая рубашка, старые вельветовые штаны и куртка, а косы она спрятала под кепи.
— Полгода назад один из жильцов оставил здесь этот костюм, — объяснила Козима. — Он сказал, что костюм придётся мне впору, и я его припрятала.
— Но ты уверена, что твоя тётя не будет недовольна?
— Конечно, будет недовольна. Только это глупости, и о них не стоит говорить. Я оставлю ей записку.
Она взяла карандаш, бумагу, написала несколько слов и вставила записку в раму зеркала, стоявшего в прихожей: «Рядовой К. Вертхайм ушёл на дежурство. Вернётся попозже».
И она со смехом выбежала на улицу.
Они немного прошли по дороге, потом свернули на равнину.
— Мне не хочется являться к твоим родным в таком виде, — сказала Козима. — Взрослые не так просто смотрят на вещи, как мы. Я подожду тебя поблизости.
Дик оставил её сидящей на старой перевёрнутой тележке неподалёку от своего дома, а сам побежал к родным. Он застал их обоих дома и услышал те же разговоры, что и вчера днём. Мистер Престон уверял, что губернатор пошлёт тысячи солдат и матросов с пушками и что всех участников восстания повесят, как изменников, а Дика, которого он величал одним из зачинщиков, ещё и четвертуют. Миссис Престон, более разумная, хотя уже не такая весёлая, как прежде, просто уговаривала Дика держаться подальше от борьбы.
— Нам нужно перебраться на другие прииски, — говорила она, — или уехать в Новый Южный Уэльс. У отца всё уже готово к отъезду.
— Приготовления не заняли много времени, — сказал мистер Престон. — Нечего было готовить. Я всё распродал. Получать тоже почти нечего. Сандерс и его родственники, которые были нашими компаньонами, купили участок. Теперь тут, чего доброго, откроется жила с самородками.
— Не падайте духом, — сказал Дик. — Всё имущество крупных землевладельцев будет поделено между бедняками. Больше нельзя допускать, чтобы люди, которые стакнулись с правительством, владели половиной страны.
— Но тогда, — уныло сказал мистер Престон, — на каждого придётся так мало, что из этого вообще ничего не выйдет. С таким же успехом мы могли бы попытаться завести ферму на участке нашей заявки, величиной восемь ярдов на восемь.
— Разумеется, — ответил Дик. — Так говорят и Кенворти, и Кеннеди. Вот бы вам послушать их! Они замечательно говорят.
— Не сомневаюсь, — сказал мистер Престон. — Только ослы могут слушать этих краснобаев: у остальных уши недостаточно длинные.
Но тут Дик вспомнил, что Козима ждёт его. Он поспешно распрощался и пообещал прийти вновь завтра, в воскресенье. У него было грустно на душе, когда он вышел из хижины. Он шёл потихоньку, раздумывая. Нагнувшись, чтобы завязать шнурок от башмака, он отчётливо услышал чьи-то шаги сзади.
Шаги тотчас же затихли. Дик выпрямился, пошёл дальше и внезапно остановился снова. И снова ему послышались шаги человека, который останавливался, как только останавливался он. Место, где ждала его Козима, было совсем рядом, и Дик призадумался, как теперь быть. Он решил, не мешкая, встретить Козиму и вместе с ней бегом добраться до дороги.
Но едва Дик свернул за угол сарая, как что-то тёмное упало ему на голову и плечи его захлестнула верёвочная петля. После короткой борьбы он был сбит с ног и оказался на чьей-то широкой спине. Он попытался закричать, но не смог, задыхаясь в тёмном мешке, закрывавшем ему лицо. Он не представлял себе, кто же был его похититель. Во всяком случае, полиция едва ли стала бы заниматься такими похищениями. Человек, который нёс Дика, всё шёл и шёл. Потом он остановился, что-то заскрипело, человек сделал ещё несколько шагов, и вдруг Дик очутился на земле.
Потом мешок с него сдёрнули, и он увидел громадного шведа из бандитской шайки, а рядом с ним стоял на коленях Томми Китаец и тыкал дулом револьвера Дику под ребра.
— Узнаёшь нас на этот раз? — спрашивал Томми. — Чего же ты не смеёшься? Комедия, да и только! Два раза ты совал нос куда не следует. В третий раз тебе будет не до смеха! Понял? — Он изо всех сил ткнул Дика револьвером. — Ну, говори! Выкладывай. С чего это мы так хлопочем, чтобы заполучить тебя в гости, как ты думаешь? Э, да ты знаешь!
Дик покачал головой.
— Не валяй дурака, мальчуган, — продолжал Томми. — Томми не из тех людей, которые легко прощают. Но всё же тебя приволокли сюда не только чтобы расплатиться за то, что ты дважды становился мне поперёк дороги. Теперь ты понимаешь, для чего?
Снова Дик покачал головой. Томми грозно нахмурился.
— Не ври, понял. Только ты и Томми знали, где Чёрный Макфай прятал своё золото. Знала ещё одна женщина, но она не в счёт. Это уж моё дело. Как же ты объяснишь, что на следующую ночь, когда Томми вернулся к сгоревшему сараю, там в золе не оказалось золота? А он искал на совесть, — всё пожарище изрыл, но ничего не нашёл. Не иначе, как ты и твой чёртов дружок — ирландец — успели уже там побывать. Выкладывай!
— Ни о каком золоте мы не знали, — хрипло ответил Дик, полузадушенный пылью, набившейся ему в горло из грязного мешка. — Кто-нибудь рылся там в обломках и нашёл случайно. А может, кто-то знал о нём и опередил вас.
— Так оно и было, — зарычал Томми. — Ты опередил!
Дик покачал головой. Он понимал, что возражать бесполезно.
— Выкладывай! — допытывался бандит. — Тогда Томми отпустит тебя. Он не станет мстить, если отдашь золото. Но попробуй только заупрямиться, — увидишь, что с ним шутки плохи. — Он оглянулся на шведа. — Не так ли?
Швед улыбнулся беззубым ртом и сплюнул.
— Ещё бы! — ответил он. — Настоящий зверь, ей-богу. — Он беззвучно рассмеялся, покачиваясь.
— Я ничего не знаю ни о каком золоте, вот и всё, — сказал Дик, которому швед внушал ещё больший страх, чем Томми.
— Томми теперь может подождать, долго ждать, — сказал Томми, не обращая внимания на протест Дика. — Как бы заставить тебя говорить? — Он вновь обратился к шведу: — Нечего тебе тут делать, Гусси. Нужно найти место, где он мог бы слушать свои собственные вопли. Тебе это по вкусу, а?
— Ещё бы! — отозвался швед, потягиваясь так, что его рубашка расстегнулась, обнажив могучую волосатую грудь. — Пощекочи его. Развяжи ему язычок.
На мгновение Томми остановился и задумался.
— Сегодня вечером нам не уйти. Все парни разбрелись, да и подходящее дело наклёвывается. Днём пленника тоже не потащишь. Значит, завтра ночью.
Швед в знак согласия покивал головой. Затем они с Томми взялись за работу: привязали Дика к столбу посреди сарая и заткнули ему рот кляпом.
— Теперь об этом нашем деле, — сказал Томми шведу. — Ты будешь сторожить снаружи. Как только Тим и Айсек вернутся, отправь их к Красной Мэри. Они знают зачем. Гвидо пусть идёт вслед за мной. Ты знаешь зачем. Сам иди к Нелли. К вечеру чтоб всё было готово. А этот мальчуган пусть пока поголодает.
Швед кивнул:
— Верное средство.
Томми вышел своей бесшумной походкой. Швед, сунув за щёку добрую порцию табака, последовал за ним.
Глава 18. Козима приходит на выручку
Дик был до того напуган случившимся, что забыл о Козиме, но теперь снова вспомнил о ней. И мысль о том, всё ли благополучно с девочкой и не думает ли она плохо о нём, тревожила Дика больше, чем собственные злоключения. Он попытался освободиться от верёвок, но только выбился из сил и запыхался. Он судорожно выпутывался, как ему казалось, много часов подряд, а потом в изнеможении сдался.
Дик уныло сидел, опёршись спиной о столб, и вдруг услышал какое-то царапанье. Словно чуть слышно скреблась мышь.
Сарай, как большинство построек золотоискателей, был частично сколочен из неотёсанных досок, частично обтянут парусиной. Сквозь парусину, лицом к которой сидел Дик, слабо просачивался звёздный свет. Видимо, у хозяев сарая не хватило досок, — их всегда недоставало в Балларате, где деревья были безжалостно порублены на крепления для шахт, — и половину сарая пришлось обтянуть парусиной и тряпками.
Дик не отрываясь смотрел туда, где как будто скреблась мышь; внезапно он заметил, что нижний край парусиновой стены приподнимается. Звёздный свет был достаточно ярок, чтобы это разглядеть. Кто-то лез в сарай.
Через секунду незваный гость был уже внутри, тихонько жалобно повторяя:
— Дик! Дик! — Дик узнал голос Козимы. Мальчик задёргался, пытаясь выплюнуть кляп, но тщетно. Он не мог ни освободиться, ни ответить Козиме, что он здесь. Глаза девочки не привыкли к темноте, и она видела ещё хуже, чем Дик, различавший лишь смутное тёмное пятно, в котором по шёпоту можно было узнать Козиму.
— Дик, ты здесь? — прошептала Козима-невидимка.
Она секунду подождала ответа, потом снова скользнула к стене, под которой пролезла в сарай, и, приподняв парусину, выглянула наружу. Дик пришёл в отчаяние. Неужели она уйдёт, не заметив его, хотя стоит совсем рядом с ним? Он стал колотить головой о столб, к которому был привязан. Козима бесшумно прошла по сараю и, к радости Дика, наткнулась на него. С подавленным криком она попятилась. Потом протянула вперёд руку.
— Дик, ты умер? Это ты, Дик? Они убили тебя?
Дик изо всей силы мотал головой, но верёвки жестоко врезались в него. Козима ещё раз протянула руку и дотронулась до лица Дика. Нащупав кляп, она всё поняла. Подойдя вплотную к мальчику и уже ничего не боясь, она стала деловито освобождать его от кляпа. Работа была нелёгкой, и Дику казалось, что Козима никогда не справится с ней. Он нетерпеливо ждал, пока она возилась с туго затянутыми узлами грубой пеньковой верёвки. Что, если сейчас придут люди, которых велел прислать Томми? Ничего нет страшнее, чем неудача в ту минуту, когда до спасения — один шаг.
Дику хотелось крикнуть Козиме, чтобы она поторапливалась, но, к счастью, он не мог этого сделать, иначе девочка совсем бы растерялась. Наконец он услышал её облегчённый вздох и почувствовал, что верёвки ослабели и упали. Дик выплюнул тряпки, засунутые ему в рот.
— Уф!
— Дик, они сделали тебе больно? Они ранили тебя?
— Нет, только связали. Но нужно торопиться. Они скоро вернутся.
Козима принялась развязывать ноги Дика.
— Нет, сперва руки. Тогда я смогу помочь тебе.
Она изо всех сил стала дёргать тугие узлы.
— У меня кровь идёт из-под ногтей, — сказала она. — Я так рада! Только жалко, что я не могу сильнее дёргать верёвки. Они страшно запутаны.
В конце концов она разобралась в них, и Дик освободил руки.
— Остальное я сделаю сам.
Он быстро развязал верёвки и встал. Сделав быстро шаг к парусиновой стене, он вдруг остановился.
— Как мы выберемся отсюда? Где швед — человек, который сторожит меня?
— Снаружи, как раз напротив этой стены. Он особенно следит за нею. Из-за того, наверно, что она самая ненадёжная. Я была здесь уже тогда, когда отсюда вышел второй человек, но я боялась сдвинуться с места, пока сторож не перешёл на другую сторону. Тогда я подбежала и пролезла сюда. И как раз вовремя. Я слышала, что он вернулся, а когда выглянула, то увидала его на старом месте.
— Как ты нашла меня?
— Я услышала шум, когда они схватили тебя. Я тихонько подползла и видела, как они тебя потащили. Ну, я и пошла вслед за вами.
— Но как нам выбраться отсюда до их прихода?
Они ничего не могли придумать. Другие стены были так крепко сколочены из досок, что любая попытка Дика и Козимы сломать их была бы немедленно замечена шведом. Они подошли к двери, но решили, что тут и пробовать не к чему. Дверь открывалась наружу, и швед немедленно сцапал бы их, тем более что она была подвешена на тугом ржавом шпингалете, — её скрип привлёк бы внимание стража. Дик помнил, что, когда тот вышел из сарая, дверь немилосердно заскрежетала.
— У него большая палка, — зашептала Козима. Потом она вдруг оживилась. — Я придумала. Я смогла залезть сюда, потому что в зарослях что-то зашумело и он ушёл с поста и стал рыскать в кустарнике. И если мы снова устроим там шум, то он снова пойдёт проверять, а мы выскользнем наружу и спрячемся по ту сторону сарая.
— Но как мы можем шуметь в зарослях, когда мы сидим здесь?
— А ты не можешь что-нибудь бросить? Смотри, вот эту дощечку легко отодрать от стены.
Они осторожно отодвинули дощечку в сторону; образовалось маленькое треугольное отверстие, сквозь которое виден был кусок площадки перед сараем.
— Мне не кинуть камня через отверстие, — сказал Дик. — Оно слишком мало. Я могу задеть за край, тогда камень упадёт под углом, и швед начнёт проверять там, где он нам совсем не нужен.
— Зачем бросать? Я лучше придумала, — сказала Козима и подошла к боковой стене. — Я наткнулась на палку, когда лезла сюда. У неё раздвоенный конец, — должно быть, палка для походной кровати. А что, если мы сделаем из неё рогатку?
— А где взять резинку?
— Я сниму подвязки. Но сперва найдём палку.
Они нашли её среди шестов и жердей, предназначавшихся для походных кроватей. Раздвоенный конец был толстоват, но вполне годился. Козима сняла круглые подвязки, перекусила нитки, которыми были сшиты их концы, и, связав обе резинки между собой, привязала всю полосу к рогатке.
— Так себе рогатка, — сказал Дик. — И узел будет мешать. Но, пожалуй, я смогу выстрелить в заросли камнем, лишь бы он не был велик.
Они принялись обшаривать пол, но там валялись только голыши, слишком маленькие для их цели. Наконец возле стены они нашли вполне подходящий ком засохшей глины. Дик ещё немного отодвинул дощечку, приставил рогатку прямо к отверстию, натянул резинку и выстрелил комом глины. Тот вылетел и, шурша, упал в кусты.
Дик и Козима ждали, затаив дыхание. Потом с восторгом увидели грузную фигуру, которая шла по площадке к зарослям.
— Бежим! — сказала Козима и от волнения схватила Дика за руку. Она бросилась к парусиновой стене. Дик приподнял её, и Козима выползла наружу. Дик немедленно последовал за ней. Они обогнули сарай, кучи пустой породы, пробежали мимо лачуг, перебрались по доскам через канаву и очутились на большой дороге.
— Всё в порядке! — воскликнул Дик. — Козима, ты спасла мне жизнь!
— Ох, я так напугалась! — ответила Козима. — А я-то думала, что я храбрая.
— Ты самая храбрая девочка на свете, — настаивал Дик.
— Пф! — сказала Козима. — Такой храброй может быть любая девчонка. Нет, никуда я не гожусь. Когда я сперва не нашла тебя, то уже готова была убежать, только этот великан вернулся и помешал мне. Тебе хотелось бы сейчас чаю?
— Да, но…
— Только ты не рассказывай тёте, что я так напугалась, иначе она всю жизнь будет донимать меня.
— Конечно, я не скажу ей ничего подобного. Это было бы неправдой. Если бы ты знала, от чего ты меня спасла!
— Я бы хотела, чтобы ты написал об этом моей кузине в Баварию. Она отвратительная девчонка и никогда не поверит, если я сама напишу ей.
— Но я с ней не знаком.
— Да. Тебе она, конечно, тоже не поверит. Отвратительнее нет девчонки на свете. Носит очки, и уши у неё торчат. Ох, Дик, как я напугалась! Видно, леди Макбет из меня не получится, а она всегда была моей любимой героиней.
Разговаривая, они быстро шли по дороге к центральной части городка.
— Светает, — сказал Дик. — Ты, должно быть, ждала целую вечность.
— Во всяком случае, мне так показалось, — созналась Козима. — Я была рада, что мне холодно и неудобно, иначе я уснула бы.
Они шли теперь вдоль западного склона холма, на котором были расположены правительственные войска.
— Прислушайся, — сказал Дик. — Слышишь, там какой-то шум? И свет вспыхнул. Вот ещё раз.
Один за другим вспыхнули огоньки и погасли.
— Готов поклясться, что я видел фигуры солдат! — воскликнул Дик. — Видел, как сверкнули штыки. Козима, это, может быть, готовится внезапное нападение на наш лагерь! А там и не подозревают об этом.
Глава 19. Лагерь «Эврика»
Козима хотела бежать вместе с Диком в лагерь и предупредить о готовящемся нападении, но Дик воспротивился этому со всем пылом, на какой только был способен. Ей следует вернуться, говорил он, и успокоить миссис Вертхайм. Она должна также разбудить доктора Кенворти и передать ему, что нужно немедленно собрать старателей, которые спят кто где, в хижинах и палатках. Оставшиеся в Балларате рудокопы из Крезвика тоже разбрелись по постоялым дворам и винным лавкам; следовало собрать и их. Если эта помощь не подоспеет вовремя, немногочисленные повстанцы в лагере едва ли сумеют оказать сопротивление нападающим.
Вторая половина доводов Дика подействовала на Козиму. Она сказала, что сама найдёт дорогу, и побежала домой. А Дик, позабыв о своих злоключениях, устремился к западным холмам, в лагерь. Но он так спешил и так хотел сократить путь, что, заблудившись, сперва наткнулся на болото, а потом чуть не упал в заброшенную шахту.
Он кинулся в обход, но вторично сбился с пути и беспомощно блуждал в лабиринте надшахтных построек, куч пустой породы и палаток, из которых доносилось хриплое дыхание спящих. Ему пришло в голову поднять тревогу и разбудить золотоискателей, но тогда пришлось бы потратить много времени на объяснения, а оно было дорого. Он должен предупредить лагерь, где собрались почти все вожаки восстания, охраняемые лишь несколькими отрядами.
Дик тяжело дышал, изнемогая от усталости, и только мысль об опасности, нависшей над великим делом, поддерживала его. Казалось, он вечно будет плутать в этом хаосе; а солдаты тем временем всё ближе и ближе подкрадываются к лагерю и окружают его. Если им удастся захватить или убить командиров, что будет с восстанием?
Он понимал, что атакующие должны начать наступление до рассвета, иначе оно неминуемо будет отбито сбежавшимися повстанцами. Такая победа чрезвычайно ободрила бы старателей не только в Балларате, но и во всей провинции Виктория и даже в Новом Южном Уэльсе.
Уже светало, когда Дик добрался до подножия холма Эврика. Он различал на левом фланге цепи наступающих, отряды «красных мундиров» в боевом порядке, а вдали ещё около сотни конных полицейских. Потеряв надежду достичь лагеря вовремя, Дик сунул руку за револьвером, чтобы предупредить старателей об опасности выстрелами. Но револьвера не было, его взял Томми. Потеряв надежду, Дик всё-таки продолжал мчаться вперёд, думая только о том, чтобы присоединиться к кучке повстанцев на вершине холма.
Прозвучал сигнал горниста, и Дик услышал команду офицера, топот лошадей и бегущих солдат. Он достиг лагеря и вскарабкался наверх с южной, ещё не осаждённой стороны. В лагере ошеломлённые люди выскакивали из палаток, натыкаясь друг на друга; они протирали заспанные глаза, наспех оправляли патронташи и растерянно осматривали револьверы. Не прошло и двух минут, как пули градом посыпались на лагерь. Дик слышал их посвист над головой и щёлканье при попаданиях в бревенчатые стены. В стрелковые укрытия — бывшие палатки «сторожей» в нижней части лагеря — тотчас же сбежалось человек тридцать канадцев из отряда Рэнджера, отличных, хладнокровных стрелков. Другие старатели заняли позиции на баррикаде против лощины и открыли ответный огонь. Солдаты сперва дрогнули и пришли в замешательство.
Дик увидел Шейна и кинулся к нему:
— Есть у тебя лишний револьвер?
Но Шейн только отмахнулся и побежал к баррикаде. Какой-то старатель, поражённый пулей в сердце, упал рядом с Диком, выронив свой револьвер на кучу фашин. Дик подскочил, схватил оружие и, добежав до баррикады, начал стрелять. Патронташ его уцелел. Стоявший рядом с ним англичанин из Мидленда охал, безуспешно пытаясь зарядить свой старинный пистолет кварцевым щебнем.
Горнист протрубил сигнал сбора сорокового полка. Дик любовался им, несмотря на то что это был враг.Горнист храбро расхаживал по левому флангу, повторяя тот же сигнал. Справа от него солдаты выстраивались в шеренги. Разведчики рассыпались во все стороны. Один отряд поднялся на вершину холма позади гостиницы «Свободная торговля» и прикрывал наступление. За линией вражеских солдат валялись как попало убитые и раненые.
Правительственные войска наступали уже со всех сторон: с юга — кавалерия, с севера — конная полиция. Дик заметил в одном из укрытий раненного в бедро американца, который, не думая о собственном спасении, обнадёживал и подбадривал товарищей. Но выстрелы заглушали его слова… Обе стороны были упорны и беспощадны.
А Дик всё стрелял и стрелял…
Оглянувшись, он увидел Питера Лейлора, стоявшего на краю вырытого в земле укрытия.
— В укрытия! — кричал Лейлор, призывая людей уйти с ненадёжной баррикады и указывая им, где нужно спрятаться.
Пуля угодила ему в плечо, и он свалился.
Дик плохо понимал, что происходит вокруг. Всё было затянуто пороховым дымом, в котором расплывались очертания перебегающих людей. Он чувствовал тяжёлые толчки крови в сердце и в голове и едкий запах, издаваемый древним ружьём, из которого кто-то стрелял поблизости. Он видел, как человек, методично стрелявший из винтовки с колена, вдруг рухнул на землю. Картины сменяли одна другую так стремительно, что он не успевал осмыслить их и в то же время думал, что этому не будет конца, что ему суждено вечно стрелять в цепи красных мундиров, подползающие всё ближе и ближе.
Мимо него пробежал Рафаэлло, крича:
— Запомните этот день! Свято помните эту субботу!
Солдаты наступали уже сплошной цепью, поливая повстанцев дождём пуль, поражавших каждого, чья голова появлялась над баррикадой. Дик увидел Росса, храброго юношу канадца, и как тот упал навзничь — пуля попала ему в живот. Отряд старателей, расположенный со стороны Мельбурнской дороги и состоящий преимущественно из ирландцев и немцев, вооружённых только пиками, храбро выдерживал атаку кавалерии, несмотря на тяжёлые потери, которые нёс от ураганного огня солдат.
— В атаку! — раздалась команда.
Дик увидел блеск примкнутых штыков. Солдаты достигли баррикады. С поразительной быстротой они обошли её с флангов, разрушили, орудуя ногами и прикладами винтовок, и ворвались в лагерь. С весёлыми криками они кололи штыками всех, кто попадался им на пути, кололи даже мёртвых и раненых, валявшихся на земле. «Ура!» — вопили они. Один из них добрался до флагштока и сорвал флаг Южного Креста. Они топтали его ногами, а потом разорвали в клочья. Нечего было и думать о дальнейшем сопротивлении. Внезапность атаки решила дело. Всё было кончено раньше, чем старатели в городке и на равнине успели повскакать с постелей и сообразить, что происходит. Конные полицейские и кавалеристы сорокового полка, держа сабли наголо и револьверы наготове, окружили баррикаду тесным кольцом; лишь немногим повстанцам удалось пробиться сквозь него и скрыться в окрестностях.
Дик бросился в сторону юга. По пути ему попался убитый, у которого из перекошенного рта текла струйка крови; это был Тонен, командир отряда немцев. Повсюду лежали раненые, истекая кровью… Какой-то старатель подбежал к заброшенному шахтному навесу и пытался туда вскарабкаться. За ним погнался солдат. Высоко подняв винтовку, он вонзил ему штык в шею. Дик поскользнулся на краю ямы, упал, и развалившийся штабель брёвен накрыл его. Это спасло ему жизнь.
На какое-то мгновение Дик был оглушён, но потом сообразил, что ему лучше всего остаться здесь. Он провалился в одно из крайних укрытий, в котором только-только мог уместиться; его завалило слоем брёвен, и было ясно, что здесь он в безопасности.
Солдаты стаскивали в кучу палатки, обливали их дёгтем и поджигали. Некоторые пытались защитить бросивших оружие и сдавшихся старателей, но другие свирепствовали, убивали всякого, кто попадался под руку, и орали:
— Разбудили мы тебя, бедняга! Ну, валяй спи дальше!
Тяжёлый запах крови, пороха и дёгтя стоял в воздухе. И тут напряжение минувшей ночи и этого страшного утра внезапно одолело Дика: он почувствовал невыразимую усталость и дурноту и потерял сознание.
Когда он очнулся, всё было кончено. Резня и разрушения были ужасны, но кратковременны. Довольные своими подвигами, солдаты даже не потрудились основательно обыскать лагерь. Дик слышал грохот телег неподалёку и проклятия людей, подбиравших раненых и убитых. Рыдали и всхлипывали женщины.
Дик приподнялся и осторожно выглянул. Он увидел группу плакавших и ломавших руки женщин; это были жёны и дочери погибших. Тут же стояли дети; они цеплялись за юбки матерей и ревели, а некоторые тупо и равнодушно молчали. Поблизости на земле лежал мертвец; возле него сидела небольшая рыжая собачонка. Она охраняла мёртвого хозяина и принималась бешено лаять, стоило кому-нибудь приблизиться. Потом она тыкалась носом в руки и лицо мертвеца и испуганно выла, потому что он не просыпался. Она напала на солдат, подошедших, чтобы убрать тело. Они прогнали её ударами прикладов.
Дик застонал и отвернулся. Он видел достаточно.
Глава 20. Затерян в зарослях
Когда стемнело, Дик вылез из ямы. Хотя его томил страх и лежать было неудобно, всё-таки он поспал днём. Такой усталости он ещё никогда не испытывал. Теперь, выбравшись из своего укрытия, Дик почувствовал страшный голод. Блуждая по разрушенному лагерю, он обшаривал обгоревшие сараи и палатки, пока наконец не нашёл еду. Из-под перевёрнутого ящика, который каким-то образом избежал огня, он вытащил половину большой пресной лепёшки и несколько холодных картофелин.
Дик запихивал еду в рот и жадно жевал, боясь, что вдруг что-нибудь помешает ему доесть до конца. Револьвер и лента с патронами были при нём. Он огляделся, — не валяются ли где-нибудь ещё патроны, но ничего не обнаружил: ведь у повстанцев их было так мало. Он уже совсем потерял надежду раздобыть их, как вдруг его рука наткнулась на разорванный патронташ с патронами нужного калибра, а потом, после вторичного обыска палаток, Дику удалось найти каравай хлеба.
Он присел на вершине холма среди груды обломков, пытаясь осмыслить дневные события. Неужели мир, в котором существовали такие высокие жизненные цели и такая непоколебимая решимость, навеки исчез, сметённый несколькими выстрелами и штыковыми ударами? Неужели Лейлор так и погиб в той яме, в которую упал, когда был ранен? И куда девался Шейн?
Холм, где всё ещё остро пахло кровью и гарью, казался во мраке особенно пустынным. Огоньки в хижинах, у подножия, лишь подчёркивали его безлюдность.
Дик не знал, что предпринять.
Нет, он знал. Ему хотелось осторожно спуститься с холма, пробраться к дому Вертхаймов и попросить Козиму и её тётю спрятать его. Но хорошо ли это будет по отношению к ним и разумно ли по отношению к самому себе? На мгновение снова мелькнула мысль о том, чтобы сдаться, и тут же исчезла. Дик твёрдо решил не попадаться в руки врага.
Он должен уйти из Балларата. Очутившись в безопасности, он напишет родителям или пошлёт весточку через верного человека. Но сейчас нужно уходить. Дик печально огляделся. На юге виднелись массивные очертания потухшего вулкана Бунинйонг, о котором туземцы говорили, что он похож на человека, лежащего на спине, подняв колени. Впрочем, Дик не собирался идти на юг. Он найдёт какое-нибудь убежище в зарослях и там, на свободе, всё хорошенько обдумает.
Пусть он ничего не знает о жизни в австралийских зарослях, но у него есть револьвер, и, конечно, он сумеет прокормить себя. Спички тоже есть. Сохранились ли они? Да, в кармане почти полная коробка. Дик пошёл на север, взял правее Литл-Бендиго. Хлеба ему дня на два хватит. А в зарослях опасны только змеи.
Дик обходил стороной шахты и сараи и вскоре очутился вдали от всякого жилья. Хотя звёзды светили довольно ярко, идти в темноте было нелегко. Но Дик не замедлял шага. До рассвета он должен оставить далеко позади Балларат и его окрестности.
И действительно, когда он проснулся под высоким белым эвкалиптом, разбуженный дневным светом, Балларат был далеко. Казалось, человеческая нога ни разу не ступала по древнему девственному австралийскому лесу. Дик хотел уйти от людей, и вот его желание исполнилось с поистине устрашающей лёгкостью. Но в сиянии утренних лучей заросли не казались враждебными, они попросту были равнодушны и совершенно не замечали вторжения какого-то ничтожного Дика.
Дик мало что знал об австралийских животных. Семь лет назад его отцу пришлось из-за плохого здоровья покинуть Лондон и поселиться в Мельбурне. И хотя мальчик немало дней провёл со своими товарищами на холмах, окружающих Мельбурн, а потом много колесил по просёлочным дорогам, заросли всегда представлялись ему просто подходящим местом для пикника.
Дик понятия не имел, где он сейчас находится, но так как заметил, с какой стороны взошло солнце, всё же какая-то ориентировка у него была. По его соображению, он шёл на северо-запад. Ему нужна была вода.
У Дика было смутное представление, что если он пойдёт по зарослям всё на запад, то, сделав миль пятьдесят, окажется в Арарате, где его никто не знает и где, может быть, удастся получить работу. Не в шахте. С золотоискательством он покончил. На ферме или в одной из типографий, которых с ростом населения становилось всё больше. Маловероятно, чтобы полиция стала его искать. Он уже не имел значения: восстание породило таких политических преступников, которые в глазах закона были куда опаснее Дика.
Вскоре Дик начал понимать, как сложно разобраться в австралийских зарослях. Нескончаемые овраги пересекали друг друга во всех направлениях, они вели куда угодно и никуда. Он пытался не сбиться с пути, следя за солнцем, но порой ему начинало казаться, что он кружит всё время около одного и того же места. Все овраги были похожи друг на друга. Все эвкалипты, устремлённые к небу, казались одним и тем же эвкалиптом, покрытым тоненькими серовато-голубыми листочками, изогнутыми, как сабля, и дававшими слишком мало тени, потому что они были повёрнуты ребром к солнцу. Можно было подумать, что на земле росли одни эвкалипты. Никаких животных Дик не видел. Он ещё не научился различать жизнь в австралийских зарослях и даже не замечал хлопотливых птиц, хотя смутно улавливал их щебет. Дику было не до птичьих песен, и всё-таки они его подбадривали. Без них сухие знойные заросли были бы непереносимы. И его мучила жажда.
Есть ему тоже хотелось, но прикосновение сухого хлеба к сухому нёбу было неприятно. Пекло солнце. Дик уже не пытался придерживаться определённого направления и шёл слепо, гонимый надеждой набрести на ручей. Порою ему казалось, что он слышит журчание воды совсем близко, но спереди или сзади, слева или справа, — определить не мог.
Он остановился и прислушался, но опять-таки не мог понять, что это: журчание воды, биение крови в его опалённой солнцем голове, слабое стрекотание цикады или тихий шелест тёмных деревьев, чьи листья гроздьями свешивались до земли.
Но то было действительно журчание воды. Растительность становилась всё зеленее и свежее. Пробившись сквозь древовидные папоротники и путаницу дикого винограда и ломоноса, с которых вспорхнули, возбуждённо щебеча, пёстрые птички, Дик увидел неглубокую речку, струящуюся в сумрачной лощине между двух холмов. Он лёг на землю и жадно припал к воде, потом сел и принялся за хлеб — на этот раз с удовольствием. Немного поспав, он проснулся и начал лениво наблюдать за тем, что окружало его.
Со стороны могло показаться, что он только бесцельно глазеет. На самом деле чувства его осваивались с новой обстановкой и приспосабливались к ней. Он смотрел сквозь нависшие аркой древовидные папоротники и любовался играми птиц. Вокруг него порхали, охотясь за насекомыми, желтогрудые крапивники, и Дику стало как-то уютнее, когда, проследив за одним из крапивников, он обнаружил его гнездо — куполообразную постройку из мха, сухих папоротников и травы, свисающую с куста. Он видел молодые побеги, видел зелёных ящериц, ускользавших при малейшем его движении. Ему нравились даже муравьи. Один раз трава раздвинулась и из неё выглянула коричневая мордочка маленького кенгуру — валлаби.
У Дика стало спокойнее на душе, но двигаться ему по-прежнему не хотелось. Пусть окрепнет это ощущение домашнего уюта. У него был револьвер, была вода, и он чувствовал себя в безопасности.
Потом беспокойство и даже какой-то страх снова овладели им, и он встал, решив исследовать овраг. Он заглянул в гнездо крапивника и позавидовал, увидев, что оно выложено пухом. Дик бродил по склонам, стараясь не отходить от ручья. Над водой звенели голоса караваек, и Дику снова захотелось есть. Он наткнулся на дерево джибунг с почти зрелыми плодами и съел несколько штук целиком, выплюнув только твёрдые косточки. Он знал, что эти плоды не ядовиты, потому что один из его товарищей собирал их во время прогулки по окрестностям Мельбурна.
Заметив коричневую тень, мелькнувшую в зарослях, Дик выстрелил, но промахнулся. Сразу же им снова овладел мучительный страх. Исчезло ощущение домашнего уюта, и он не понимал, чем это вызвано: тем ли, что он стрелял, или тем, что промахнулся. Сгущались сумерки, неся с собой ощущение огромного покоя, пока ещё недоступного Дику. Доев хлеб, он выбрал место, откуда слышно было тихое бормотание речки, и примостился на плоском камне.
Как счастлив был бы Дик, будь у него еда! Прозрачная ночь, сверкающая южными звёздами, словно омыла его душу и тело своей невозмутимой благожелательностью. Жизнь была хороша. Никогда ещё мальчик не чувствовал себя таким спокойным, таким уверенным! Словно вся земля принадлежала ему.
Но он был голоден.
Когда первый его сон был прерван глухим криком совы мопок — «мо-пок! мо-пок!», — им безраздельно овладел страх. Он схватился за револьвер. Тьма была населена таинственными существами, смутными порождениями безмолвия. Какие-то неведомые ноги топотали вокруг него. Чьи-то неведомые глаза смотрели на него. Он был одинок и напуган.
Вокруг пищали и бормотали неведомые тихие голоса. Хрустнула сухая ветка. Шорох крыльев нарушил покой деревьев, которые словно поникли под тяжестью ночи. Снова безмолвие и ощущение неведомой и враждебной жизни, которая смыкается вокруг всё теснее и теснее.
Но он не собирался сдаваться без боя. Он ещё крепче ухватился за револьвер и стиснул зубы.
Спустя немного времени Дик снова уснул.
Глава 21. Речка
Дик вздрогнул и проснулся. Сквозь сон он услышал хриплый вопль и стал размахивать руками, уверенный, что над ним наклонился страшный враг. Но, с трудом разлепив глаза, он увидел, что уже светло, что небо заслонено от него лишь пушистой веткой и что вопит тройка птиц — кукабурр, сидящая на другой, соседней ветке. Раскрывая длинные, как у зимородка, клювы, они хрипло хохотали. Дику казалось, что они смотрят прямо на него, что именно к нему относится их грубый, совсем не птичий смех.
Увидев, что мальчик проснулся, птицы взлетели, опустились на землю поодаль, снова взлетели и исчезли за купой чахлых самшитов. Потом издали донёсся новый взрыв каркающего хохота, словно они рассказывали друг другу, как забавно было разбудить и напугать глупого заблудившегося человечка.
Дик продолжал лежать, стараясь прийти в себя. Затем чувство одиночества целиком завладело им, и он заплакал при мысли о Козиме, о родителях, о вкусном завтраке, приготовленном миссис Вертхайм… От того, что он спал на камне, у него ломило всё тело.
Постепенно слёзы сменились огромной благодарностью за то, что он жив, любовью к голубому утру, щебечущим птицам, журчащим струям речки. Дик вскочил на ноги, но сразу же снова лёг.
Торопиться не следовало. Он понял это накануне, когда стрелял в кенгуру и промахнулся. Он не должен действовать опрометчиво, иначе опять заблудится, попусту растратит патроны и умрёт от голода и жажды. Нужно ко всему относиться легко, — тем легче, чем тяжелее ему приходится. А это очень трудно — уметь в нужный момент легко ко всему относиться.
Он заставил себя успокоиться и принялся обдумывать своё положение, лёжа на спине, заложив руки за голову, жуя травинку и глядя в утреннее бледно-голубое небо.
Затем, тихо насвистывая что-то весёлое, Дик перекувырнулся и приступил к дневным трудам. Ему помнилось, что на топких берегах речки он видел следы чьих-то когтей. Сняв башмаки и предусмотрительно поставив их на свою каменную кровать, где он не мог бы их не заметить, Дик пошёл вверх по течению. Да, на отлогом берегу отпечатались следы животных, приходивших сюда на водопой. Маленьких животных, судя по следам, — валлаби, австралийских медведей, падемелонов.
Дик вернулся назад, захватил башмаки и, перебравшись на другой берег, пошёл к водопою. Спрятавшись за куст, он взвёл курок револьвера. Потом оглянулся и подобрал несколько подходящих для его цели камней. Из них он соорудил подпорку, на которую мог бы опираться, прицеливаясь, и упражнялся в наводке на цель до тех пор, пока не уверился в том, что, когда придёт время стрелять, рука его не дрогнет.
Он неподвижно лежал за кустарником. Мурлыкала речка. Мелькали, словно яркие пятна, птицы, что-то щебеча друг другу. Они казались Дику шпионами, следящими за его приготовлениями, чтобы потом рассказать о них всем обитателям зарослей. Но он лежал неподвижно. Всё сильнее и сильнее хотелось есть, а желание двигаться становилось нестерпимым. Дик мечтал о том, как он вскочит и помчится на поиски животного, которое можно было бы подстрелить. Но он понимал: при его неопытности и плохой стрельбе ничего хорошего из этого не выйдет. Он заставил себя лежать неподвижно.
И он был вознаграждён за это. Внезапно и совершенно беззвучно из травы выглянула коричневая мордочка. Неуклюжий тёмный зверёк спрыгнул вниз, к воде. Лучи солнца падали на него, и Дик видел тёмный, красновато-серый густой и грубый мех. Зверёк напился, поднял мордочку, мигнул и огляделся, свесив чёрные передние лапы.
Дик тщательно прицелился и выстрелил. В первый момент ему показалось, что выстрел не попал в цель, но потом он увидел, что животное, сделав попытку повернуться и убежать, упало на бок, дрыгая лапками. Дик перебежал через речку и остановился над зверьком в недоумении, не зная, чем прикончить его, — в руках не было ни ножа, ни дубинки. Почему он не сделал себе дубинку?! Душить животное Дику было неприятно, а тратить патроны на то, чтобы убить его, тоже было невозможно. Поэтому он поднял всё ещё слабо бьющегося валлаби и опустил головой в воду. Зверёк скоро издох, но кровь продолжала капать на светлый мех брюшка, а чёрный хвост колыхался в речке.
Теперь следовало подумать, как освежевать тушу. Дик потащил её к месту своего ночлега и положил на камень, служивший ему постелью. Он уже с нежностью относился к этому камню, словно к чему-то родному. Потом он начал искать острый кремень. Сперва ничего подходящего не попадалось, но наконец он нашёл узкий камень с острыми краями, до того не похожий на все валявшиеся кругом камни, что Дик подумал, — не туземец ли обронил его.
Этим камнем ему удалось снять шкуру с животного — работа неприятная и утомительная, потому что трудно было удержать кремень в нужном положении. Сложив каменный очаг, чтобы подольше удерживать жар, Дик развёл костёр из листьев и веточек. Когда костёр разгорелся, он подбросил в него сучьев с поваленного ветром дерева, лежавшего невдалеке. После того как запылали и сучья, он положил на очаг мясо, подгрёб к нему палочкой раскалённые угли, а сверху добавил ещё топлива.
Когда Дик вытащил мясо из очага, оно выглядело очень грязным и подгоревшим. Опасения его оправдались: сверху мясо обуглилось, а изнутри не прожарилось. Но Дик вымыл его в речке, жадно вдыхая запах и обжигая пальцы, а затем с удовольствием съел своё неудавшееся жаркое.
Положив остатки туши под тенистым деревом и укрыв их листьями, Дик отправился на поиски каких-нибудь плодов или ягод и вернулся уже с наступлением темноты. Плодов он не нашёл, но унывать из-за этого не стал. Ему удалось собрать немного ягод и спелых шишек, и он решил положить их утром на камень и посмотреть, расклюют ли их птицы. Если да, то, значит, они годятся и для него.
Дику пришлось доесть всё жареное мясо, потому что, к несчастью, на него уже набросились мухи, муравьи и мошки. Туша тоже кишела муравьями. Он промыл её и положил на камень, выступавший посредине речки: там по крайней мере до неё не могли добраться муравьи.
Сгустилась безмолвная тьма, и Дик лёг спать. Природа снова казалась ему дружелюбной, и он был уверен, что теперь ночные голоса — даже грубые пронзительные крики сов — не потревожат его. Он тихо лежал, медленно погружаясь в сон.
Вскоре его разбудило чьё-то завывание. Дик сообразил, что это воют динго, дикие собаки, и ему стало боязно, хотя он и слышал, что динго не нападают на людей. Но вдруг они голодны и всё-таки нападут? Вой у них был очень голодный. В ветвях прошуршал опоссум; и вдруг сквозь дрёму Дик увидел, что снизу, из темноты, на него глядят горящие холодным огнём кошачьи глаза. Вскочив, он стал бить палкой по земле, и глаза исчезли.
Он вспомнил: какой-то старатель рассказывал при нём о местных диких кошках — свирепых полосатых животных. Снова завыли динго, и тут Дик понял, что было причиной этой ночной тревоги: её вызвала разбрызганная кровь валлаби и запах туши, лежащей на камне. Хищные животные учуяли его.
Больше он не спал, хотя чем глуше становилась ночь, тем сильнее сказывалась усталость. Он пролил кровь, чтобы утолить голод, и вот теперь его окружило тесное, до ужаса тесное кольцо диких зверей, жаждущих крови.
Он решил выстроить себе утром убежище и перед самым рассветом уснул. Он не слышал даже смеха гиен и проснулся, когда солнце высоко взошло над гребнями восточных гор и лесные ласточки порхали, ловили насекомых и шумно садились на кусты.
Весь день Дик неустанно трудился, собирая повсюду топливо, пока у него не получилась большая куча валежника. Потом он долго искал себе убежище и наконец нашёл его на берегу речки — маленькую пещеру под известковым обрывом. Он перетащил туда весь свой валежник и из части его сделал изгородь, которую накрепко перевязал лозой дикого винограда и укрепил подпорками. Потом развёл костёр и изжарил остатки мяса.
Лёжа в убежище, он снова почувствовал себя в безопасности. Сзади на него, во всяком случае, никто не мог напасть. Револьвер на взводе — под рукой, а с боков и спереди его защищает изгородь. Дик решил поддерживать огонь в костре до утра и всё время повторял себе: «Проснись, когда огонь начнёт гаснуть, проснись, когда огонь начнёт гаснуть!»
Он уснул, повторяя эти слова, и, к собственному удивлению, действительно проснулся, когда костёр начал угасать. Наверно потому, что стало холоднее, — решил он.
Но, когда Дик подбрасывал в огонь заранее приготовленное топливо, им опять овладело беспокойство, прогнав приятное ощущение уюта, появившееся, как только он нашёл пещеру. Всё, что он делал, было вполне разумно, но нельзя же прожить у этой речки всю свою жизнь! Рано или поздно, но уйти придётся. Одни зимние дожди чего стоят! Да и запас патронов и спичек тоже когда-нибудь истощится.
«Ну что ж, — подумал он. — Мне нужно пробыть здесь ещё несколько дней, пока я не привыкну к зарослям. Потом пойду на запад».
Решив это, Дик снова уснул, не обращая внимания на вой динго.
Глава 22. Положение ухудшается
Следующие пять дней Дик посвятил исследованию оврага. Ему удалось подстрелить двух валлаби и опоссума, а своё убежище он сделал ещё более надёжным. Дику нравилось строить, хотя он понимал, что пещеру скоро придётся покинуть. Очень заботило его и нарушало все планы отсутствие сосуда, в котором можно было бы носить воду. Он непрерывно размышлял над этим вопросом, тщетно разыскивая тыкву, которая не протекала бы. Что такое тыква, он толком не знал, хотя читал о ней в книгах. Но какова бы она ни была, в Австралии она явно не росла.
А как обходятся туземцы? Должны же они во время своих переходов носить в чём-то воду от речки до речки, от колодца до колодца! Дику пришло в голову, что для его цели годится шкура валлаби, если только её аккуратно снять, очистить и высушить на солнце. Он решил сделать попытку со шкурой с следующего убитого им зверька. Все мысли Дика были сосредоточены на том дне, когда он отправится в поход через заросли, но в то же время страшно не хотелось покидать берега речки, где он чувствовал себя как дома.
Быть может, Дик долго ещё придумывал бы предлоги для оттяжки путешествия, если бы выбор не был сделан помимо его воли. Чем увереннее он становился, тем дальше отходил от речки в поисках плодов и трав, чтобы внести разнообразие в пищу, которая приелась ему и подчас становилась невыносимой.
Ясным утром, звеневшим от птичьих песен, позавтракав недожаренным валлаби, — а это особенно чувствовалось, когда мясо было холодным, — Дик отправился в обычные поиски. Он следил за полётом пёстрых попугаев, так как заметил, что они питаются цветочным мёдом, извлекая его из чашек своими похожими на щётки языками. Из этого он сделал вывод, что они едят также мякоть плодов, и надеялся, следуя за ними, набрести на плодовые деревья.
Попугаи вспорхнули, что-то резко выкрикивая. Дик устремился за ними. Но после напряжённой погони по холмам, во время которой птицы словно дразнили его, кружась над ним и поджидая, чтобы он подошёл вплотную, а потом опять срываясь с Места, он окончательно потерял их из виду в зарослях молодых эвкалиптов. Дик остановился, соображая, где он находится, и понял, что заблудился.
Это был страшный удар, потому что в пещере остались все его запасные патроны, не говоря уже о мясе, которое он собирался взять с собой, чтобы продержаться первые дни пути.
Почти всё утро Дик бесцельно бродил, пытаясь найти дорогу назад, но потом окончательно убедился, что ничего из этого не выйдет. Нужно собраться с мужеством и сразу же идти на запад. И он пошёл на запад, стараясь всё время следить за солнцем. К вечеру его стал мучить голод, — охота была неудачной, он только зря истратил два патрона на скользящие по траве тени, которые принял за валлаби. Однажды он издали увидел больших кенгуру, но не захотел возиться с ними. Мелкие животные были ему больше по вкусу.
Голод и жажда разбудили его ещё до рассвета. Полизав влажные от росы листья и чуть не наступив на чёрную змею, он снова пустился в путь. Увидев на дереве гоанну, Дик бросился наутёк. Впервые в жизни ему встретилось такое чудовище. Это была взрослая гоанна, шести футов длиной, черно-жёлтого цвета, вцепившаяся длинными когтями в дерево и похожая на ящерицу, которая не может решить, кем бы ей хотелось быть — змеёй или крокодилом. Она поспешно вскарабкалась по стволу, болтая чёрно-жёлтым хвостом. Дик не знал, что эти животные безобидны и что туземцы едят их, иначе он попытался бы её застрелить. Но он предпочёл удрать, думая, что на деле она так же грозна, как с виду.
Встреча с гоанной лишила Дика равновесия, и он начал бояться, что в зарослях действительно водятся звери, нападающие на человека. Он опять увидел змею — тигровую змею со множеством тёмных перекрещивающихся полос — и ощутил ядовитую силу, исходящую от неё. Зелёный древесный уж свалился чуть ли не на плечи Дику, и, хотя Дик знал, что уж не ядовит, всё же страшно перепугался. Должно быть, воздух в этот день был насыщен чем-то таким, что заставляло всех пресмыкающихся выползать наружу.
Не решаясь двигаться дальше, Дик уныло присел на голой, со всех сторон открытой полянке. Он неподвижно сидел в полном изнеможении и вдруг увидел, что большая птица ринулась вниз, схватила в траве зелёного древесного ужа. Птица взлетела, держа добычу в клюве, потом уронила её на скалу, снова взлетела и повторяла всё это до тех пор, пока уж не издох. Зачарованный, Дик смотрел, как птица поглощает ужа.
Потом голод снова погнал его в путь. До самого захода солнца Дику удалось съесть лишь несколько плодов джибунга. От мучительной жажды рот и горло у него словно обросли шерстью. Коричневая змея ползла по сухому дну оврага, и он пошёл за ней, вспомнив рассказ старателя о человеке, спасшемся при таких же обстоятельствах тем, что последовал за змеёй и пришёл к воде.
Но змея пропала из виду между камней. В небе парил орёл, на ветках трещали сороки.
Всё тело у Дика ныло, глаза налились кровью и горели, внутренности сжигала изнуряющая жажда. Он без сил упал на землю в ожидании ночной прохлады. Спать он не мог, но временами впадал в лихорадочное полузабытье. Утренняя роса вернула ему самообладание, но он уже больше ни на что не надеялся. Мимо него грациозно проскользнул падимелон — серый, с красноватой шеей, коричневыми лапами и ослепительно белым брюхом; прыгая, он выбрасывал лапы вверх, в отличие от кенгуру, которые подбирали их.
Дик выстрелил и промахнулся. Его рука ни на что не опиралась, и стрелять было трудно: он не справлялся с отдачей. Пробираясь сквозь кустарник, Дик неожиданно наткнулся на дроздиное гнездо. В нём лежало три яйца. Дик разбил одно и, увидев, что оно свежее, залпом выпил. Потом выпил и два остальных. Дрозд летал над ним в ветвях перечного дерева и бранился.
Дику стало легче, но ещё сильнее захотелось есть, и он принялся искать гнёзда. После долгих поисков ему удалось найти одно, но яйца оказались насиженными и так воняли, когда он разбил их, что пришлось убежать. По-прежнему не было ни признака воды.
В полдень он растянулся под кустом, не в силах больше двигаться под палящим зноем. Пыль и песок словно пропитали его насквозь. В горле пересохло, глаза воспалились. Над зарослями колыхалось марево — мерцающая дымка прозрачного зноя, похожая на расплавленное стекло. Почва стала суше и каменистее, на ней росли большие блестящие эвкалипты, кустарник да чахлая, редкая трава; повсюду торчали обгорелые пни — следы лесного пожара.
Дика изводила неотвязная мошкара. Над левым запястьем он заметил чёрное пятнышко и попробовал согнать его, приняв за москита или мошку, но оказалось, что это клещ. Он попытался вытащить его, зная, что клещи вызывают паралич у собак и детей, — он сам видел собаку, у которой после укуса клеща отнялись ноги. Но тут он вспомнил, что клещей ни в коем случае нельзя вытаскивать. Вонзившийся хоботок отрывается и остаётся в теле, вызывая жар и нагноение. «Смажь клеща керосином, — говорила ему мать. — Годится и табачная жижа из трубки. Хорошенько запомни это. Не вытаскивай клеща».
А к чему помнить, если у него нет ни керосина, ни табачной жижи?
Дик в ужасе смотрел на клеща. Это была последняя капля, переполнившая чашу. Он лёг на землю, содрогаясь от рыданий, но глаза его были сухи.
Вдруг он услышал какой-то шум. Мгновенно забыв о своём несчастье и о своей слабости, он схватился за револьвер. Осторожно выглянув из-за кустарника, он увидел туземца, идущего по открытой поляне. Туземец был снаряжён по-охотничьи, за поясом из кожи опоссума у него торчали каменный топор, бумеранг и короткая дубинка для охоты на мелких животных. В руках туземец нёс дротик и три копья, каждое с особым наконечником. Весь его костюм состоял из набедренного пояса.
Дик испуганно следил за туземцем, так как наслушался россказней о жестоких нападениях чернокожих на первых переселенцев, хотя некоторые старатели утверждали, что чернокожие добродушны и нападают только, если их принудят к этому. Несколько минут назад Дик готов был приветствовать смерть. Но сейчас, очутившись лицом к лицу с опасностью, он мгновенно весь собрался, напряжённо думая о том, как поступить. До сих пор ему пришлось видеть всего лишь нескольких чернокожих в Мельбурне, совершенно опустившихся пьяниц, да короля Билли, главу балларатского племени, разгуливавшего в лохмотьях, на которых красовалась бляха с надписью: «Король Билли». Но этот обнажённый охотник был совсем иным. Дик представления не имел, как отнестись к нему.
Размышляя над тем, что ему делать, Дик заметил другую фигуру, отделившуюся от купы деревьев слева, — второго туземца, скользившего бесшумно, как тень. Он подумал было, что это тоже охотник — товарищ первого — и что сейчас появятся ещё туземцы и он будет окружён целым племенем. Но, наблюдая за вторым туземцем, Дик сообразил, что тот преследует первого. В одной руке чернокожий держал длинное копьё с наконечником, на котором был десяток устрашающих зазубрин, в другой — дубинку.
Пока Дик ломал голову над тем, что ему предпринять, второй туземец поднял копьё и прицелился в спину первому. Не раздумывая, Дик опёрся локтем о развилину ветки, поднял револьвер и выстрелил во второго туземца. Первый подскочил на месте, обернулся, и не успел Дик прийти в себя от удара, полученного при отдаче, как чернокожий был уже около своего преследователя, лежащего на земле в луже крови, струящейся из раны в боку. Одним ударом каменного топора он отсёк голову врага.
В ту же секунду Дик выпрямился и поднял руку с револьвером не то в виде объяснения, не то — угрозы.
— Я стрелял в него, — сказал он, даже не подумав о том, что туземец может не понять его. — Он хотел бросить тебе копьё в спину. Я не мог этого стерпеть.
Туземец широко улыбнулся, и Дик решил, что его лицо со сплющенным носом очень приятно.
— Ты бах-бах? — спросил туземец, всё ещё широко улыбаясь, и тут только Дик почувствовал, как он рад, что чернокожий говорит по-английски. — Я буду много рассказать тебе. Много рассказать вон там.
Туземец показал на юго-восток и ухмыльнулся.
— Мне нужна вода, — сказал Дик, сперва открывая рот, а потом глотая слюну, чтобы смысл его слов уж никак не мог ускользнуть от туземца. — Вода.
— Иди со мной, — ласково сказал тот. — Воды много-много.
Он пошёл впереди, легко скользя между деревьями, а Дик плёлся сзади. Правда, надежда отчасти вернула ему силы, но всё же он шёл нетвёрдо. Перед его глазами колебалась ослепительная текучая дымка зноя. Наконец они добрались до маленького лагеря. Дик, словно сквозь туман, увидел хижину из коры, туземку с завёрнутым в лохмотья ребёнком за плечами, тощую собаку. Туземец принёс воду в сплющенной жестяной кружке.
Вода была тёплая и отдавала прогорклым маслом, но Дик пил и наслаждался. Вдруг он ощутил неприятное подёргивание в руке и вспомнил о клеще.
— Посмотри, — сказал он слабеющим голосом. — Ты не сможешь вытащить?
И потерял сознание.
Глава 23. Джим-туземец
Когда он пришёл в себя, рука уже не болела и к ней была приложена припарка из приятно пахнущих трав. Он лежал на грубо сколоченной койке, а рядом стоял туземец и глядел на него со своей обычной широкой улыбкой.
— Один, два, три дня, — сказал он, загибая пальцы на руке. — Спал. Нехорошо спал. Теперь хорошо.
Дик чувствовал себя совсем слабым. Он понимал, что у него был солнечный удар и одновременно приступ лихорадки, вызванной клещом. Он ответил туземцу улыбкой и спросил, как его зовут. Тот почему-то не хотел назвать своё имя и бормотал бессвязные слова, но потом всё-таки сказал, что на ферме, где он работал, его звали Джимом. По другому его замечанию Дик понял, что некоторое время Джим был также проводником. «Быть может, — думал Дик, — он впутался в какую-нибудь историю или бежал до окончания срока вербовки. Или скрытность Джима объяснялась другой причиной, как-нибудь связанной с верованиями его племени».
Человек, которого ранил Дик, был врагом Джима и принадлежал к соседнему племени. Но и тут Дик не совсем понял объяснения Джима, и опять ему было неясно, — то ли тот нарочно путает, то ли у него просто не хватает слов.
Имя жены Джима Дику так и не удалось выяснить. Он решил называть её «женой Джима». Услышав это обращение, Джим заулыбался, закивал головой в знак согласия и стал объяснять жене, после чего та тоже расплылась в улыбке, словно Дик пожаловал её почётным титулом. Лицо у неё было такое же добродушное, как у Джима, но куда более безобразное, — с точки зрения Дика, конечно. Джим, вполне вероятно, считал её красавицей, а может быть, он просто об этом не думал.
Сперва их жильё показалось Дику просто кучей хлама, но, приглядываясь во время выздоровления к окружающему, он быстро понял свою неправоту. Количество вещей, помещавшихся в соломенной корзине женщины, было поистине поразительно.
Сперва она вытащила оттуда плоский камень и истолкла на нём собранные ею коренья, потом поджарила их и накормила ими Дика. Когда Дик благодарно улыбнулся ей, она улыбнулась ему в ответ, а Джим улыбнулся им обоим.
Для растопки она вынула мелкие шишки и кучу сухих белых древесных губок. Накануне ночью прошёл короткий ливень, погасивший огонь в очаге, и Джим на глазах у Дика разжёг его при помощи двух палочек, тоже извлечённых из корзины.
После этого Дик решил узнать, что же ещё жена Джима носит в корзине, и выяснил, что кроме нескольких дурно пахнущих кусочков мяса и жира там лежат: куски кварца для стрел и ножей, камни для топоров, сухожилия кенгуру, заменяющие нитки, полоски кожи кенгуру для обмотки копий, шерсть опоссума для кремнёвых ножей, кусочки смолы, нужные при изготовлении и починке оружия, белая глина, жёлтая и красная охра, сосуд из древесной коры для воды, набедренные повязки и побрякушки, тряпье и пустая пивная бутылка.
Всё это Дик видел собственными глазами, и теперь, что бы она ни вытаскивала из своей корзины, он ничему уже не удивлялся.
— Принесу тебе сахар с дерева, — сказал однажды утром Джим, с трудом подбирая слова.
Дик не понял, о каком сахаре идёт речь, и стал следить за Джимом. Тот рукою поймал пчелу и, взяв у жены немного смолы, приклеил к своей пленнице кусочек меха опоссума. Улыбнувшись Дику, Джим выпустил пчелу и побежал за ней. Почему пчела не укусила Джима, пока он возился с нею, Дик не понимал. Всё, что делал Джим, казалось на первый взгляд весьма несложным.
Через час Джим вернулся, держа в руке пчелиные соты, завёрнутые в кору эвкалипта. Он, оказывается, следил за пчелой, пока она не привела его к улью в дупле.
Когда Дик окреп, он попросил Джима научить его бросать бумеранги и копья.
С бумерангом ему так и не удалось справиться, но зато он научился неплохо владеть короткими копьями, которые нужно было бросать с помощью воммеры — палки с шипом, на который насаживается копьё. Копьё полагалось держать двумя пальцами правой руки, причём воммера придавала ему равновесие и значительно увеличивала силу броска.
Джим старался обучить Дика всем своим охотничьим уловкам, а по вечерам они сидели у костра и ели ягоды, толчёные коренья и мясо кенгуру, — жена Джима жарила его прямо в шкуре. Дика увлекла лагерная жизнь, он забыл обо всём, что прежде его волновало, забыл о своём страстном желании пробраться в Арарат. Когда мысль об Арарате случайно возвращалась к нему, он сразу же решал, что лучше обождать, — каждый день, проведённый в зарослях, уменьшает опасность быть схваченным или узнанным. Родители, конечно, не беспокоятся за него, убеждал он себя, так как знают, что его не было ни среди убитых, ни среди взятых в плен повстанцев.
Дик изо всех сил старался отогнать мысль, что они всё-таки беспокоятся. Пока что он не мог даже подумать о том, чтобы уйти из лагеря.
Он ходил на охоту вместе с Джимом, и тот очень терпеливо относился ко всем его промахам. Дика поражало умение Джима выслеживать зверя, но иногда он вдруг схватывал объяснения туземца и видел, что никакого чуда в этом умении не было: оно складывалось из острой наблюдательности и сообразительности.
И всё-таки его всегда удивляла способность Джима выследить опоссума по следам когтей на стволе дерева или, если следов не было, по направлению полёта москитов. Змей Джим находил, наблюдая за их постоянными спутниками — сорокопутами.
Позднее, говорил Джим, они перенесут свою стоянку на берег моря, к лагунам. Там, повязав голову водорослями, он будет плавать, плавать так тихо, что утки примут его за колышущуюся на волнах траву, пока он не схватит одну из них. Потом, сломав ей под водой шею, оставит её качаться на волнах, а сам будет охотиться за другой, и ещё за другой, и поймает сколько ему нужно. Пеликанов он умеет приманивать, подражая щёлканьем пальцев под водой всплеску рыбы.
Наконец Дик почувствовал, что пора сказать что-нибудь о своём желании добраться до Арарата. Но Джим не знал такого города или делал вид, что не знает. Он ухмылялся, качал головой и бормотал что-то несвязное.
— Это там? — сказал Дик, указывая на запад.
Джим кивнул головой и ухмыльнулся.
— Может, и так.
— Большой город.
— Может, и так.
— Ты проведёшь меня туда?
— Может, и так.
— Значит, ты не знаешь, где он находится?
Джим покачал головой.
— Может, и так.
— Когда ты поведёшь меня туда?
После того как Дик повторил этот вопрос несколько раз, Джим ответил:
— Две, три луны.
Он упорствовал в своём желании идти не на запад, а на юг, к побережью. Дик предположил, что существует, вероятно, соглашение с племенем, живущим на побережье, о праве на стоянку в лагунах.
Но он чувствовал также, что Джим твёрдо решил не подходить близко к поселениям белых; возможно, он исходит при этом из не очень приятного опыта.
— Ты не любишь белых людей? — допытывался Дик.
— Тебя люблю, — ухмыляясь отвечал Джим, и большего Дик не мог от него добиться.
Когда Дик начинал подробно объяснять, почему ему нужно в Арарат, Джим только ухмылялся и показывал на юг:
— Иди туда. Много еды.
Дик сдался. Ему и хотелось и не хотелось идти в Арарат. Он уже совсем привык к Джиму и его жене. Здравый смысл, говоривший о том, что надо что-то предпринять для возвращения, просыпался в нём очень редко. К тому же он твёрдо решил никогда больше не испытывать ужаса затерянности и неспособности поддержать своё существование.
Он до тех пор ежедневно практиковался в метании небольших копий, пока не стал настоящим мастером. После этого он почувствовал себя увереннее. В стрельбе из револьвера он практиковаться не мог из-за скудости запаса патронов. Но с копьями дело обстояло иначе. Взамен потерянного копья всегда можно было сделать новое. Туземцы обучили его и этому.
Когда Дик убил своего первого падимелона, он почувствовал, что больше не боится зарослей. Но ему хотелось научиться всему, чему только возможно. Он ходил с женой Джима собирать травы, корни, семена злаков, ягоды, научился отличать съедобные растения и готовить их. Каждый вечер он черпал у Джима новые сведения о зарослях. Время проходило в такой приятной смене занятий, что Дик не замечал его. Он пытался определить, сколько дней провёл в овраге, сколько болел, сколько прожил с Джимом, но сбивался со счёта. Во всяком случае, месяца два уже прошло.
Однажды ихпосетили соплеменники Джима, человек тридцать мужчин и женщин, живших поблизости. Туземцы затеяли игры. Дик увидел шуточное состязание мальчиков, вооружённых тупыми копьями и стоявших двумя рядами в десяти шагах друг от друга. Он завидовал ловкости, с которой они ловили копья на свои овальные щиты. Больше получаса продолжалось это состязание, за которым весело наблюдали взрослые.
После вечернего пиршества, состоявшего из мяса кенгуру, началась корроборри. Чернокожие женщины, одетые в шкуры опоссума, сели у большого костра. Мужчины, размалеванные белой и красной глиной, стали в круг, держась на расстоянии трёх-четырёх футов друг от друга.
Женщины вибрирующими голосами запели нескончаемую песню. Дик не мог уловить сперва ни мотива, ни склада. Но потом он ощутил её внутренний смысл, её медленные ритмические пульсации. В ней была напевность ветра и ритм набегающих волн.
Время от времни женщины ударяли правой рукой по левой, раскрашенные мужчины в такт подпрыгивали и кружились, потом останавливались и приседали, издавая гортанные крики. Эти крики тревожили Дика, они казались ему ненужными и отвратительными, и всё-таки он ждал их, и его охватывало странное ликование.
Танцоры схватили оружие. Женщины продолжали тянуть жалобный, дрожащий напев, хлопая в ладоши, и их пронзительные выкрики становились всё громче. Мужчины кружились, притоптывали, приседали, потрясали оружием, как бы сражаясь с окружавшим их мраком, поражая бесчисленных незримых врагов. Они кружились и кружились, и задорные пронзительные вопли неслись к огромным мерцающим австралийским звёздам.
Дику не хотелось, чтобы корроборри кончилась, и всё-таки он обрадовался, когда она пришла к концу. Ему было страшно, хотя он не признался бы в этом. Но чернокожие по-прежнему были настроены дружелюбно. Они смеялись, болтали друг с другом и улыбались.
Когда Дик лежал возле сделанной из коры хижины Джима, он чувствовал себя очень одиноким. Ему хотелось домой, хотелось повидать родителей и Шейна. Он даже не знал, остался ли Шейн в живых. Вспомнил он и Козиму — впервые за всё время, что жил с Джимом. Она ему нравилась, она была так не похожа на остальных девчонок, которых он знал, — девчонок, созданных, кажется, специально для того, чтобы портить все игры и хихикать по уголкам. Козима была совсем другая.
Дику захотелось вернуться в Балларат.
Глава 24. Старый Нед
На следующий день племя снялось с места. Туземцы перебирались на юг, но никто не торопился. Еды кругом было ещё вдоволь. Дик радовался, что снова останется только с Джимом и его женой. В их обществе он чувствовал себя уверенно, не видел разницы между собой и ими, уже не замечал цвета их кожи и даже немногочисленности слов, которыми мог с ними обменяться, — Дик теперь немного говорил на языке Джима.
Среди толпы чернокожих он утратил это чувство уверенности. Там он был чужаком, пришельцем, и его это пугало.
Но вот однажды явился вестник, и Джим объявил, что пора собираться в дорогу. Племя опередило их всего на несколько миль, и в два-три дня его можно будет без труда нагнать. Жена Джима уложила всё имущество в соломенную корзину, Джим взял оружие, собака выловила на себе ещё несколько блох и фыркнула на своё излюбленное дерево, Дик подтянул штаны — и сборы к отъезду были закончены.
Дику было неприятно, что женщина, вдобавок к младенцу за спиной, тащит на себе все самые тяжёлые вещи, и он предложил нести одеяло. Но Джим с женой посмеялись над ним. Джим заявил, что на этот раз у неё очень лёгкая поклажа, она может нести в два раза более тяжёлый груз, и женщина в знак согласия ухмыльнулась.
Они шли довольно медленно, так как Джим по дороге решил поохотиться на кенгуру. Дик не пошёл с ним, — он должен был помочь приготовить ужин. Джим вернулся часа через два; он убил только кенгуровую крысу, зато принёс волнующее известие: невдалеке, вниз по течению речки, вдоль которой они шли, расположен лагерь белого человека.
Дик снова загорелся желанием выбраться из зарослей и оказаться среди людей, с которыми он сможет разговаривать так, как никогда ему не удастся разговаривать с Джимом. Он очень сблизился с ним, но их дружба была дружбой людей, живущих в зарослях, а Дик, хотя и понимал, сколь многим он обязан жизни в зарослях, не желал сдаваться. Приблизиться к природе полезно, но не менее полезно вовремя отдалиться от неё.
Дик печально оглядел себя. Одежда его была грязна и изодранна, еле на нём держалась. Сам он загорел почти до черноты и привык ходить босиком.
Он представил себе, каким показался бы матери, если б в таком виде вошёл в родительский дом. Это огорчило и потрясло его. Как похож он стал на Джима! И при этом как многому научился! Дик чувствовал, — уже ничто его по-настоящему не испугает, он стал твёрже шагать по земле.
— Пойдём к этому человеку, — сказал он.
Какое счастье, что они натолкнулись на этого белого! Ведь Джим явно не желал и близко подходить к городу или даже к ферме. А одинокий белый человек, возможно, старатель, был именно таким товарищем, в котором нуждался Дик для возвращения к цивилизованной жизни.
— Он старик, — сказал Джим. — Дурной глаз.
— Неважно, — ответил Дик, охваченный теперь одним желанием: оказаться в обществе белого. — Пойдём к нему.
Он попытался объяснить Джиму, что заставляет его уйти.
— Отец, мать ждут меня.
Джим кивнул головой и улыбнулся. Дику грустно было прощаться, и он не мог придумать, как бы им условиться о новой встрече. Он постарался втолковать Джиму, что у него нет постоянного дома.
— Встретимся, — уверенно сказал Джим.
Дик пожал руку жене Джима, чем явно смутил её, поблагодарил за всё, что она для него сделала, и ушёл вместе с Джимом. Они зашагали по берегу речки. Вскоре Дик увидел вдым от костра. Джим решительно заявил, что теперь он уйдёт, — он не хочет встречаться с человеком, которого не знает. Дик распрощался с ним и дальше пошёл один.
Обогнув холм, Дик радостно подбежал к одинокому путнику — первому белому, встреченному им за много месяцев. Как и говорил Джим, это был старик, седовласый и седобородый. Такому старому человеку не следовало бы одиноко бродить по зарослям. Но Дика не удивил его возраст, — он знал старателей преклонных лет, которые искали золото до тех пор, пока не умирали от голода и жажды в какой-нибудь глухой чаще.
Старик взглянул из-под лохматых бровей и нахмурился. Дик понял, что Джим хотел сказать словами «дурной глаз». Во взгляде старика светилась злобная сила, и Дику он сразу перестал казаться дряхлым.
— Ты кто такой? — грубо спросил он, нащупывая револьвер.
— Старатель, так же, как и вы, — ответил Дик. — Я заблудился.
— Я не заблудился, — ответил незнакомец, подозрительно оглядывая Дика сверкающими запавшими глазами. — Я-то свою дорогу знаю. Я знаю… — Он замолчал и окинул Дика ещё более угрожающим взглядом. — Кто послал тебя?
— Никто. Говорю вам, что я заблудился и хочу добраться до какого-нибудь города — Арарата или Бендиго. Я хочу на запад. В Аделаиду.
— А почему ты думаешь, что я тоже иду туда? Кто тебе сказал про меня?
Дик начал сомневаться в том, что поступил благоразумно, променяв дружелюбного Джима на этого мрачного седобородого старика.
— Чернокожий по имени Джим…
— Где он сейчас?
Пристально глядя вдаль, старик снова положил руку на револьвер. Дик подумал, что, пожалуй, ему тоже следует подтянуть свой револьвер и положить руку на кобуру. Не то чтобы он ждал нападения, нет, просто хотел показать старику, что тот имеет дело не с беззащитным существом.
— Он догоняет своё племя, которое переселяется к побережью. Он не захотел идти со мною.
— На то у него свои причины, свои причины, — сказал старик, медленно покачивая головою и закрывая глаза. Потом снова открыл их. — У вас у всех так. Но меня вам не провести, и не думайте. Гнусен этот мир, и лишь в свой смертный час познает человек истину.
От несвязных слов старика Дику всё больше и больше становилось не по себе, но он сделал ещё одну попытку договориться.
— Можно мне присоединиться к вам? Я думаю, вы идёте куда-нибудь…
— Иду куда-нибудь!.. — повторил старик. — Так, так, теперь ты начал задавать вопросы. Я этого ожидал. Ты хитрец, да, да. Но я догадался. Тебе не провести старого Неда, у него мозги в порядке. — Он потряс морщинистым кулаком перед носом у Дика. — Стыдись, предатель и лживый убийца!
Дик молчал. Он начал понимать, что либо ему надо не мешкая возвращаться и искать Джима, либо в одиночку идти на запад. Он боялся старика: тот, видимо, был не в своём уме.
Но, бесцельно поковырявшись в костре, старый Нед поднял глаза на Дика и сказал совсем другим голосом:
— Добро пожаловать, сынок. Я рад товарищу. Мне не повезло на этот раз, совсем не повезло. Но везение приходит и уходит. Я не жалуюсь.
— Я думал, вы ничего не будете иметь против того, чтобы я присоединился к вам, — сказал Дик. — Если, конечно, вы идёте на запад.
— Запад, восток, всё одно, — уныло сказал старый Нед. — Солнце всходит и солнце заходит, ветер дует и ветер утихает. А что в этом проку, спрашиваю я тебя?
Дик не ответил, и старый Нед, спохватившись, заговорил спокойнее.
— Значит, молодой человек, мы пойдём вместе, ты и я. Мы пойдём на запад, туда, где заходит солнце. Запад — хорошее место. Есть места похуже, чем то, где заходит солнце. На нём кровь. — Он внимательно посмотрел на Дика. — Я хотел сказать, — на рукаве твоей рубахи.
Дик посмотрел на рукав.
— Это кровь кенгуру, которого мы с Джимом потрошили на прошлой неделе. А я-то думал, что оттёр её.
— Неважно, — ответил старый Нед, ковыряясь в костре. — Её можно оттереть и втереть. Но отпереться от неё ты не сможешь. Ты её пролил. И она уже не уйдёт. Она на тебе, и никто не сможет отпереться.
Дик не понимал, куда клонит старый Нед, но тот говорил тихо и печально, а не вызывающе, как вначале. Дик решил, что старик немного рехнулся, как многие одинокие старатели, которые слишком долго жили в зарослях. Они становились самоуверенными чудаками и нередко под конец сходили с ума.
— Располагайся как дома, — сказал старый Нед, ложась на землю и уже совсем не напоминая того исполненного злобной силой человека, который встретил Дика… — Не будем торопиться. Кто, говоришь ты, послал тебя ко мне?
— Я заблудился и чуть не умер от жажды. Но чернокожий, по имени Джим, спас меня.
— Могло быть и так. — Старый Нед покачал головой. — Располагайся как дома, потому что в расцвете жизни мы можем встретить смерть. Это мудрая мысль, как сказал лорд Нельсон. Он был великий человек, и они выбрали бы его английским королём, но пушечный снаряд настиг его, настиг его. «Мир становится всё неблагодарнее», — сказал он, испуская последний вздох, и правильно сказал. И это написано в Откровении, глава восемнадцатая, стих семнадцатый. Но об этом больше не надо. Молчи, глупец!
Последние слова он пробормотал, обращаясь к самому себе. Дику снова стало боязно, но теперь, очутившись в обществе белого человека, он чувствовал, что предпочитает этого полоумного старика Джиму, доброму и разумному, но всё-таки чужому.
— Когда мы пойдём?
— Завтра на рассвете. Зови меня Недом, потому что такое имя мне дали при крещении, и, услышав его, дьявол обращается в бегство, ибо знает, что я не из его племени. И это всё, что я могу сказать.
Дик решил вести себя как ни в чём не бывало и вытащил истолчённые и поджаренные коренья, которые жена Джима подарила ему на прощание. Нед снова замолчал и сидел, поглаживая длинную изжелта-седую бороду. Теперь он был совсем кроткий, помог Дику приготовить ужин, потом вытащил из своего мешка несколько сухарей и начал медленно их жевать.
Стемнело, и Дик улёгся спать. Он видел, что Нед долго стоял на камне, обратившись лицом к западу и преклонив колени, и это зрелище успокоило его. Измученный сложным и непонятным разговором с Недом, он уснул.
Глава 25. Сумасшедший
На рассвете Дик проснулся от неприятного ощущения, будто его сверлит чей-то враждебный взгляд. Подобное ощущение бывало у него и прежде, и оно всегда оказывалось неоправданным, но, окончательно проснувшись Дик с удивлением обнаружил, что на этот раз он не ошибся. Перед ним сидел Нед с револьвером в руке и смотрел на него недобрым взглядом. Дик сразу же сунул руку за своим револьвером.
— Ты не найдёшь его, предатель, — с отрывистым, безумным смешком сказал Нед. — Я его отобрал у тебя. Как ты думаешь, чего я дожидался? Я дожидался той минуты, когда в свой черёд обворую тебя и стащу твой револьвер. Кража за кражу.
— Но почему? — воскликнул Дик. — Я же не сделал вам ничего плохого.
— Неважно, что ты не сделал, — ответил Нед, хитро кивая головой. — Важно, что ты замышлял.
— Я ничего не замышлял. Я только хотел добраться до города.
— Ложь тебе не поможет, — сказал Нед, поднимая револьвер. — Меня никто не проведёт. Слюна ангелов пролилась мне в глаза, и теперь ложь не ослепляет меня, как темнота не ослепляет зеленоглазой кошки. Я получил этот дар в награду за свои страдания, — злобно добавил он. — Разрази меня гром, я сам не понимаю, почему не пристрелил тебя, пока ты спал.
— Я впервые увидел вас только вчера…
— Да, но видели другие.
— Я никогда не слышал вашего имени…
— Мне безразлично, как меня называют. Я и тебе не сказал моего настоящего имени. Никто не знает моего настоящего имени. Меня назвали Недом, чтобы отогнать дьявола. Но на этом свете ещё никто ни разу не произносил моего настоящего имени. Ты не понимаешь, о чём ты спрашиваешь. А может быть, и понимаешь. Может быть, это всё — козни дьявола. Только имей в виду, таким путём ты от меня ничего не добьёшься. Никаким путём не добьёшься. Ты для меня открыт, как для пули, которая сейчас впустит дневной свет в твою тьму.
Дик отчаялся что-нибудь объяснить. Ему больше нечего было сказать. Он сидел, опёршись подбородком о поднятые колени, стараясь не встретиться глазами с сумасшедшим, чтобы не рассердить его и не вызвать нового взрыва упрёков и обвинений.
— Сейчас ты увидишь, как много я знаю, — твёрдо и очень медленно произнёс Нед. — Страх божий овладеет твоей жалкой душонкой. Посмотри мне в глаза и попробуй сказать, что ты не знаешь Томми Китайца.
От неожиданности Дик вздрогнул и уставился на старика. Нед хихикнул и радостно замотал головой.
— А, попался на удочку! Посмей же сказать, что ты его не знаешь.
— Нет, я знаю его, — ответил Дик. Он не мог понять, был Томми другом или врагом Неда. Но, сообразив, что старик, видимо, связывает его, Дика, с бандой Томми, решил говорить правду. — Он мой враг. После всего, что он сделал со мной, он, конечно, мой враг.
Старый Нед рассмеялся хриплым, каркающим смехом.
— Вот это здорово! Думаешь таким образом окрутить меня? Будь ты и вправду его врагом, я бы встретил тебя барабанным боем. Нет, так легко меня не надуешь. Что ж ты вчера не сказал: «Слушай, Нед, я пришёл сюда, чтобы вместе с тобой выследить его, я враг этого негодяя, и мы сотрём его с лица земли». Но ты не сказал этого. Ты втёрся ко мне с разными баснями про какого-то чернокожего. А вот сейчас, когда тебя вывели на чистую воду, ты стал притворяться, будто держишь мою сторону.
— Да откуда мне было знать, что вы знаете Томми? Я бы всё рассказал, если бы мне пришло в голову…
— Если бы тебе пришло это в голову, я бы сразу догадался. Но ты всё скрыл, думал, сможешь провести меня. А теперь видишь, что дело не пойдёт. Я-то тебя знаю.
— Кто же я, по-вашему? — крикнул Дик, у которого раздражение пересилило ерах.
— Ты — его шпион, — прошептал Нед. — Его шпион. Он послал тебя, чтобы ты завлёк и погубил меня, как дьявол, который с рёвом рыщет среди племён и народов и пожирает сердца грешников. Он стал бояться. Он причинил мне зло, много зла. Слишком много зла, чтобы жить на свете. Но я всё предусмотрел. Имя его отмечено, и он уже всё равно что покойник. Как он, верно, сейчас дрожит и трясётся, каким холодным потом обливается его подлая душонка!
— Я готов сделать что угодно, — сказал Дик, — чтобы помочь вам и доказать, как я ненавижу этого злодея. Не знаю, из-за чего у вас с ним вражда, но я стану на вашу сторону, потому что он не может быть правым. Но сперва дайте мне возможность доказать.
— Ты станешь на мою сторону? Клянёшься в этом?
— Клянусь! Только дайте мне возможность доказать это!
Дик говорил искренно. Он не видел другого способа успокоить сумасшедшего и к тому же готов был помочь кому угодно в борьбе против Томми и его банды. Какая нелепость, что именно его обвиняют в дружбе с Томми, хотя вряд ли у кого-нибудь столько причин для нелюбви к этому человеку!
— Ладно, — сказал Нед. — Дам тебе такую возможность. Ты хочешь помочь мне?
— Конечно, хочу.
— Ну что ж! Проведи меня к нему, и тогда я тебе поверю.
Дик помолчал. Видно, справиться с навязчивой идеей старика было невозможно.
— Я не знаю, где он сейчас.
— Вот-вот, ты уже идёшь на попятный. Я же говорю, что ты лжёшь! — Он поднял револьвер. — Нет, от тебя мне не будет никакого проку, никакого проку…
— Подождите! — в отчаянии воскликнул Дик. — Я проведу вас к нему!
Другого выхода у него не было. Если он согласится быть проводником старика, — может быть, ему удастся удрать по дороге.
— Где же он сейчас? — спросил Нед с торжеством в голосе.
— Где-то в зарослях. В двух днях ходьбы отсюда.
Старик задумался.
— В двух днях ходьбы. Что ж, на этот раз ты, может, и не врёшь. Ты проведёшь меня к нему, и я прощу тебя и дам драгоценностей, и женю на своей дочке, на американской принцессе. Но не надейся, что тебе удастся ночью улизнуть. Я никогда не сплю. У меня отобрали сон. Зачем он мне, раз я безгрешен и на мне не лежит проклятие Адама?
— Но ведь вы едите и пьёте, — сказал Дик и тут же мысленно выбранил себя за то, что стал противоречить старику.
Но Нед не рассердился.
— Верно. Но не потому, что мне это нужно, — сказал он, хитро усмехаясь, — а для отвода глаз. Те, кто следят за мной, не должны пронюхать, кто я такой. Ну, а теперь вставай и веди меня к тому подлецу, который причинил мне зло.
Когда Дик встал, Нед, не переставая целиться в него, взял полосу сыромятной кожи с петлёй на конце и накинул её на мальчика.
— А ну, опусти её пониже.
Дик покорно продел в петлю плечо, и старый Нед плотно притянул его руки к бокам.
— Сперва мне надо что-нибудь поесть, — сказал Дик, стараясь выиграть время. Да он и в самом деле был голоден. — Я ведь не так устроен, как вы. Если вы меня не накормите, я не смогу вести вас.
— Верно. Ты устроен не так, как я, — согласился Нед. — Ты понемногу начинаешь говорить правду.
Он положил на камень несколько сухарей и позволил Дику подойти к ним и позавтракать. Есть было очень неудобно. Локти Дика были туго притянуты к рёбрам, и ему приходилось сгибаться чуть ли не вдвое, а Нед смотрел на него и хихикал со злобной радостью.
— Ну, теперь идём, — сказал он под конец. — Веди меня самым коротким путём. Своих верных слуг я вознаграждаю щедрой рукой. А каково приходится моим врагам, ты увидишь собственными глазами.
Глава 26. И ещё раз Томми
К полудню Дик почувствовал, что силы его иссякли. Старый Нед погонял его кожаным ремнём, словно он был лошадью, и утверждал, что Дик должен знать кратчайший путь к убежищу бандитов.
— Они должны быть где-то поблизости, — рычал он. — Я шёл по следам Томми, заруби это у себя на носу… Ты ведёшь меня правильно, — мне говорили, что он пошёл в этом направлении. Какие там два дня! Если идти добрым шагом, то можно добраться туда и к заходу солнца. — Он снова стегнул Дика. — Поторапливайся! Ага, ты не думал, что я такой ходок!
Один раз Дик заметил туземца, прятавшегося за деревьями, и попытался помахать ему рукой и позвать, в надежде, что это один из соплеменников Джима. Но старый Нед, не видевший туземца, стал осыпать мальчика ударами, грозить и браниться. Несмотря на свой возраст, он не проявлял никаких признаков усталости. Его глаза горели мрачным огнём.
Наконец Дик решил, что он должен сделать попытку убежать, даже если это будет стоить ему жизни. Всё равно такая ходьба убьёт его, тем более что у него нет надежды найти бандитов, хотя из бормотания старого Неда он понял, что они должны быть где-то поблизости. Впрочем, думал он, может быть, и это утверждение — просто бред безумного.
Они остановились на краю небольшого оврага, и Нед уже собирался снова хлестнуть Дика. Дик быстро огляделся. Нужно было прыгнуть с десятифутовой высоты на дно сухого песчаного оврага, потом пробежать ярдов пятьдесят до излучины речки.
— Дайте мне попить, иначе я не смогу идти, — задыхаясь, произнёс Дик.
— Так и быть, — презрительно отозвался Нед. — Ты смертный и не похож на меня. Пока ты спал, мне была ниспослана манна. Сороки принесли мне её в своих клювах. На, пей.
Он отвязал флягу и, отвинтив крышку, протянул Дику. Тот поднёс флягу к губам и сделал большой глоток.
— Довольно, — сказал Нед. — Давай её мне.
Одним движением Дик отнял флягу от губ, бросил её Неду в лицо и высвободился из петли. В следующую секунду он спрыгнул с обрыва. Когда он коснулся земли, ноги у него подкосились. Но он тут же вскочил и помчался что было сил вдоль берега реки к излучине, ободрённый глотком воды и надеждой на освобождение. Прыгая, он краем глаза успел заметить, что Нед пошатнулся и упал в колючий кустарник. Должно быть, старик не сразу отцепился от колючек, потому что Дик уже обогнул излучину, когда раздался звук выстрела, сделанного в приступе слепой ярости, поскольку мальчик уже скрылся из виду.
Не останавливаясь, Дик добежал до поперечного оврага, промчался по нему ещё с четверть мили, а затем вскарабкался на откос.
Там он немного отдохнул, не переставая настороженно оглядывать овраги. Он не видел никаких признаков погони, но мешкать всё-таки не осмеливался. Из отдельных замечаний Неда он понял, что старик хорошо знает заросли, а как метко тот стреляет, — убедился воочию. В виде предостережения Дику, Нед однажды подстрелил попугая на верхушке перечного дерева.
И вот Дик опять стал пробираться по зарослям на запад, сбегая с откосов и с трудом взбираясь на склоны. Но он был свободен, свободен!..
Поднявшись на холм, он увидел внизу приветливую лощину. Обилие зелени говорило о присутствии воды, и у Дика от жажды вновь запершило в горле. Шумно прокладывая себе дорогу через кустарники, он сбежал вниз и очутился на небольшой полянке. С осенённого папоротниками камня струился родник, образуя внизу пруд с белым, усеянным голышами дном, а на травянистом холмике возле пруда сидело около десятка людей. Их лошади были привязаны в стороне, там, где к лощине вплотную подходил ещё один овражек. Добротный каменный очаг и постели, разложенные в неглубокой пещере у ручья, говорили о том, что незнакомцы обосновались здесь довольно давно.
Позабыв обо всём на свете при виде людей и прохладной, журчащей воды, исполненный восторга, Дик с громким криком бросился вперёд. Но, ещё не успев добежать, он почувствовал, как сердце у него сжалось от предчувствия беды, и понял, что перед ним — враги.
Отступить он уже не мог. Хотя на него было направлено с полдесятка револьверов, особого страха Дик не испытал. Ему смертельно хотелось пить, сделать хотя бы один глоток воды, да и к тому же эти люди, как ни зачерствели их сердца, были в здравом рассудке!
— Я хочу пить! — крикнул на бегу Дик.
Люди безмолвно расступились и пропустили его. Спотыкаясь, он добежал до пруда, стал на четвереньки и погрузил пылающее лицо в прохладную воду. Потом начал пить.
Все по-прежнему молчали. Почувствовав, что его усталая голова проясняется, Дик приподнялся и увидел Томми Китайца, который стоял в нескольких шагах и целился в него.
— Вот ты и пришёл, — сказал Томми с неумолимой улыбкой. — Томми стоит свистнуть — и ты бежишь, как собака.
— Я был в лагере повстанцев, а потом заблудился.
— Старая история, — отмахнулся Томми. — Мы с тобой уже раньше встречались. Что ты можешь мне сказать?
— Вы же не сердитесь на меня за то, что я убежал, когда вы собирались меня мучить?
— Мы не сердимся. Но мы помним. На этот раз мы будем осмотрительней.
— Ещё бы! — сказал, подходя к ним, огромный швед. — Именно так!
Он хотел стукнуть Дика, но Томми оттолкнул его.
— Погоди. Да и побоев с него мало.
Он повернулся к Дику и сузил глаза. Остальные молча сомкнули круг. Дик слышал, как мирно пощипывали траву лошади. Мысли его разбегались. Невозможно было поверить, что под эти мирные звуки — журчание ручья, похрустывание травы, в зубах у лошадей, шелест листвы — может случиться что-нибудь дурное.
— Ну как, теперь ты одумаешься? Второй раз убежать не просто.
— Если вы опять меня спрашиваете о золоте старика Макфая, то я могу только повторить, что ничего не знаю, — ответил Дик, с трудом сосредоточивая внимание на свирепых лицах, обращённых к нему. — Я бы не скрыл, если бы знал. Золото дешевле жизни.
— Золото и есть жизнь, — заметил Томми. — Только золото и нужно человеку. Поэтому оно — жизнь. Так, мальчики?
Сообщники Томми насмешливыми возгласами выразили своё согласие.
— Ещё бы! Именно так! — сказал швед, с кровожадной ухмылкой утирая обеими руками рот, где недоставало передних зубов. — Отдаю свою голову за монету. Чью угодно голову. За два пенса.
— А ты, часом, не за вознаграждением пришёл? — спросил один из бандитов.
— За каким вознаграждением?
Громко смеясь, бандит указал на правительственное объявление, которое они для издёвки прикрепили к большому камню. Дик прочёл несколько напечатанных крупным шрифтом параграфов: «500 долларов за поимку… Живого или мёртвого… Бродягу, известного под именем Томми Китаец, и его сообщников… Золото из Банка в…»
— Расскажи нам про Макфая, и мы отпустим тебя, — сказал Томми Дику.
— Я ничего о нём не знаю. Найди я золотой клад, разве я стоял бы здесь перед вами в таком виде? — ответил Дик, стараясь придумать доводы поубедительнее.
— Но там было золото, а теперь его нет. И ты знал, что оно было.
— Вам же известно, сколько жуликов живёт на приисках. Наверно, кто-то раскопал его в пожарище до вас.
— Ну что ж, парень, — сказал Томми, немного подумав. — Так ты говоришь, что не знаешь?
— Не знаю.
— А если это правда, то скажи, — какая нам от тебя польза?
— Никакой пользы, — согласился Дик. — Но это ещё не причина, чтобы вам что-нибудь сделать со мною.
— Нет, причина, — сказал Томми, и его тонкие губы медленно расплылись в улыбке. — И не одна, а куча причин. К чему нам мальчишка, который будет зря болтать о нас? Другое дело, если бы ты признался, что стащил у старика золото, которое принадлежит Томми, и всё рассказал бы нам, и добавил бы это золото к тому, которое лежит у нас в сундучке — вон в том сундучке! — Он показал на дубовый, окованный железом сундучок, валявшийся на земле среди других вещей. — Мы бы убедились тогда, что ты хороший мальчик. Мы бы приняли тебя к себе и знали бы, что не станешь болтать о нас. А иначе…
Томми сплюнул.
— Я ничего не знаю о кладе Макфая, не знаю даже, был ли когда-нибудь такой клад, — уныло сказал Дик, чувствуя, что говорит впустую.
— Тогда нам от тебя никакого проку, — заключил Томми, медленно взводя курок.
— Ещё бы! — сказал швед, облизываясь. — Чёрт подери! Именно так.
— А почему бы ему не присоединиться к нам? — вмешался самый молодой из шайки, на лице которого ещё сохранились следы грубоватого добродушия. — Он ведь тоже вне закона, как и мы!
Они отошли в сторону и начали совещаться. Дик устало сел на берегу пруда. За его спиной высилась скала; эту преграду ему не одолеть. Он не мог кинуться в сторону, где стояли лошади, или начать карабкаться по склону: пуля нашла бы его раньше, чем он нашёл бы какое-нибудь укрытие. Оставалось одно — ждать.
Глава 27. Мститель
Томми Китаец отошёл от спорящих.
— Мёртвые держат язык за зубами, — сказал он, и его тонкий рот слегка искривился.
Дик пытался приготовиться к смерти. Но он не хотел умирать. Во всяком случае, не так. Если уж ему было суждено умереть молодым, то лучше бы его убили на холме Эврика. В такой смерти был бы по крайней мере смысл. В ушах Дика звучал возглас Рафаэлло: «Свято помните эту субботу!»
Не успел Томми сделать шаг по направлению к Дику, как откуда-то прогремел голос:
— От души спасибо, мальчик. Вот и я.
Дик взглянул наверх и увидел старого Неда, стоявшего на скале, которая нависала над полянкой. Бродяги остолбенели от изумления.
— Ты причинил мне зло, Томми! — воскликнул Нед, и револьвер его щёлкнул.
Томми пошатнулся, дико замотал головой и рухнул на землю. Мгновенно последовал второй выстрел, и большой швед упал ничком.
— Это тебе, Гус!
К этому времени бандиты оправились от неожиданности. Их потрясла небывалая смелость Неда. Они оцепенели при виде того, как бесстрашно он стоит на скале и не торопясь стреляет в них. Но тут они схватились за револьверы и в свою очередь начали палить. Однако от волнения и от необходимости целиться в человека, стоявшего прямо над ними, они стреляли слишком высоко.
Нед подстрелил ещё одного бандита, потом следующим залпом сам был ранен.
— Ура лорду Нельсону и ангелам господним! — завопил он надтреснутым голосом.
По его щеке текла кровь, левая рука беспомощно повисла. Двумя выстрелами он свалил ещё двоих. Потом выстрелил и промахнулся. В него попало несколько пуль.
Он медленно начал клониться, скатился со скалы и упал вниз, на кустарник.
Дик, скорчившись, притаился у ручья. Пятеро бродяг лежало на земле, трое из них были мертвы. Семеро оставшихся в живых бросились к Неду, проверяя, действительно ли старик мёртв. Они стреляли в труп, пинали его ногами, потом стали проверять свои потери. Томми, швед и ещё один были убиты. Двое раненых стонали и бранились, пока товарищи снимали с них одежду и делали перевязки.
«Они придут за водой, чтобы обмыть раны», — подумал Дик и стал отползать подальше. Но где укрыться? Он влез в пещеру и спрятался за камнем, лежавшим слева от входа.
Один из бандитов, вспомнив о нём, обернулся.
— Это всё твоя вина! — заорал он. — Будь ты проклят! Не думай, что ты там спрячешься!
Он подбежал поближе и прицелился в Дика. Курок щёлкнул, но выстрела не последовало. Стараясь попасть в старого Неда, бандит расстрелял все патроны, но в горячке забыл считать выстрелы.
С проклятием он схватился за патронную ленту и начал перезаряжать револьвер. Один на один Дик попытался бы броситься на бандита и схватиться с ним. Но какой в этом был смысл теперь, когда за спиной одного стояло шестеро других? Даже выйди он победителем из борьбы, всё равно они убили бы его.
Но не успел бандит заложить первый патрон в барабан, как в воздухе просвистело копье и, корчась, он упал на землю. В горло ему вонзился длинный зазубренный наконечник. Дик узнал копьё. Такие копья с зазубренными наконечниками были у Джима.
В этот миг воздух зазвенел от пронзительного гортанного вопля, заставившего похолодеть даже Дика. Этот вопль был страшен в ночь корроборри, но сейчас, при ярком солнечном свете, он звучал несравненно грознее, потому что был предвестником кровопролития.
Шестеро уцелевших бандитов принялись лихорадочно перезаряжать револьверы. Но в воздухе мелькало множество копий. Одному копьё попало в бедро, другому — в живот. Вскрикивая от боли, они пытались их вытащить, но только растравляли раны. Тот, кто был ранен в бедро, с огромным трудом вытащил древко копья, а наконечник застрял в ране; всё же бандит медленно пополз к лошадям. Второй раненый упал, на его губах показалась кровавая пена. Третьему копьё угодило в спину.
Трое оставшихся невредимыми бежали с поля боя. Они бросились к лошадям, вскочили на них и, опустив поводья, бешено поскакали к овражку, выходившему в лощину. Снова издав устрашающий вопль, туземцы во главе с Джимом сбежали со склона и начали приканчивать врагов. Джим мгновенно очутился возле Дика.
— Не ранен? — спросил он, помогая Дику встать.
— Не ранен, — улыбаясь ответил Дик.
Он стал расспрашивать, как Джиму удалось узнать о случившемся, и постепенно выяснил из его отдельных слов и жестов, что охотник-туземец видел Дика со стариком Недом и так был удивлён этим зрелищем, что сразу прибежал к Джиму и рассказал ему обо всём. Джим и ещё несколько воинов племени пошли по следам старого Неда. Это было несложно. Не отставая от старика, они добрались до лощины, но так как Нед был один, то туземцы не стали выдавать своего присутствия. Они были свидетелями того, как Нед стрелял в Томми и его сообщников, а когда над Диком нависла опасность, вмешались в побоище.
Слушая Джима, Дик опять обратил внимание на объявление полиции, в шутку прикреплённое к камню. Как жаль, что он не может потребовать вознаграждения! Пятьсот фунтов! С ними он уладил бы все затруднения отца. Но как может объявленный вне закона взывать к закону? Золото, украденное из банка, лежало, должно быть, в сундучке, а на земле валялись семеро убитых и двое раненых бандитов.
Оглянувшись, Дик, к своему ужасу, обнаружил, что туземцы прикончили раненых. Итак, перед ним было девять трупов и сундук. Ему выдали бы пятьсот фунтов, имей он возможность потребовать их. Конечно, золото — вот оно, рядом, но Дику и в голову не приходило, что он может в свой черёд присвоить его. Лучше уж пусть этот проклятый сундук сгниёт в лощине.
Дик горестно и недоумённо смотрел на сундучок и раскиданные вещи, размышляя о том, возможно ли что-нибудь придумать. Заметив среди всякого хлама газету, он поднял её, — ему было интересно узнать, от какого она числа и что произошло в мире за время его отсутствия. Нет ли каких-либо новостей о крымской войне?
В глаза ему сразу же бросился заголовок: «Народ одержал большую победу. Присяжные оправдали старателей…» Дик стал жадно читать. Люди, схваченные в лагере повстанцев, предстали первого апреля перед мельбурнским судом и были оправданы. Присяжные отказались поддержать обвинение. Это был окончательный удар по правительственной партии, требовавшей строгого наказания повстанцев.
Дик впился глазами в отчёт. Газету издавали, по-видимому, сторонники народного дела, потому что в ней почти полностью было приведено решение присяжных.
«В ответ на свой произвол правительство услышало голос народа… Никакого обложения налогами без соответствующего представительства. Всеобщее избирательное право для мужчин… Свободный народ Виктории приветствует мучеников, боровшихся за свободу и противостоявших беззаконию, одетому в мундир закона… Сопротивление беззаконному применению силы — первейшее из прав свободного человека. Эту великую истину подтвердили присяжные, которым мы приносим свои поздравления. После такого отпора правительство, жаждущее жертв, должно одуматься. Мы осмеливаемся предсказать, что больше никто из наших героев не предстанет перед судом. Правительство может быть недовольно, может отказаться от признания своих ошибок и объявления амнистии. Но решение присяжных является амнистией, исходящей от народа. Люди, сражавшиеся на холме Эврика, получат свою награду в виде восхвалений и будут причислены не к уголовным преступникам, как того хотело бы правительство, а к национальным героям».
Постепенно Дик начал осмыслять факты, прикрытые высокопарными фразами. Оправдание всех арестованных означало, что участников восстания больше не будут привлекать к ответственности. Дик стал свободным человеком. Он может безбоязненно всюду показываться. Его залила огромная тёплая волна благодарности.
Дик посмотрел на число, которым была помечена газета. Второго апреля. Потрясённый, он попытался подсчитать. Пять месяцев. Неужели он провёл в зарослях целых пять месяцев? Дик оглядел свои лохмотья. Потом подумал о разнице между мальчиком, бежавшим из Балларата, и тем человеком, каким он стал теперь, и понял, что никакие пять месяцев из его прежней жизни не были так богаты опытом.
— Слушай, Джим, — сказал он. — Умеет кто-нибудь из твоих ездить верхом?
Джим кивнул головой. Дик порылся в одежде убитых — отвратительное занятие — и нашёл огрызок карандаша. Сорвав объявление, он написал на обороте: «Любому белому, который прочтёт эту записку. Пожалуйста, сообщите полиции, что у меня сейф с золотом, а девять грабителей убиты. Податель сего укажет дорогу. Р. Престон».
На секунду Дику стало страшно подписывать своё имя, — в нём всё ещё жила боязнь, что оно выдаст его, — но потом он нащупал газету, которую сунул под рубашку, чтобы ни на секунду не расставаться с ней, словно она была настоящей гарантией прощения. Он был в безопасности.
Дик отдал записку туземцу, которому Джим объяснил, что нужно сделать. Туземец вскочил на коня и с криком поскакал по оврагу.
— Теперь можно и поесть, — сказал Дик. — Видишь, здесь куча всяких припасов. Как ты думаешь, те трое удравших вернутся назад?
— Не думаю, — усмехнувшись, ответил Джим.
Дик весело огляделся и, попросив туземцев оттащить трупы и поблагообразнее уложить их, подошёл к наваленным кучей вещам. Там были одеяла, котелки, кастрюли, инструменты, банки с консервами. Дик решил всё подарить чернокожим, хотя, несомненно, эти вещи были краденые и Дик не имел права распоряжаться ими. Но туземцы заслужили награды, а другого способа наградить их у Дика не было. К тому же он не сомневался, что вещи накрадены из разных лавок и домов по всей округе и установить владельцев теперь почти невозможно.
Поэтому Дик сказал, что Джим и его соплеменники могут всё взять себе; и они, быстро и весело разобрав вещи, разбросанные кругом, тут же попрятали их в кустарник. Дик хотел было отдать им и лошадей, но, поразмыслив, решил, что лошади уведены с окрестных ферм и рано или поздно у чернокожих могут возникнуть из-за них неприятности.
Так или иначе, туземцы пришли в восторг от того, что они получили. После дружеского обеда, приготовленного из провианта бандитов, Дик и его спасители устроились на ночлег, разведя сначала большой костёр и поставив дозорных.
Назавтра после полудня в овраге появился туземец, ускакавший с посланием Дика. За ним следовало пять конных полицейских и двое проводников-туземцев. При виде полицейских у Дика заколотилось сердце. Вот когда его странствиям действительно пришёл конец. Но он всё ещё был не совсем уверен в правдивости газетного отчёта и поэтому чувствовал себя неспокойно.
Загорелый сержант с суровым лицом спешился и протянул Дику руку.
— Мистер Ричард Престон? Да, должен сознаться, я ожидал встретить кого-нибудь повзрослее. Не всякий может одним махом захватить сейф с золотом и прикончить девятерых, не говоря уже о том, — добавил он, оглянувшись, — чтобы пригласить отряд чернокожих в качестве телохранителей.
— Ну, туземцы-то всё и сделали, — ответил Дик.
Он рассказал сержанту о том, что произошло.
— Кажется, я знал этого старого Неда, — заметил сержант. — Непутёвый человек. И пьяница. Но я не слыхал о ссоре между ним и бандитом Томми. В общем, всё это выяснится. Да, пословица о том, что и у вора своя честь, не врёт. Кстати, когда вы ушли из Балларата?
— Третьего декабря, — сказал Дик, глядя сержанту прямо в глаза.
— Так я и думал. — На жёстком лице сержанта появилась улыбка, и он вплотную подошёл к Дику. — Несколько слов по секрету, юный Престон. Такая работа, как эта, мне больше по душе, чем охота за старателями. Но приказ есть приказ. Хотя вы мне очень нравитесь, я немедленно арестовал бы вас за измену и бунт, но, к счастью, мне сейчас дан другой приказ. Пусть это останется между нами. Больше не будет никаких арестов из-за того, что произошло до третьего декабря и в этот день. За Лейлора назначено вознаграждение в четыреста фунтов, и мы знаем, где он находится, и при этом, да будет вам известно, он в полной безопасности.
— Он не погиб?
— Нет, но потерял руку. А за Верна назначено пятьсот фунтов, и мы знаем, что он в Мельбурне. Он думает, что ему удалось здорово провести нас. Но у правительства связаны руки, и я лично очень рад этому. Однако приказ есть приказ, и, повернись всё иначе, я бы надел на вас наручники. Но раз всё обстоит так, как обстоит, то вы получите пятьсот фунтов. И дайте мне ещё раз вашу руку, молодой человек.
Он обменялся с Диком горячим рукопожатием.
Глава 28. Награда
— Словом, сейчас мы уже можем расстаться с Балларатом, — сказал Дик, попивая чай, налитый ему не устававшей восхищаться матерью.
На Дике был его лучший костюм, прекрасно сидевший на нём до ухода из Балларата, а теперь тесный и короткий.
— Но Сандерс говорит, что добыча пошла лучше, — проговорил мистер Престон, немного робевший перед сыном. — Жаль бросать сейчас участок. Помнишь, ты сам раньше говорил, что преждевременно бросать — значит делать глупость.
— Я думал, вы его уже продали, — сказал Дик.
— Я всё подготовил к продаже, но в последнюю минуту решил, что ещё немножко подожду. Не думаешь ли ты…
— Ненавижу золотоискательство, — ответил Дик. — У нас теперь появились деньги, и я хочу купить земельный участок. Сержант говорил мне, что в южной Австралии можно дёшево купить хорошую пахотную землю. Хочу купить ферму, чтобы сеять пшеницу и разводить овощи.
Мистер Престон кашлянул и прочистил горло.
— Бывают занятия и похуже…
— Нет занятия лучше, — сказал Дик. — Мне хочется не с наскоку узнать страну, в которой я живу, а кроме того — оно мне нравится.
— Дик, дорогой! — воскликнула миссис Престон, всплескивая руками. — Мне так нравится фермерская жизнь! Но подумать только, что ты пережил!
— Дело не в том, что я сделал, — возразил Дик, чувствуя своё превосходство над бестолковыми взрослыми. — Дело в том, чему я научился. Шейн с радостью присоединится к нам. У него оказалось больше здравого смысла, чем у меня. Он несколько дней прятался в лачуге на горе Бунинйонг, а потом перебрался в Джилонг. Он согласен со мной, что поиски золота не настоящее дело для мужчины. Вот выращивать пшеницу — это настоящее дело.
— Вы посмотрите только на него! — воскликнул мистер Престон. — Он говорит так, словно всё знает!
— А что же здесь удивительного? — с гордостью сказала миссис Престон. — Дик, после чая придёт Козима. Она была для меня таким утешением в те дни, когда мы о тебе ничего не знали! Она пришла однажды утром и назвала себя… Но я уже рассказывала тебе об этом.
— Да, — сказал Дик, хотя с удовольствием послушал бы об этом второй раз. — Ручаюсь, что она согласится со мной. У неё есть голова на плечах.
— Конечно, есть, — поддержала его миссис Престон. —Она говорит, что ты — герой.
— Ну, я не об этом, — краснея под загаром, сказал Дик.
— Но согласись, Дик, — заметил мистер Престон, — что, если бы я не переехал на золотые прииски, ты никогда бы не поймал бандитов и не мог бы заняться фермерством.
— Да, всё это как-то связано, — задумчиво произнёс Дик. — Но я совершенно прав насчёт того, чем нам сейчас нужно заняться.
— Совершенно прав, — подтвердила миссис Престон.
— Ты совсем его захвалишь, — запротестовал отец, набивая трубку.
— Нет, папа, — серьёзно сказал Дик. — Я слишком хорошо понял, как легко потерпеть в жизни крушение. Просто я люблю эту страну и понимаю, как приятно выращивать пшеницу и делать полезное дело собственными руками.
— Ну что ж, Дик, — великодушно заявил мистер Престон. — В общем, ты, наверно, прав.
— И у нас будет отличный дом, — сказал Дик. — Небольшой, конечно, но удобный, и там будут цветы, и плодовые деревья, и… и…
— Я понимаю, что ты хочешь сказать, — подхватила миссис Престон. — Такой дом — моя заветная мечта.
Дик подумал о другой мечте, с которой он уже не расстанется, о мечте, которая представлялась ему в образе Рафаэлло, бегущего по вершине холма под градом пуль и взывающего: «Свято помните эту субботу!»
Но не было разлада между двумя мечтами — мечтой о свободном мире и мечтой о зреющей золотистой ниве.
И внезапно Дик понял, что ему ферма нужна по-иному, чем его родителям. Она нужна ему для работы, которая влечёт его, которую он считает стоящей. А кроме того, ферма послужит ему точкой опоры, без которой он не сможет вести борьбу.
— Шейн идёт, — глядя в окно, сказала миссис Престон.
Шейн ворвался в комнату. Он был одет в алый свитер, опоясанный зелёным кушаком, молескиновые штаны, морские сапоги и широкую шляпу с болтающимися кисточками, чтобы отгонять мух. Шейн сорвал шляпу и поклонился.
— Здорово я замаскировался? — спросил он. — Мне, разумеется, понятно, что теперь я ни к чему полицейским, но я хотел польстить им маскировкой.
— Тебя всё равно сразу можно узнать, — сказал Дик.
— Вы только навлечёте на себя подозрения, — поддержала его миссис Престон.
— Ну что ж, — согласился Шейн, — в конце концов, действительно, зачем человеку прятать свою красоту?
— Надеюсь, вы не собираетесь опять сбивать моего сына с пути истинного? — сказал мистер Престон, улыбаясь и приминая табак в трубке.
— Вы называете это — сбивать с пути истинного? Да я как раз наставил его на путь истинный — и вот посмотрите на него. Он теперь может без всякой посторонней помощи влезть в любую самую неприятную историю.
— А скажите, был какой-нибудь смысл в вашей истории? — настаивал мистер Престон.
— Огромный! — воскликнул Шейн. — Она изменила облик мира — ни мало ни много. Я целый месяц скрывался вместе с доктором Кенворти. Он немножко просветил меня, и теперь я лучше разбираюсь в вещах. Правительству волей-неволей пришлось сдаться. Оно разбито наголову. Скваттеры — эти старые черти, эти земельные воры — потерпели поражение. Мы скоро получим всё, за что боролись, за что тщетно боролись чартисты в Англии. А почему мы победили?
— Почему? — с сомнением качая головою, спросил мистер Престон.
— Потому, что боролись не в одиночку. Все до единого порядочные люди в стране после нашего выступления помогали нам, кто словом, а кто и делом. События повернулись в нашу пользу после митинга в Мельбурне. Мы скоро добьёмся всего, за что боролись. Права голоса для всех, даже для самых бедных. Конца самоуправства фараонов и солдатни. Тайного голосования, чтобы не было подкупов и избиений, как в Англии. И всех остальных требований чартистов.
— Ура! — закричал Дик.
— Да, и кое-чего мы уже добились. Но не думайте, что остановимся на этом. Скоро им и в Англии придётся согласиться на всеобщее избирательное право и тайное голосование. Им не удержать рабочих после того, как мы показали дорогу. А вслед за Англией к нам присоединится весь мир. Говорю вам, что мы кое-что сделали, чтобы изменить облик мира.
— Трудновато мне поверить вам, — сказал мистер Престон. — Может быть, вы и правы, но я никогда не думал, что история делается таким путём. Можно сказать, прямо у меня под носом.
— Но, даже если мы выиграем эту партию, до конца ещё далеко. Когда мы получим право голоса, мы не прекратим борьбу. Я-то их знаю, они хитрые бестии. Борьба только начинается. Но мы хорошо начали, и наши товарищи погибли не зря.
— Я не могу согласиться с вами во всём, — моргая, сказал мистер Престон, — но в общем кое-что вы сделали. Отдаю вам должное.
— Мы ещё переделаем мир так, чтобы в нём стоило жить! — воскликнул Дик.
Миссис Престон давно уже не слушала их и безмятежно что-то шила, время от времени отодвигая занавеску из бумажной материи и бросая взгляд в окно.
Посмотрев в последний раз, она обернулась к Дику.
— Идёт Козима, — сказала она.
Перевод: Э. Линецкая, В. Голант
Поль Сезанн

Предисловие
Эта книга во многих отношениях продолжает и дополняет мою «Жизнь Тёрнера», но она, конечно, не исчерпывается этим, потому что возникла из интереса к самому Сезанну. Однако во время написания книги я во все большей степени ощущал, что Сезанн был кульминацией той революции в искусстве, которую провозгласил Тёрнер, несмотря даже на отсутствие свидетельств тому, что он видел хотя бы одну из тёрнеровских картин или по крайней мере слышал его имя. (Впрочем, исходя из того, что Писсарро во время приездов в Англию стал почитателем Тёрнера и изучал его акварели наряду с полотнами маслом, похоже на то, что Поль по крайней мере что-то об этих работах слышал.)
После смерти Сезанна в 1906 году вышло множество книг и статей о нем, но вряд ли можно утверждать, что существует хотя бы одно удовлетворительное жизнеописание художника. Книга Герстла Мака, вышедшая в 1935 году, была лучшей для того времени попыткой; Ревалд позже добавил немало ценного и значительного материала. Но нет покуда ни единой книги, в которой были бы собраны все доступные факты и которая излагала бы их с критических позиций, поровну освещая и его неустанную битву в искусстве, и сложности личной жизни (уже затронутые, например, Реффом). В надежде создать такую книгу я и предпринял сей труд.
Ввиду важности отношений Сезанна с Золя, без их описания его биография не может обойтись. Я думаю, мне удалось показать более полно, чем раньше, насколько сильно и тесно было связано развитие этих двух людей, несмотря на все их различия. Я обильно цитирую их переписку или их письма другим адресатам, потому что только так можем мы точно уловить жизненную близость и крепкую основу их родства. В результате эта тема вышла довольно пространной, но для работы, которая стремится в точности установить, что именно значил этот союз, другого пути не было. Давать общий очерк на основе документов было бы на данном этапе исследования натуры Сезанна поверхностно, в этом можно убедиться, проглядев несколько книжек о художнике. Исходя из тех же соображений я счел необходимым дать переводы всех стихов Сезанна (впервые по-английски). Часть стихотворений я перевел в рифму, следуя оригиналу, александрийские стихи я переложил белым стихом.
Труднейшей проблемой для биографа, стремящегося связать жизнь Сезанна с его искусством, является сложность точного датирования многих его картин. В самом общем плане ясно, что развитие искусства чрезвычайно тесно связано с чувствами художника и его опытом. Но существуют и внутренние порывы, которые отнюдь не прямо соотносятся с укладом жизни Сезанна, так что следовать какой-либо схеме датировок на основе чисто стилистических факторов — опасно. Тем не менее, взяв за точки отсчета несколько работ, которые могут быть с безопасностью датированы на основании внешних данных, мы можем продолжить исследование и приложить данные стилистического анализа к группам других вещей. Даже если мы остановимся в сомнениях перед некоторыми частными вопросами, кое-что вполне достоверное достигнуть сумеем. Недавние работы Гоуинга и Купера оказались очень полезными в этом отношении. Ошибка Бадта, основывавшего аргументацию на «Старушке с четками», которую он относил к 1900–1904 годам и которая определенно была выполнена летом 1896 года, — вот пример ловушки, которых биограф должен избегать.
Другая проблема возникает в связи с рассказами о встречах с Сезанном, которые после его смерти опубликовали многие, особенно писатели и молодые художники. Мы сталкиваемся со странным положением, при котором оказывается, что именно в его последние годы, когда Сезанн стал привлекать широкое внимание, было более всего ненадежных источников, напоминающих скорее предательские силки. Почти все авторы определенно пытались вкладывать в уста Сезанна свои собственные идеи, выражая это или обтекаемо, или вполне прямо, а что касается Гаске, то тот просто был опытным лгуном. Биограф не может вовсе не учитывать эти свидетельства и в то же время обязан подходить к ним в высшей степени критично. Другая сложность заключается в том, что образ жизни Сезанна, представший в неверном свете общественного интереса, был во многих отношениях отличным от другого его образа — друга Золя и Писсарро. В результате возникла тенденция рассматривать молодые годы художника в терминах его последующего развития, из-за чего само это развитие во многом представляется неясным. Высказывания в его ранних письмах, могущие пролить свет на взгляды в молодости, часто игнорировались. Так, никто даже не заметил, что Сезанн выражал ненависть к министру, ответственному за казнь коммунаров, или стремился прочесть произведения Валлеса, к которому выказывал сильную симпатию.
Легенды и ложные толкования, понастроенные вокруг Сезанна в его последние годы, не просто мешают исследовать его жизнь и дела. Они определенно ориентируют на такой подход к его работе, с которым он сам бы яростно не согласился и который он полностью отверг в письмах к Бернару. В результате влияние Сезанна на художников первых десятилетий нашего века ограничивалось заимствованием отдельных изолированных аспектов его работ, а не стремлением понять целостную систему, которая была сердцевиной его творчества. Ложные интерпретации не имели бы такого эффекта, если бы общие тенденции времени не работали бы им на пользу. В таких обстоятельствах они играли важную роль в уводе художников с той дороги, по которой шел Сезанн. Я не рискую заходить слишком далеко в эту противоречивую область, а просто для иллюстрации огромного расхождения между целями Сезанна и его последующим влиянием ограничу себя тем, что мне представляется бесспорными фактами.
Пикассо сказал однажды: «Что интересует нас — так это беспокойство Сезанна. В этом заключается человеческая драма». Я приложил все силы к исследованию этой драмы. В то же время я надеюсь, что привожу все обстоятельства жизненных коллизий и противоречий Сезанна; следует сознавать, что эти противоречия и всяческие конфликты приобретают свое значение лишь тогда, когда мы поймем, в чем была суть всех тревог и надежд и что именно было разрешением его трагических страданий. Расценивать драму Сезанна как некий обобщенный спектакль о творческих муках — значит уничтожить все значение его искусства и жизни, это было бы последним и худшим оскорблением из всех оскорблений и обид, которые ему довелось претерпеть.
Часть первая
Ранние годы
Глава I
Семья и Экс

Сезанны вышли из небольшого городка Чезены (Cezana), ныне относящегося к западному Пьемонту, и поэтому до последнего времени считалось, что они были чисто итальянского происхождения. Однако в XVII столетии, насколько мы можем судить по именам, место это было населено семьями французских корней, и лишь в 1713 году по Утрехтскому договору восточные склоны долины Брьянконнэ (Brianfonnais) были обменены французами на долину Барселоннет. Городок Сезанн-Чезена стал, таким образом, итальянским. Семейство Сезанн к тому времени уже переместилось (около 1650 года) в Безансон, этак миль на пятнадцать по тракту. Метрические книги сообщают об обувных дел мастере Блезе Сезанне, который от двух жен имел пять или шесть детей. Незадолго до 1700 года одна из ветвей фамилии оказалась еще дальше к западу — в Эксе.
Там, в приходе Сен-Мадлен, в августе 1702 года родился Жак-Жозеф, сын Дени Сезанна и Катрин Маргри. Дени, возможно, был старшим сыном Блеза. Третий сын, Андре, который родился в апреле 1712 года, был perruquier — изготовитель париков или парикмахер, вероятно, и то и другое вместе. Его жена Мари Бугарель произвела на свет несколько детей, один из которых, родившийся 14 ноября 1756 года, был Тома-Франсуа-Ксавье Сезанн, портной. Он женился на Роз Ребюффа и перебрался в местечко Сен-Захари, что в пятнадцати милях от Экса. Его сын Луи-Огюст был отцом художника.
В этой родословной примечательно то, что Поль происходил из среды много трудившихся ремесленников, из поколения в поколение занятых ручным трудом. Также можно предположить, что в переездах семейства (намекавших на то, что оно ощущало себя пришельцами в провансальской среде), мы улавливаем нечто от незатихнувшей семейной традиции, которая получила глубоко скрытую форму в характере Поля.
Луи-Огюст был единственным Сезанном, который поднялся над низким уровнем жизни простого ремесленника. Родившийся 28 июля 1798 года, он был болезненным ребенком, но вырос, как бы компенсируя медленный старт, более сильным и деятельным, чем обычные дети. Во взрослом возрасте у него было тяжелое, гладко выбритое лицо с высоким лбом, редеющие волосы и глубокие складки между густыми бровями, что создавало ощущение твердости и проницательной ироничности. Он носил обувь из невыделанной кожи, чтобы сэкономить деньги и избавиться от докучливой чистки. Энергичный и деловой торговец, он всецело посвятил свою жизнь деланию денег и не мог представить никакого иного стоящего жизненного пути, за исключением разве что некоторого интереса к женщинам. (Но не настолько, чтобы такой умеренный и прижимистый парень мог спустить сколько-нибудь значительную сумму на любовные забавы.) На втором десятке он понял, что Сен-Захари — это не место для человека, призванного идти своим путем в мире. Он пошел вспять по семейным следам и обосновался в Эксе, одном из главных центров по производству фетровых шляп. Фермеры в округе разводили кроликов, в мастерских Экса из фетра делали шляпы, и Луи-Огюст неизбежно обратился к шляпной индустрии, бывшей главным источником местного благосостояния. Сначала он работал в деле торговцев шерстью, затем решил изучить все, что возможно, в торговле шляпами. Весьма умно он рассудил отправиться в Париж в 1821 году, где пробыл около трех или четырех лет, сначала простым рабочим у мастера-шляпника, потом торговцем. Привлекательный парень, он, говорят, очаровал жену своего хозяина, но можно быть уверенным, что он всецело посвятил себя работе, жаждая почерпнуть в столице все полезное и избегая в то же время ее искушений. Вернувшись в Экс в 1825 году, он основал магазин с Мартеном, шляпником. Возможно, нуждаясь в большем количестве наличных, они вскоре приняли в дело некоего Купена. Фирма не производила шляпы, а занималась лишь их продажей и экспортом. Их магазин находился на бульваре Cours (с 1876 года бульвар Мирабо), дом № 55. На вывеске красовались имена: «Мартен, Купен и Сезанн». Обыватели городка ехидничали, говоря о «Мартене, Купене и Seize Anes — всего восемнадцати животных». Шутка, возможно, отражает подозрительное недоверие в высшей степени консервативного Экса ко всяким пришельцам; если в ней содержалось предвкушение того, что Asses лы) потерпят крах, то вскоре от этой надежды пришлось сказаться. Дела троицы шли неплохо. Однако между столь деловыми ловцами денег неминуемо должны были возникнуть трения, и около 1845 года фирма была ликвидирована. Луи-Огюст еще пару лет продолжал свой собственный шляпный промысел, после чего он решился на смелый шаг — стать банкиром в революционном 1848 году. Единственный банк Экса Banque Barges не выдержал нарастающего кризиса. Характерно, что Луи-Огюст, закрыв магазин, оставил запас высоких круглых шляп для торжественных случаев и шляп с мягкими полями на каждый день. Шляпы эти служили ему до конца жизни. «Видели ли вы лопату старого Сезанна?» — говорили насмешники о его колпаке.
Если не считать Le haute banque, которые в Париже держатся на богатых семействах с интернациональными связями, банковское дело во Франции довольно отстало по сравнению, например, с Англией. Текстильная промышленность обходится своими собственными фондами для развития, но распространение рыночной экономики в провинции параллельно с ростом городов сопровождалось нехваткой денег и кредитов. Особенно после 1833 года строительство и финансирование железных дорог стало вопросом общественных споров и интересов, хотя Франция медленно приходила к убеждению о том, что наступил железнодорожный век. Немногочисленное провинциальные банки, подобно парижским торговым банкам, из тех, что рангом пониже, предоставляли ограниченный перечень услуг узкой окрестной клиентуре. Они перемещали фонды, учитывали векселя, участвовали в качестве посредников в разного рода сделках в местной торговле. Однако теперь они начали умножаться в числе и обращаться к нуждам местной промышленности, добавляя вклады среднего класса к собственным денежным ресурсам. Тем не менее во многих районах оставалось открытое недоверие к банкам, и кредиты получали через нотариусов, используя вклады их клиентов по завещаниям, а также ростовщические займы.
Между 1842 и 1848 годами железные дороги начали оказывать более сильное влияние на умы. Была большая нужда в капитале. Расширялись текстильная промышленность и производство машин, точно так же, как угольный и железный рынки, но при этом не было подходящей системы для ввода капиталовложений, не было установленного порядка для долгосрочных вкладов. Положение вещей осложняли также сельскохозяйственные кризисы: плохие урожаи 1845–1846 годов повлекли за собой нехватку продовольствия и высокие цены с последующим сокращением рынка товаров потребления, особенно тканей. Капиталовложения обесценивались. Уменьшение новых поступлений ударило по всем отраслям промышленности. Аварийный импорт зерна поглотил резервы Банка Франции и ослабил денежный курс, между тем как недостаток транспорта осложнил перевозку зерна. Крупные производители и дельцы придерживали продукты и взвинчивали цены еще больше, чем вызывали возмущение в голодном народе.
Многие провинциальные банки приостановили платежи, «Caisse du Commerce et de l’lndustrie» лопнул. Таковы были некоторые из факторов, парализовавших кредит и вызвавших кризис государственных финансов, что в итоге привело к Февральской и Июньской революциям 1848 года.
Можно питать уверенность в том, что Луи-Огюст тщательно ознакомился с положением дел под углом кредитных проблем Экса и его мануфактур. Энергия и самоуверенность его характера проявились в том факте, что он выбрал сложный момент для вхождения в банковское дело. Достаточно справедливо он рассчитал, что кризис 1848 года так или иначе будет преодолен и что тогда крестьянам и промышленникам понадобятся деньги, как никогда ранее. Ситуация была такова, что ее вполне безопасно мог использовать обладатель денег, который пускался в глубокие воды капиталовложений, используя свое близкое знакомство с практикой делания займов среди жителей Экса. В любое время фермеры-кролиководы трудились на грани незначительной выгоды и нуждались в наличных деньгах, чтобы как-то выкрутиться до продажи шкурок. Похоже, что Луи-Огюст давал и раньше взаймы, имея с того высокий, но вполне законный интерес. Теперь он почувствовал, что может рискнуть и полностью стать банкиром в тот момент, когда другие ушли из области кредитов. Примитивная система финансирования, которая все еще служила в провинциальных городах, подобных Эксу, в точности соответствовала тому, на что его подвигали природные таланты, методы и познания.
Он взял в партнеры некоего Ф.-Р.-М. Кабасоля, который был кассиром в банке Banque-Bargbs, с тем, чтобы тот занимался техническими процедурами, в которых Луи-Огюст был не силен. Он вложил капитал в сто тысяч франков, взяв с Кабасоля лишь его знания. Каждый из партнеров должен был получать по две тысячи франков ежегодно, плюс к тому Луи-Огюст имел пять процентов со своего капитала. Соглашение было заключено на пять лет и три месяца. Поскольку все шло хорошо, оно было возобновлено в 1853 году. Эта система продолжала существовать до 1870 года, когда оба участника были уже в преклонном возрасте и новый жестокий кризис обрушился на их мир. Контора находилась на улице Кордельер, 24, потом в доме, принадлежавшем Кабасолям; на улице Бульгон, 13.
Кабасоль был столь же усерден и целеустремлен, как и его компаньон. Они успешно нашли путь совместной деятельности. Если Луи-Огюст подозревал в клиенте недостаточную платежеспособность, он спрашивал: «А что скажешь ты, Кабасоль?» — и Кабасоль кивал головой. Они редко ошибались. Луи-Огюст не ведал снисхождения к должникам, которых он подозревал в лени, нерадивости, расточительстве или несостоятельности, но он всегда был готов дать отсрочку тем, кого знавал как экономных и работящих. Сохранилось предание про то, как он ошибся однажды, ссудив сумму человеку из Марселя, который оказался на краю банкротства. Изучив положение дел, Луи-Огюст вмешался и около двух лет фактически вел хозяйство своего должника, не упуская и мелочи. Это продолжалось до тех пор, пока он не восстановил платежеспособность бедного клиента и не вернул себе ссуду с полными процентами. Описание, этого случая могло быть несколько преувеличенным, но оно несомненно отражает его безжалостную хватку во всем, что касалось денег.
Еще в то время, когда он занимался шляпами, Луи-Огюст повстречал одного молодого человека, Луи Обера, и, возможно, некоторое время использовал его в своем деле. Сестру Луи Анну-Элизабет-Онорину, высокую миловидную женщину, Луи-Огюст склонил к тому, чтобы жить с ним. Оберы были экскими ремесленниками в течение нескольких поколений. Элизабет родилась в городе 24 сентября 1814 года, ее отец был столяром-мебельщи-ком, а мать была урожденной Жерар из Марселя. Это семейство вроде бы имело отчасти романтическое родство, утверждая о связях с наполеоновским генералом Жераром, который, выполнив свою миссию в усмирении острова Сан-Доминго в Вест-Индии, вернулся, как говорят, с женой-негритянкой. Факты, впрочем, утверждают иное — мать Элизабет родилась в 1779 году в семье работника на серебряных промыслах, так что предание должно быть все же лишь досужей фантазией.
До того как Сезанны обвенчались 29 января 1844 года, Элизабет родила Луи-Огюсту Поля и Мари, в 1854 году она родила вторую девочку, Розу. Поль родился в час ночи 19 января 1839 года в доме на улице Оперы, 28.
Его отец жил в старом доме, где начинался его шляпный промысел, в месте, отделенном от Бульвара улицей Гран-Карм с запада и узким переулком Пассаж Агар с востока. В переулке маленькая дверь под входной аркой вела в жилье наверху, сам переулок был кратчайшей дорогой от Бульвара к Дворцу юстиции. Элизабет, впрочем, скоро переехала и соединилась с Луи-Огюстом, возможно, она временно выезжала в другой дом, чтобы как-либо уменьшить пересуды. 22 февраля Поль был крещен в приходской церкви, крестными были Оберы — его бабушка и дядя Луи. Мари родилась в том же доме в переулке 4 июня 1841 года. Поль провел свои первые годы на Бульваре, широкой главной улице Экса, с двумя рядами вязов (позднее платанов) и старинными строениями, многие из которых разрушались. Перед тем как обвенчаться, Сезанны перебрались в дом на улице Гласьер, тихую и невзрачную извилистую улочку.
Экс пережил свой расцвет в XVII и XVIII веках, когда знатные фамилии всей округи строили дома на Бульваре. Потомки этих семейств, около семисот имен, по-прежнему вели там растительный образ жизни, окруженные великолепной, хотя и запущенной обстановкой. Еще в 1850-е годы маркиза де л а Гард, которая в свое время в Версале была представлена Марии-Антуанетте, любила по воскресеньям выезжать в портшезе, но единственные носильщики, которых она могла нанять и одеть в свои ливреи, служили у владельца похоронного бюро. Однако постепенно появлялись конторы дилижансов и службы посыльных. Плебеи заняли свою часть Бульвара, а во времена Луи-Филиппа в городе были основаны средние школы, Факультет словесности и Школа искусств и ремесел, а также устроен скотный базар и газовое освещение.
Но семейства со знатными и увядшими именами не желали заниматься предпринимательством и соперничать в производстве шляп или сладостей. Во всех отношениях Марсель далеко обошел Экс в торговле и промышленности. В виде компенсации Экс пытался играть ведущую роль в качестве академического города, он гордился местопребыванием архиепископской кафедры и апелляционного суда. Город был демонстративно благочестивым, переполненным францисканцами и иезуитами. Монахи и каноники прохаживались по Бульвару вперемежку с профессорами и судьями. Церковь воздвигала свои башни и колокольни над красными и желтыми черепичными крышами домов, тесно скученных для прохлады и тени. Фонтаны были многочисленны, и за притворенными окнами, прекрасными решетками и каменными кариатидами было заметно мало признаков жизни. По ночам парафиновые светильники изливали мягкий свет на улицы, где в кварталах победнее между булыжниками прорастала трава.
Экс сыграл чрезвычайно важную роль в жизни Поля Сезанна и его друга Эмиля Золя, который описал город в романах под именем Плассана. Тщательное изображение деталей тамошней общественной жизни содержится в наибольшей степени в «Карьере Ругонов» и в «Завоевании Плассана». Консервативные элементы значительно превосходили количеством радикалов, но они были разделены на старую знать, «мертвенных людей, находящих жизнь скучной и утомительной», и средний класс, страдающий от их пренебрежения.
«Ни один из городов, — писал Золя, — не поддерживал столь полно свою благочестивость и аристократический характер, который вообще отличал старые провансальские города». Классовые различия «долго сохранялись благодаря раздельному существованию городских районов. Их в Плассане было три, каждый из которых образовывал отдельный и законченный городок со своими собственными церквами, местами прогулок, обычаями и кругозором». В одном квартале с «прямыми улицами, поросшими травой, в больших домах с садами в глубине владения» знать вела герметически замкнутый образ жизни. После падения Карла X они почти не выезжали, а когда им все же приходилось покидать дома, они поспешно возвращались чуть ли не украдкой, как во вражеской стране. Они никого не навещали и даже не принимали друг друга. В их гостиных обычно бывали лишь монахи. Процветающие торговцы или люди свободных профессий (адвокаты, нотариусы) «охотно искали популярности, называли рабочих «мой добрый малый», болтали с крестьянами об урожае, читали газеты и прохаживались с женами по воскресеньям». Но все они мечтали о приглашении в один из знатных домов. Сознание того, что это невозможно, «заставляло их все громче заявлять о своем свободомыслии, но свободомыслящими они были лишь на словах, оставаясь твердыми друзьями властей, готовые сразу прибегнуть к оружию при малейшем проявлении недовольства народа».
Класс победнее состоял из рабочих по найму, ремесленников, розничных торговцев, отчасти из нескольких оптовиков помельче, в целом они составляли пятую часть всего населения. «По воскресеньям после вечерни все три группы появлялись на Бульваре». Три четко разделенных потока «двигались вдоль этого бульвара, засаженного двумя рядами деревьев. Средний класс просто проходил вдоль Бульвара; знать прогуливалась в южной стороне, поближе к их владениям; простой класс толпился в кафе, кабачках и табачных лавках в северной части». Так «благородные и народ проводили остаток дня, прогуливаясь туда-сюда по Бульвару, при этом ни одна сторона не думала о перемене мест. Их разделяли шесть — восемь метров, но держались они словно отдаленные на тысячи лье». Даже в революционную эпоху они сохранили взаимную дистанцию.
Картина, которую рисует Золя, позволяет глубоко проникнуть в мир Сезанна тех долгих лет, что они делили в Эксе и в Париже. Огромные серии романов Золя основаны на описании семейств из Экса — Плассана (хотя в свое время и Париж был включен в панораму).
В «Ругонах» представлен неразборчивый в средствах средний класс, который играл ключевую роль в сложении консервативной оппозиции для сокрушения народа. В «Завоевании Плассана», где главное семейство списано с Сезаннов, мы видим, как бонапартистски настроенный клерикальный деятель закладывает эффективный союз реакционных классов. Золя предпринял серьезную попытку осознать внутренний смысл 1848 года и последующий бонапартистский переворот как необходимую прелюдию к пониманию того мира, в который он и Поль стремились проникнуть. Мы улавливаем «на миг, как во вспышке света, в блеске золота и крови будущее Ругон-Маккаров, свору имеющих волчий аппетит тварей, сорвавшихся с привязи и пришедших в ярость». Общество Второй империи было заложено. Луи-Огюст, который как банкир развернулся в 1848 году и после, должен был прочно отпечататься в сознании Золя, а также Поля в качестве символа стойкого на словах свободомыслящего республиканца, который был готов при первых признаках социального переворота встать под защиту тех самых властей, которые он критиковал.
Глава 2
Детство и юность

Ребенком трех-четырех лет Поль выказывал признаки неуправляемого темперамента, но как только краткие приступы проходили, он становился вполне послушным, нежным и веселым. С самого начала он был предан сестре Мари, и она в свою очередь, едва научившись ходить, стала заботиться о нем и опекать его. Но по ходу опеки она училась управлять, приказывать и даже задираться. Эта детская привязанность продолжалась до конца жизни. В 1911 году Мари писала сыну Поля: «Мое самое раннее воспоминание следующее (возможно, ты слышал эту историю от своей бабушки). Твоему отцу было, должно быть, около пяти лет, он нарисовал на стене кусочком угля картину, изображающую мост. М. Перрон, дедушка Т. Валантена, воскликнул, увидев это: «Позвольте, это же мост Мирабо!» (Через Дюране.) Будущего художника уже тогда можно было распознать».
Подобные истории можно рассказывать о бессчетных детях; думается, что пять лет — это все же немного раньше того времени, когда «будущий художник» мог стать различим даже для наиболее дальновидных. Поль и Мари ходили в начальную школу на улице Эпино. Поль пробыл там пять лет, пока ему не исполнилось десять. Мари пишет: «Твой отец бережно присматривал за мной. Он всегда был очень добр и, пожалуй, имел более мягкий характер, чем я, которая как будто не была слишком хороша с ним. Конечно, я дразнила его, но так как я была слабее, он обычно удовлетворялся тем, что говорил: «Заткнись, детка, если я тебя шлепну, тебе будет больно».
В начальной школе Поль повстречал Филиппа Солари, сына каменщика, спокойного мальчика, с которым он близко сошелся. Они вместе играли и бродили по городу, плескались в фонтанах. Бульвар бывал заполнен, когда по нему с шумом катились повозки из Марселя, Авиньона и Вара. По базарным дням город видел большие фургоны красного, желтого и зеленого цвета и пастухов в синих рубашках, спускавшихся с коровами и овцами со склонов Тревареса. Окутанные запахами перца, чеснока, маслин, помидоров и баклажанов мужчины курили глиняные трубки на террасах кафе.
Когда ему было около десяти, его отправили в качестве неполного пансионера в школу св. Иосифа, которую возглавляли священник аббат Савурнен и его брат. Я думаю, твой отец именно в то время получил первое причастие в церкви Сен-Мадлен. Тихий и прилежный ученик, он много занимался; у него была хорошая память, но каких-то особенных качеств он не выказывал. Его порицали за слабости характера, может быть, он позволял себе слишком легко поддаваться влияниям. Школу св. Иосифа скоро закрыли, директора, думаю я, не имели от нее дохода».
Теперь к Со лари в качестве приятеля прибавился Анри Гаске, сын бакалейщика с улицы Лапесед. Говорят, монах-испанец преподавал в школе рисование. Мари добавляет: «Я помню, как мама упоминала имена Поля Рембрандта (м. б., Веронезе? — Дж. Л.) и Поля Рубенса, обращая наше внимание на сходство имен этих великих художников и твоего отца. Она должна была сознавать помыслы твоего отца, он нежно любил ее и, вне сомнения, меньше боялся ее, чем нашего отца, который хотя не был тираном, но был не способен понять кого-либо за исключением тех лиц, которые работали для того, чтобы разбогатеть».
Мари не приводит даты этого разговора, но он показывает, что уже в довольно раннее время мать Поля не возражала против обучения искусству и даже поощряла его. От мадам Сезанн, похоже, унаследовал Поль некоторые из его способностей.
Он оставался с матерью в тесных отношениях до самой ее смерти. Ее стараниями семейство выписывало «Магазен Питтореск», который был первым источником художественных образов для мальчика. Мы можем быть уверенными в том, что Луи-Огюст не питал интереса к подобным журналам. Важные черты характера дома Сезаннов обрисовал Золя в романах. Он знал семейство и снаружи, и с изнанки, поэтому наверняка слышал бесчисленные истории и анекдоты о родителях Поля. В рукописных заметках к «Творчеству» он писал о Клоде Лантье (Поле): «Родился в 1842-м — смесь, смешение — духовное и физическое преобладание линии матери; невротическая наследственность, обернувшаяся гениальностью. Художник». Мари писала племяннику: «Ты можешь намного лучше, чем я, воспринять художественную сторону его (Поля. — Дж. Л.) натуры и его искусства, которые, признаюсь, являются для меня загадкой по причине моего невежества». Нет сомнения в том, что и его мать многократно говорила Полю подобное. Ее описывают как неграмотную к моменту замужества и как не умеющую правильно подписываться несколько лет спустя. Но в книге, найденной в мастерской Поля после его смерти, — романе Ж.-Ж. Мармонтеля «Инки, или Разрушение империи Перу» (1850, первая публикация — 1777) — мы обнаружим надпись «H[onorine] Aubert 1850». (Трудно предположить, почему в это время она все еще употребляла свое девичье имя.) Хоть она и была малообразованна, похоже, в ее высоком, стройном, ладно скроенном смуглом теле таились большая чувствительность, импульсивный и смышленый ум и живое воображение. Она интересовалась художественными журналами, учила Мари манерам молодой дамы и поддерживала своего сына в том, что, как она должна была знать, было анафемой для ее супруга. Вероятно, она сама дала Полю «Инков».
Тот глубокий конфликт, который, как мы можем предположить, существовал между Онориной и Луи-Огюстом, был подчеркнут еще Золя в его набросках к «Завоеванию Плассана». Он говорил о Франсуа Муре: «Взять тип отца Сезанна — насмешник, республиканец, буржуа; холоден, мелочен, скуп; отказывает в предметах роскоши жене и т. д. Он к тому же болтун и зло подшучивает надо всем, поддерживаемый фортуной». Мы улавливаем эти самые тона на первых страницах романа, где Муре говорит жене о том, что он решил подзаработать денег, сдав верхний этаж священнику. Его жена не была счастлива вторжением: «Он остановился перед ней и резким движением руки прервал ее: «Довольно! Я сдал помещение, и говорить больше не о чем, — и добавил веселым тоном буржуа, заключившего выгодную сделку: «Самое главное то, что я сдал его за полтораста франков; это значит — к нашему ежегодному доходу добавляется 150 франков».
Марта опустила голову, выразив свое неодобрение лишь слабым движением руки, и полузакрыла глаза, чтобы удержать навернувшиеся на ресницы слезы. Она украдкой посмотрела на детей, которые, казалось, не слышали ее разговора с отцом; они, по-видимому, привыкли к такого рода сценам между родителями, в которых Муре давал волю своей резкой насмешливости.
— Если желаете обедать, то можете садиться за стол, — раздался ворчливый голос Розы (служанки. — Дж. Л.), вышедшей на крыльцо.
— Отлично! Дети, обедать! — весело вскричал Муре, дурное настроение которого сразу исчезло».
Представляется очевидным, что мадам Сезанн видела и заботливо взращивала те черты в Поле, которые заглохли и не реализовались в ней самой, а сильное тяготение к ней мальчика проистекало от своего рода подстановки себя под ее разного рода затруднения. Это в некоторой степени уравновешивало его антагонизм с отцом. Смесь доброго юмора и суровости в Луи-Огюсте схвачена Кокио: «Для некоторых старый Сезанн был вроде отца Горио — властный, очень хитрый и скупой… Для других, напротив, он представал образцом человеческой породы редкого типа».
Ребенком Поль сподобился стать обладателем старого ящика с красками. Воллар, торговец картинами, сообщает, что отец Сезанна обнаружил ящик среди разных вещей, купленных оптом у разносчика, и, сочтя его не имеющим никакой ценности, отдал в качестве игрушки сыну. Ривьер, писатель, знакомый с импрессионистами, говорит, что подарок сделал некий друг семьи. Так или иначе Поль использовал его, раскрашивая все, до чего мог дотянуться, а особенно иллюстрации в «Магазен».
Семейные связи у Сезаннов укреплялись еще и фактической изоляцией от общественной жизни Экса. Луи-Огюст прожил вне брака несколько лет с Элизабет и имел двоих незаконнорожденных детей. Он был выскочкой, плебеем, который быстро проложил себе путь в первые ряды городской буржуазии. Его острый язык, нередко с резкой насмешливостью, и республиканские взгляды не могли способствовать любви к нему многих сограждан. Сам же Луи-Огюст все выходы, которых требовала его энергия, находил сначала в магазине, потом в банке. Семья для него была местом спокойного отдохновения, которое он не хотел как-либо связывать с жизнью вокруг. Таким образом, и противоречия, и связи внутри семейства этим усиливались. Хотя союз Луи-Огюста и Элизабет был узаконен в 1844 году, вскоре после пятого дня рождения Поля, мальчик должен был осознавать ситуацию, которая углубляла осознание им своего отличия от других сверстников. В провинциальном городе, подобном Эксу, с его замкнутой тепличной атмосферой, пронизанной скандалами, и с четко отмеченными социальными разграничениями, все всем было известно. Насмешки более законным образом родившихся мальчишек отнюдь не смягчались шуточками или откровенным злоречием, какое они должны были слышать дома по поводу растущего благосостояния Луи-Огюста. При этом Сезанн-отец нимало не заботился о том, попирает он или нет чувства не озабоченных деланием денег слоев населения, наиболее летаргических групп буржуазии — вдовушек в шелковых одеяниях или аристократов в крахмальных рубашках.
Золя особо подчеркивал изолированный характер дома Муре — Сезаннов. Муре постоянно насмешничал и поддразнивал, он по-инквизиторски любопытствовал о всяких сплетнях и стремился знать все возможное обо всех окружавших его людях. Но дома он отсекал от себя все внешние интересы. Он не любил, чтобы его жена вообще выходила из дома, и играл с нею в пикет, хотя она и не имела вкуса к карточной игре. Он не давал ей денег, и она временами бывала вынуждена занимать у прислуги.
С точки зрения того, насколько важную роль Луи-Огюст сыграл в омрачении всей жизни Поля, очень существенны штрихи, оставленные нам Золя. Следующий пассаж, кажется, прямо заимствован из жизни дома Сезаннов: «Марта любила своего мужа спокойной любовью, но это чувство несколько расхолаживалось страхом перед насмешками и вечными придирками с его стороны. Ей был также тягостен его эгоизм, как и его пренебрежительное отношение к ней; она чувствовала к нему какую-то неприязнь за тот покой, которым он ее окружил, и за то благополучие, которое, по ее словам, делало ее такой счастливой.
Говоря о муже, она повторяла:
— Он большой добряк… Вы, наверно, слышите, как он иной раз покрикивает на нас. Это оттого, что он до смешного любит во всем порядок; стоит ему увидеть опрокинутый цветочный горшок в саду или игрушку, лежащую на полу, как он тотчас выходит из себя… Впрочем, имеет же он право на капризы. Я знаю, его недолюбливают за то, что он нажил кое-какие деньги, да и теперь еще время от времени заключает выгодные сделки, не обращая внимания на то, что кругом говорят. Над ним насмехаются также из-за меня. Говорят, что он скуп, держит меня взаперти, отказывает мне даже в паре ботинок. Это неправда. Я совершенно свободна. Конечно, он предпочитает, чтобы я была дома, когда он возвращается, а не разгуливала бы где попало, не бегала бы вечно по улице или же по гостям. Впрочем, он знает мои вкусы, да и что мне делать там, вне дома?
Когда она начинала защищать Муре от городских сплетен, она вкладывала в свои слова какую-то особую горячность, словно ей приходилось защищать его и от других обвинений, исходивших от нее самой. И она с какой-то повышенной нервностью принималась обсуждать, какой могла бы быть ее жизнь вне семьи».
Почти намеренная неряшливость Поля, сопровождавшая его на протяжении всей жизни, должна рассматриваться как протест против сурового отца, требовавшего, чтобы всякая вещь лежала на своем собственном месте. Примечательно, что в самом раннем рисунке, дошедшем до нас, — на задней стороне обложки «Инков», которых, вероятно, дала ему его матушка, — он нарисовал густо заштрихованный торс мужчины и две изящные женские фигурки, у одной из которых было улыбающееся личико. В этом, похоже, отразился конфликт, который тяготел над всей его жизнью.
В 1852 году, в возрасте тринадцати лет, Поль стал пансионером Коллежа Бурбон (теперь Лицей Минье), как то приличествовало сыну солидного гражданина. Школа, большое, унылое и не вызывающее приязни строение с серым ветхим фасадом, выходящим на улицу Кардиналь, была некогда монастырем. Внутри было мрачно и сыро, штукатурка в классных комнатах первого этажа источала влагу, столовая пропахла жиром и помоями, а тусклая часовня (как говорят, построенная по проекту Пюже) была пропитана ладаном и запахом плесени. Но было еще два тенистых двора, обсаженных платанами, и большой заросший пруд, в котором можно было плавать, а со второго этажа мальчикам открывался вид на окружающие сады.
Уборкой и стиркой занимались монахини. Здесь Поль провел шестьлет (до 1858 года), правда, последние два года он был приходящим учеником. Здесь, очевидно, случилось то происшествие, которому он позже придавал столь большое значение, объясняя этим отвращение к телесным прикосновениям: его толкнул сзади мальчик, скатывавшийся по перилам, и он чуть было не упал с лестницы. Это достаточно заурядное событие не могло бы само по себе послужить причиной фобии, но тот факт, что это так сильно отложилось в его сознании, заставляет предположить, что уже в школьные дни он чувствовал себя глубоко ранимым. Почему он был на полном пансионе в школе, расположенной столь близко от дома, не вполне ясно. Может быть, Луи-Огюст хотел сэкономить деньги на домашние расходы, или он думал о том, чтобы сын-подросток не маячил перед глазами?
Однако коллеж имел положительные стороны. Поль стал свободен от насмешливого авторитарного присутствия отца, но и лишен, впрочем, сознания безопасности, которое он черпал в этом всеподавляющем присутствии. Хотя он и не выказывал особенной легкости в совместной жизни со всеми школярами, он обрел несколько друзей и среди них Эмиля Золя. Жоашим Гаске так описывает Поля, стоящего перед зданием коллежа в его последние годы и рассуждающего: «Свиньи! Посмотрите, что они сделали с нашей старой школой. Мы живем под пятой бюрократов. Это царство инженеров, республика прямых линий. Скажите мне, есть ли хоть одна-единственная прямая линия в природе? Они приспосабливают все так, чтобы удобней было управлять. Где Экс, мой старый Экс Золя и Байля, чудные уличные фонари на старых окраинах, трава между булыжниками, масляные светильники? Да, масляные светильники вместо вашего грубого электричества, которое уничтожает мистическую таинственность, тогда как наши старые лампы позолачивали ее, согревали ее, превращали ее в жизнь в духе Рембрандта».
Выражения здесь принадлежат Гаске, Сезанн не был поклонником мистической таинственности, но общее настроение высказывания, несомненно, передано правдиво.
Поль был прилежный ученик, хорошо успевавший, за что он получал много книг в качестве награды. На занятиях искусством его достижения были не слишком хороши. Все, что ему удалось, — это стать первым по живописи на втором году обучения, тогда как Золя неоднократно брал призы за успехи в области искусства и был к тому же лучше по курсу религии. Курсы, в которых Поль проявлял наибольшую заинтересованность, были латынь и греческий; в латыни он заметно выделялся. Музыка входила в число предметов, но в то время как Золя имел первую награду по духовым инструментам, Сезанн похвальных отзывов не удостаивался. Мари сообщает: «Он не питал интереса к музыке, преподававшейся профессором на дому, и часто следы скрипичного смычка на его пальцах являлись свидетельством неудовольствия мсье Понсе». Понсе был органистом и регентом хора в соборе Сен-Совер, и сама Мари училась у него на фортепьяно. Однако и Поль, и Золя участвовали в школьном оркестре, организованном их одноклассником Маргри. Оркестр играл по праздникам на улицах и участвовал в процессиях, когда «дарующие дождь святые и избавительница от холеры Богоматерь» выносились на улицы. Также играли на вокзале, это обеспечивало «почетную встречу не одному деятелю, возвращавшемуся из Парижа с синей лентой». За труды музыкантов угощали пирожными. Маргри играл на первом корнете, Сезанн на втором, Золя на кларнете. Анри Гаске передает, что «Золя и он (Сезанн. — Дж. Л.) имели обыкновение исполнять серенады для хорошенькой девочки из соседнего квартала, у которой был зеленый попугай. Попугай, сводимый с ума какофонией, поднимал невообразимый шум». Постскриптум к самому раннему письму, которое дошло от Поля (к Золя, апрель 1858 г.), кончается следующим: «Я получил твое письмо с прелестной песенкой, которую мы распевали втроем с басом Бойером и тенором Байлем». Позднее Сезанн развил в себе чувство музыки, особенно полюбив Вагнера, но никогда не получал от нее такой поддержки, как от литературы. Его племянница Мари Кониль позже зафиксировала семейные предания о его игре на флейте, хотя нарушила кое-где хронологию. Она говорит, что после того, как был куплен Жа де Буффан (в 1859 году), Луи-Огюст снял для семьи сельский домик на Альпийской улице, в квартале Платанов. «Поль ходил каждое утро в город по Старой Римской дороге в Коллеж Бурбон и, чтобы дорога казалась не столь длинной, играл на флейте. По вечерам он возвращался вместе с отцом домой в Платаны». Недельное празднество Тела Христова было одним из главных событий для участников оркестра. Горожане выносили стулья на тротуары, чтобы наблюдать проходящую процессию, и украшали свои окна яркими полотнищами. Монахи и монахини несли красный бархатный балдахин, сопровождаемый юными девушками в белом и толпой кающихся в синих плащах с капюшонами с прорезями для глаз. Дети усыпали улицы цветущими ветками и лепестками роз.
В возрасте двенадцати лет Золя был еще в восьмом классе. Хотя он и был невелик для своего возраста, там он выделялся, будучи на голову выше всех малышей. Он был близорук, краснел, когда с ним заговаривали, в общем, был он из таких, кого обычно называют маменькиными сынками, и действительно, положение усугублялось еще его матерью и бабушкой, которые каждый день приходили проведать мальчика. Среди жителей Экса он выделялся акцентом и к тому же шепелявил и, что хуже всего, был очевидным образом весьма беден. Он жил в бедном районе около Понде-Беро, а когда его мать переехала на улицу Беллегар, ситуация не стала намного лучше. Хотя семья меняла жилье и вела нелегкий образ жизни, он сам жил в убежище вымышленного, играя на берегах Торса среди беззаботных мечтаний о животных и цветах. В возрасте семи с половиной лет он все еще плохо знал алфавит, но в двенадцать он начал исторический роман, основанный на «Истории крестовых походов» Мишо, и Поль, став его другом, открыл новый мир фантазий и интересов. В свободные от занятий праздничные дни они отправлялись в те места, где Золя играл ребенком. Истинные городские дети, они не боялись, когда в них бросали камни. (Золя тоже пережил нападение на него: когда ему было пять лет, в 1845 году, его родители прогнали слугу-араба, подростка двенадцати лет, за попытку причинить насилие ребенку.)
Отец Золя, чьи предки были выходцами из Зары в Далматин и который сам был венецианцем, был романтиком с огромным вкусом к жизни. Однажды он увидел девушку лет девятнадцати, выходившую из церкви, влюбился, побежал за ней и женился. Она была гречанка с острова Корфу. После завоевания австрийцами Венеции Золя перебрался в Австрию, потом в Голландию и Англию. В двадцать шесть лет он прокладывал в Австрии одну из первых в Европе железных дорог, позже он служил офицером в Иностранном легионе в Алжире, но вынужден был спешно покинуть его ввиду приключившейся с ним любовной истории. Приехав в Марсель в 1833 году, он поселился в окрестностях и разрабатывал множество грандиозных прожектов, среди которых его внучка упоминает следующие: «план фортификации Парижа; использование разных машин для вычерпывания земли — предшественник наших паровых землечерпалок; строительство нового порта в Марселе и, наконец, план, который был в действительности претворен в жизнь, — канал для снабжения Экса питьевой водой во время засух».
Эмиль родился в Париже в апреле 1840 года и был привезен в Экс в 1843-м, когда его отец поселился там со своей новой женой (которая по случайности носила в девичестве ту же фамилию, что и мать Поля, — Обер). В следующем году королевский декрет утвердил строительство канала, и наконец в феврале 1847 года план во всех деталях был принят. Была основана компания с капиталом в 600 тысяч франков. Но беспокойный и непредусмотрительный инженер, измотанный долгой борьбой, подхватил воспаление легких и умер в Марселе 27 марта 1847 года в возрасте пятидесяти двух лет. Золя навсегда запомнил комнату в гостинице на улице Арбре, где он увидел тело отца, и в течение многих лет самое слово «смерть» сокрушало его.
Канал был прорыт, он и по сей день действует, плотина в его начале носит название «Плотина Золя», а в Эксе один бульвар назван именем Франсуа Золя. Но вдова его наследовала весьма немного — в основном массу долгов и судебных предписаний. Она решительно боролась за выправление ситуации, прибегнув к помощи своих родителей, которые переехали в Экс, дабы соединиться с ней.
После того как Эмиль прошел начальную школу и пансион при соборе Нотр-Дам, его в октябре 1852 года отдали в Коллеж Бурбон, то есть в то же время, что и Поля.
Гаске передает нам, что Поль говорил позже: «В школе Золя и я считались феноменами. Я запросто в два счета мог выучить сотню латинских стихов, я был вполне деловым человеком, когда был молод. Золя совершенно ничем не интересовался. Он мечтал. Он был абсолютно необщителен, этакий меланхоличный бедняк. Знаете, того типа, который ребята обычно ненавидят. Без всяких на то оснований они его травили. И с этого началась наша дружба. Вся школа, большие ребята и малыши, устроили мне как-то взбучку за то, что я не участвовал в их остракизме. Я плевал на них — подошел и поговорил с ним, как обычно. Славный товарищ. На следующий день он принес мне корзину яблок. Вот они откуда, яблоки Сезанна! Они восходят к старинному времени».
Как обычно, записи Гаске не вполне точны, но суть передана правильно, вне всяких сомнений. Экские мальчишки дразнили Золя Марсельцем и Франком (Franciot).
Он писал в «Исповеди Клода», сколь отвержен он был среди соучеников, «которые были безжалостны и бездушны, как это свойственно детям. Сам я был, должно быть, странным существом, способным лишь любить или плакать; я страдал с самых первых моих шагов. Мои школьные годы были годами слез. Во мне таилась гордость любящих натур. Меня не любили, так как меня не знали, сам же я отказывался открыться». Эмиль и Поль, два безнадежных аутсайдера, сошлись вместе. Они нашли еще несколько мальчиков, с которыми могли ладить: Маргри, руководителя оркестра, шумливого веселого малого, который позже покончил с собой, Бойера, который пел басом, и в особенности Баптистена Байля, который был двумя годами моложе Поля, но учился в том же классе. В 1860 году Золя описывал себя, Поля и Байля «троицей, богатой в надеждах, равными друг другу в нашей юности, в наших мечтаниях» (в письме к Полю), и объявлял (в письме к Байлю), что то, что было «у нас богатством сердца и духа, это было прежде всего будущее, которое наша юность прозревала как нечто блистательное». Троица смеялась над длинноносым заместителем директора коллежа, прозванного Пифаром, над никогда не смеявшимся Радамантом, над рогоносцем «Вы-обманываете-меня-Адель», над Сронтини, младшим учителем, корсиканцем, как будто всегда готовым показать кинжал, покрытый кровью троих убитых согласно вендетте кузенов, над Пара-бульменосом-поваренком и Параллелюкой-посудомойкой.
Байль был способным работягой, Поль тоже трудился тяжело, «почти болезненно» (Гаске), постоянно неуверенный в результате ввиду своей эмоциональной неуравновешенности; Золя работал методично и сознательно, но ровно столько, сколько требовалось для конкретных результатов. Он был главным среди них духовно, он писал и декламировал стихи, рисовал планы того великого будущего, которое они обретут, когда станут поэтами. Сезанны к этому времени переехали на улицу Матерон, 14, поближе к банку. У Поля уже зародились смутные представления о будущем, которые были отличны от предназначавшихся ему Луи-Огюстом. Через Золя в нем зародился дух бунтарства и решительности.
В «Творчестве» Золя описывает прогулки и занятия троицы друзей, сохраняя дух тех юных дней. И для него, и для Поля воспоминания об их летних приключениях были чрезвычайно важны, в них они находили основание для счастливого содружества и свободного воображения, служившего позже мерилом всего последующего опыта. К этим впечатлениям они возвращались, как к источнику чистой свободы и вдохновения. Они чувствовали, что в те дни они знали истинный союз душ, который был также истинной причастностью к земле, к почве.
«Еще совсем маленькими, в шестом классе, трое неразлучных пристрастились к длинным прогулкам. Пользуясь каждым свободным днем, они уходили как можно дальше, а по мере того, как росли, они все увеличивали длительность прогулок и в конце концов исколесили весь край, путешествуя иногда по нескольку дней кряду. Ночевали где придется: то в расщелине скалы, то на гумне, раскалившемся за день, то в обмолоченной соломе, то в какой-нибудь заброшенной хижине, где они устилали пол чабрецом и лавандой. Это были вылазки в неведомое, инстинктивное стремление бежать от окружающего на лоно природы, безотчетное мальчишеское обожание деревьев, воды, гор, неизъяснимо радостное чувство уединения и свободы.
Дюбюш (Байль. — Дж. Л.), который был пансионером, присоединялся к товарищам только в праздничные дни и на каникулах. Зато Клод (Сезанн. —Дж. Л.) и Сандоз (Золя. — Дж. Л.) были неутомимы: каждое воскресенье, просыпаясь в четыре часа утра, они будили друг друга, бросая камешек в закрытые ставни. Летом их особенно влекла к себе Вьорна (Арк. — Дж. Л.), вьющаяся тонкой лентой по всей плассанской низменности. В двенадцать лет они уже отлично умели плавать. С остервенением бросались они в водовороты, плескаясь в воде целыми днями, отдыхая нагишом на раскаленном песке и вновь кидаясь в воду; плавали на спине, на животе, рыскали в прибрежной траве, зарывались в нее по уши и часами подкарауливали угрей. Эта жизнь на природе, у журчащей прозрачной воды, пронизанной лучами солнца, продлила их детство, сохранила чистоту и непосредственное, радостное восприятие мира. Даже когда пришло время возмужания, город с его соблазнами был не властен над ними.
Позднее они увлеклись охотой. В том краю дичи мало, и охота носит совсем особый характер; нужно пройти по меньшей мере шесть лье для того, чтобы застрелить полдюжины бекасов; из этих утомительных прогулок они возвращались иногда с пустыми ягдташами или подстреливали, разряжая ружья, неосторожную летучую мышь».
Поль был даже еще меньшим энтузиастом охоты, чем Клод, описанный Золя. Но образы пейзажа укладывались у него в систему, а воспоминания о речных купаниях подвигли его со временем к непрекращавшимся попыткам изображать купальщиков и купальщиц. Ощущение счастья, свободы, чистого, неразъедаемого ничем союза было нераздельно сплавлено с впечатлениями от провансальской природы, с ее светом, красками, теплом, ароматами, с ее цветущим переплетением, ее мощными формами. Живописные или пластические стороны пейзажа были едины с чувством поэтического освобождения и чистых человеческих контактов. Жизнь Поля с определенной точки зрения была долгой борьбой за воплощение этих впечатлений средствами сложно организованной художественной образности, и, когда мы видим всего лишь замкнутую живописную систему и забываем о действенных впечатлениях, лежавших в ее основе, мы в корне искажаем цели художника и его достижения.
«Глаза молодых людей увлажнились при воспоминании об этих походах; перед их мысленным взором вставали бесконечные белые дороги, устланные мягкой пылью, похожей на только что выпавший снег. Они шли дальше и дальше, радуясь всему — даже скрип их грубых башмаков доставлял им наслаждение; с дороги они сворачивали в поля, на красную, насыщенную железом землю тех мест: над ними свинцовое небо, кругом скудная растительность — лишь малорослые оливы да чахлые миндальные деревья. Никакой тени. На обратном пути блаженная усталость, гордая похвальба, что сегодня прошли больше, чем когда-либо прежде. Они буквально не чуяли под собой ног, двигаясь только по инерции, подбадривая себя лихими солдатскими песнями, почти засыпая на ходу.
Уже и тогда Клод вместе с пороховницей и патронами захватывал с собой альбом, в котором он делал наброски, а Сандоз всегда брал с собой томик какого-нибудь поэта. Оба были преисполнены романтикой. Крылатые строфы чередовались с казарменными прибаутками, раскаленный воздух оглашался длинными одами; когда они встречали на пути ручеек, окаймленный ивами, бросавшими слабую тень на иссушенную землю, они делали привал и оставались там до тех пор, пока на небе не высыпали звезды. Там они разыгрывали драмы, которые помнили наизусть; слова героев произносились громко и торжественно, реплики королев и юных девушек — тоненьким голосом, подражавшим пению флейты. В такие дни они забывали об охоте. В глухой провинции среди сонной тупости маленького городка они жили совершенно особняком, с четырнадцати лет предаваясь лихорадочному поклонению литературе и искусству. Первым их вдохновителем был Гюго. Мальчики зачитывались им, декламировали его стихи, любуясь заходом солнца над развалинами. Их пленяли в Гюго патетика, богатое воображение, грандиозные идеи в извечной борьбе антитез. Жизнь представлялась им тогда в искусственном, но великолепном освещении последнего акта драмы. Потом их покорил Мюссе, его страсть, его слезы передавались им, в его поэзии они слышали как бы биение своего собственного сердца; теперь мир предстал им более человечным, пробуждая в них жалость к нескончаемым стонам страдания, которые неслись отовсюду. Со свойственной юношеству неразборчивостью, с необузданной жаждой читать все, что только подвернется под руку, они, захлебываясь, поглощали и отличные, и плохие книги; их жажда восторга была столь велика, что зачастую какое-нибудь мерзкое произведение приводило их в такой же восторг, как и шедевр».
Эта любовь к природе и поэзии, утверждал Золя, спасла их от городского филистерства. В своих заметках он утверждал: «Никаких кафе, никаких женщин, жизнь на свежем воздухе — это спасло их от провинциального ступора (betise)». «Творчество» развивает эту тему: «Теперь Сан доз часто говорил, что именно любовь к природе, длинные прогулки, чтение взахлеб спасли их от растлевающего влияния провинциальной среды. Никогда они не заходили в кафе, улица внушала им отвращение, им казалось, что в городе они зачахли бы, как орлы, посаженные в клетку; в том же возрасте их школьные товарищи пристрастились к посещениям кафе, где угощались и играли в карты за мраморными столиками. Провинциальная жизнь быстро затягивает в свою тину, прививая с детства определенные вкусы и навыки: чтение газет от корки до корки, бесконечные партии в домино, одна и та же неизменная прогулка в определенный час по одной и той же улице. Боязнь постепенного огрубения, притупляющего ум, вызывала отпор «неразлучных», гнала их вон из города; они искали уединения среди холмов, декламируя стихи даже под проливным дождем, не торопясь укрыться от непогоды в ненавистном им городе. Они мечтали поселиться на берегу Вьорны, взяв с собой пять-шесть избранных книг, и жить первобытной жизнью вдосталь наслаждаясь купанием. Приятели не включали в свои планы женщин, они были чересчур застенчивы и неловки в их присутствии, но ставили себе это в заслугу, считая себя высшими натурами. Клод в течение двух лет томился любовью к молоденькой модистке и каждый вечер издали следовал за ней, но никогда у него не хватало смелости сказать ей хотя бы одно слово. Сандоз мечтал о приключениях, о незнакомках, встреченных в путл, о прекрасных девушках, которые самозабвенно отдадутся ему в неведомом лесу и, растаяв в сумерках, исчезнут как тени. Единственное любовное приключение до сих пор смешило приятелей, до того оно им представлялось теперь глупым: в тот период, когда они занимались в коллеже музыкой, они простаивали ночи напролет под окнами двух барышень — один играл на кларнете, другой на корнет-а-пистоне; чудовищная какофония их серенад вызывала возмущение обитателей квартала, пока наконец взбешенные родители не вылили им на голову содержимое всех ночных горшков, имевшихся в доме».
Эти дни наложили неизгладимый отпечаток на Поля и Эмиля. Последний никогда не уставал вспоминать их. Он делал это и в «Исповеди», и в других сочинениях, например в эссе о Мюссе. Для Поля, художника, земля Прованса, порождающая чувства, описанные Золя, обладала еще большей значительностью в его работе. Но мы должны заметить, что мальчики, хоть и не знали того, были весьма современны в своих чувствах и стремлениях. Летом 1847 года Флобер и Максим дю Кан путешествовали по полям Бретани с посохами и заплечными мешками и находили «истинную свободу» в своем бродяжничестве. В 1849 году Гонкуры, одетые подобно бедным молодым художникам, странствовали по Франции. В 1850-м Курбе заявил: «В нашем сверхцивилизованном обществе я должен показать пример жизни дикаря, я должен освободиться от правительства… И вот я начинаю кочующую и независимую жизнь цыган». В 1854-м его друг Пьер Дюпон опубликовал гимн о радостях вольных дорог; он также написал «Сельские песни» и роман «Крестьяне». Другой приятель Курбе, Макс Бюшо, собирал народные стихи по деревням Франции и переводил крестьянскую поэзию с немецкого. Эжен Сю опубликовал своего «Вечного жида» в 1844–1845 годах, в нем бездомный скиталец воплощал протест трудящегося класса против подавления его свободы. Курбе в 1850 году в литографии со стихами прославил образ странствующего «Апостола Иоанна Фурне, отправляющегося на завоевание мировой гармонии». Однако наиболее значительное определение путешественника-бродяги как героя, отвернувшегося от дегуманизированной жизни городов, как истинно независимого, как глашатая вести о братской земле появилось в большом полотне Курбе «Здравствуйте, господин Курбе». В этой картине сюжетом служит встреча художника с богачом и его слугой, которые его почтительно приветствуют. Однако это является лишь предлогом, а иконографически изображение восходит к встрече Вечного странника — Вечного жида — с двумя бюргерами, то есть к популярному мотиву народных гравюр. Друг Курбе Шанфлери, оказывавший ему поддержку, сделал важное исследование «История народной картинки», опубликованное в 1869 году; он работал над разделом о Вечном жиде по крайней мере за двадцать лет до публикации. Бальзак, что весьма показательно, называл себя Вечным жидом Мысли, «всегда на ногах, вечно в движении, без отдыха, без удовлетворения чувств». Шелли в течение всей своей жизни был одержим образом Вечного жида. Амьель в своем «Дневнике» в записи от 13 августа 1865 года связывает бродяжничество с целым комплексом причин и стимулов, берущих начало еще от Руссо. «Это был он, который открыл странствия пешком еще до Тоффлера, мечтательность до «Рене», «литературную ботанику» еще до Жорж Санд, религиозные службы природе до Бернардена де Сен-Пьера, демократическую теорию до революции 1789 года».
Плотина была естественным местом паломничества для Золя. Также троица «неразлучных» часто выбирала дорогу, бегущую к востоку от Экса к Толоне, деревне с несколькими домиками и церковью, подобной заброшенной ферме. К югу лежали красные земли, кровавые, согласно легенде, со времен избиения варваров легионерами Мария. К северу был Инферно Горж и плотина среди зарослей терновника и душистых трав на каменистых холмах. По поросшим соснами склонам, где громко стрекотали цикады, ребята взбирались за Шато Нуар, Черным замком, с готическими окнами — замком дьявола, так как некогда там жил алхимик, — на каменоломню, откуда смотрели па плотину. В каменоломне, разрабатывавшейся с римских дней, добывали мягкий, теплых оттенков камень, из которого было сложено большинство домов Экса. С холмов друзья видели обширные пространства красных виноградников, лугов Арка и озеро, покрывшее 400 акров, протяженные бесплодные холмы с отдаленными серыми силуэтами Сент-Бом и грядой Этуаль. Выше громоздился голубой конус горы Сен-Виктуар. Возможно, именно то, что они смотрели на нее с вершин холмов, обусловило любовь Поля к высоким точкам зрения этого мотива в его позднейшей живописи — тот угол, который зрительно поднимал фон и сближал отдаленные пространства.
В Эксе у них было помещение для занятий в доме Байля в большой комнате на третьем этаже, «полной старых журналов, гравюр, валявшихся под ногами, стульев с отсутствующими сиденьями, погнутых резцов» и изюма, подвешенного к потолку для просушки. Сильное впечатление на друзей произвело шествие войск, отправлявшихся на Крымскую войну через город по пути в Марсель. Жители Экса неохотно принимали солдат, власти вынуждены были заставлять их. Мальчики выходили на Кур в четыре часа утра глазеть на перемещения войск и сопровождали их некоторое время, восхищаясь формой и блеском кирас в лучах восходящего солнца. В том году Байль получил первую награду за отличные успехи, Поль — вторую и вдобавок первое место за латинскую прозу и греческий, вторым он был в истории и арифметике, первым по живописи. Золя получил второе поощрение в своем классе. Он был незадолго до того удостоен стипендии к вящему облегчению его матери, его семья к тому времени переехала на улицу Алферан.
В 1856 году Поль и Эмиль перестали быть пансионерами. Каждый получил поощрение и соответственно в своем классе — Поль был первым учеником по классикам, Байль — первым по рисованию, а Золя вторым. Когда Байль не мог сопровождать приятелей на прогулках, они брали Солари, Мариуса Ру или младшего брата Байля, Исидора, которому дозволялось тащить ранец. Но чаще всего Поль и Эмиль предпочитали оставаться вдвоем. Однажды они попытались провести ночь в пещере на ложе из трав, но, только они заснули, поднялся ветер и засвистел в пещере. Разбуженные, они увидели летучих мышей, которые летали у них над головами, и вспомнили о доме. Около двух часов ночи ребята не выдержали и вышли наружу. Среди тропинок, которые они находили, была дорога к Шато де Галис с его замечательным садом или проход к Гарденнам, где дома были построены на холме, словно на кургане, а в высшей точке воздымалась церковь.
Между горячим Золя и застенчивым и неуверенным в себе Полем существовало много различий, но, как Золя писал в «Творчестве», «разные по натуре, они привязались друг к другу сразу и навсегда, притянутые тайным сродством, неясным стремлением к удовлетворению общих амбиций, пробуждением интеллекта, что возвышало их над грубой, шумной толпой лентяев и драчунов».
Золя был предводителем жарких набегов на свободные земли поэзии. Поль следовал за ним, то и дело превосходя его в безрассудстве и опьянении моментом. Байль при этом играл подчиненную роль, но старался как мог. Когда Золя как-то в очередной раз нарисовал яркое будущее трех молодых гениев, Поль угрюмо отреагировал на это: «На самом-то деле они черны, небеса будущего». А когда у него заводилось сколько-нибудь денег, он спешил избавиться от них в тот же день. Золя как-то спросил его о причинах такого мотовства, на что Поль ответил: «Ей-богу, если б я умер сегодня ночью, неужто ты бы хотел, чтобы это досталось в наследство родителям?» Какая-то одержимость снедавшим его страхом, казалось, расслабляла его руки уже в тот самый момент, когда он прикасался к монетам. Антагонизм с отцом прозвучал в его приведенном ответе: растущая оппозиция родителю по критическому денежному вопросу, так же как и связывание с деньгами всяческих беспокойств и смертных страхов, которые остались у него на протяжении всех лет его жизни. Похоже, что к этому времени Луи-Огюст понял, что остается немного надежды привести сына в банк, и начал проповедовать юридическую карьеру как наилучший из оставшихся вариантов.
Поль начал ходить в Свободную рисовальную школу, которая существовала в Эксе, благодаря герцогу Вилларскому, с 1766 года. Когда в 1825 году город принял на свое попечение старый монастырь святого Иоанна рыцарей Мальтийского ордена и сделал его музеем, школа была переведена туда же. Классы находились под управлением директора музея, Жозефа Жибера (он родился в Эксе в 1808 году), который был художником строго академического толка, писавшим портреты прелатов, генералов, министров, даже испанских инфант. Солари, этот добродушный малый, мечтавший стать скульптором, также поступил в школу. Поль стал ходить в нее по вечерам с ноября 1858 года. Луи-Огюст, очевидно, полагая, что обучение рисованию должно входить в благородное воспитание, не возражал. Мари также делала неплохие акварели. Занятия, несомненно, размышлял Луи-Огюст, отвратят Поля от шатаний по кафе и увлечений девицами.
В школе он встретил других юношей, которые, подобно Солари, мечтали о художественном поприще. Среди них были Нюма Кост, сын бедного сапожника, младше Поля па три с половиной года; он, учась в школе Братьев Христианского Вероучения, жаждал заниматься самообразованием — в итоге он стал клерком у нотариуса; Огюст Трюфем, брат скульптора; Жозеф Вильвьей, старший Поля десятью годами, который был учеником друга Энгра Гране и стал к тому времени много трудившимся живописцем академического толка; Шайян, другой средний художник; Жозеф Юо, чей отец, резчик камней, стал потом городским архитектором в Эксе. Юо интересовался многим: театром, рисованием, архитектурой.
Мы можем отметить, что в результате занятий в школе Поль стал серьезно изучать картины и скульптуры в музее. В его собрании не было ничего выдающегося, но попадались работы французских и итальянских барочных художников XVII века. Одна картина, «Игроки в карты», значившаяся по каталогу работой Луи Ленена, а возможно, принадлежавшая его школе, немало привлекала его. Были в музее также полотна Гране, жителя Экса, «Шильонский узник» Дюбюфа и «Поцелуй музы» Фрилли.
Золя был большим приверженцем театральных представлений, которые устраивало трижды в неделю Театральное общество Экса. Похоже на то, что Поль сопровождал его на старомодные мелодрамы. Золя временами пренебрегал обедом, чтобы оказаться во главе очереди в билетную кассу. В школе он написал фарс и две пьесы в стихах, каждую в одном акте: «Перетта» и «С волками жить — по-волчьи выть». Он зачитывался Монтенем и Рабле.
В октябре 1857 года Поль и Байль перешли в первый класс, Золя во второй. Поль имел первую награду за прилежание, Золя то же самое в своем классе и еще отличия за рисование и закон божий. Золя делал хорошие успехи в сочинениях, и его новый учитель под впечатлением урока, выполненного в стихах, сказал: «Золя, вы будете писателем!» Между тем его семья постоянно переезжала — на Кур де Миним, на городской окраине, затем на улицу Мазарини, где у них было две комнаты, выходившие на аллею, конец которой упирался в старый крепостной вал. Почти вся их мебель была продана. В ноябре мать госпожи Золя, никогда не устававшая старая дама без единого седого волоса, умерла. Сама госпожа Золя уехала в Париж, ее отец остался присматривать за Эмилем. Затем, в феврале 1858 года, она писала: «Жизнь в Эксе более невозможна. Продайте оставшиеся у нас четыре предмета обстановки. Денег должно хватить на билеты третьего класса для тебя и дедушки. Поторопитесь, я жду вас». После прощального визита в Толоне и на плотину Эмиль уехал со множеством жарких заверений о воссоединении.
Глава 3
Разлука
(1858)

Госпожа Золя надеялась получить помощь от друзей ее мужа. Лабо, член Государственного совета, устроил Эмиля со стипендией в лицей Сент-Луи, который относился к департаменту науки. Юноша, коему тогда было восемнадцать лет, поступил туда 1 марта. Поль написал ему письмо 9 апреля, которое свидетельствует, насколько точно Золя передал дух их юности в «Творчестве», «Исповеди» и других произведениях.
«Добрый день, дорогой Золя,
Прерываю молчанье,
Начинаю посланье
Про дела наших мест.
Ветер дунул могучий,
И принес ветер тучи,
Потемнело окрест.
Вот и влага живая,
Город наш поливая,
Так и хлещет с небес.
Пробудилась земля,
И холмы, и поля,
И весна уже тут как тут.
Уж полопались почки,
Показались листочки,
И кустарники все цветут.
(Перевод Л. Парнаха)
Я только что видел Байля, этим вечером я собираюсь в его загородный дом (я имею в виду Байля-старшего), так что перед этим пишу тебе.
Туманные дни встают,
Хмуро дожди идут,
И солнце все угасает.
Больше оно с небес
Рубинов для наших очес
И опалов не посылает.
С тех пор как ты покинул Экс, мой дорогой друг, меня охватило мрачное настроение; честное слово, я не лгу. Я больше не узнаю себя, я стал тяжел на подъем, глуп и медлителен. Байль говорил мне, что недели через две он будет иметь удовольствие отправить в руки твоего святейшества лист бумаги с выражением его сожалений и скорбей по поводу отторжения от тебя. Право, я жажду тебя увидеть, думаю, что мы, я и Байль, встретимся с тобой на каникулах, и тогда уж мы развернемся и совершим все те затеи, которые собирались, а тем временем я оплакиваю твое отсутствие.
Прощай Эмиль, мой дорогой.
Туда, где волны чередой
О берег бьются, я с тобой
Уж не бегу, весельем полн,
Как раньше, в дни, что жаром веют,
Сплетали руки мы как змеи
И вместе вызов бросить смели,
Бросаясь в ток послушных волн.
Прощайте, счастия деньки,
Когда с вином мы, так легки,
Удачливые рыбаки,
Ловили здоровенных рыб.
Теперь, когда удить иду,
Забрасываю зря уду, —
В прохладных водах ерунду
Ловлю, а не давешних глыб.
Ты помнишь ту сосну, что растет на берегу Арка, она свешивала свою мохнатую крону над заливом, плещущим воды у ее подножия? Эта сосна своей хвоей защищала наши тела от палящего солнца, ах, пусть боги покровительствуют ей и отведут от нее смертельный удар топора дровосека. Мы думаем, что ты приедешь на каникулы и тогда — вот будет радость, черт побери! Мы думаем устроить ужасную охоту, столь же грандиозную, что наша рыбная ловля. Вскоре, дружище, мы снова пойдем рыбачить, если сохранится погода. Сегодня она великолепна, сегодня, 13 числа, когда я кончаю это письмо.
В лесной тиши я слышал
Ее напева сладость,
Три раза повторивший
Куплет, принесший радость.
Замеченная дева
На дудочке играла.
От чар ее напева
Дрожь сладко пробежала.
Душевность, милость, чуткость
Она мне показала.
На пышных ее губках
Улыбка заиграла.
Я смелым быть решился,
И для начала важно
Я деве поклонился
И стал болтать отважно.
Промолвил я вздыхая:
«Прекраснейшая фея,
Вы с облаков порхая
Спустились, счастье вея.
Сколь ваш божествен облик,
Весь — от руки до брови —
Изяществом исполнен
И неземной любови.
Легка ваша походка —
Так бабочки порхаю,
Когда, моя красотка,
Их ветер подгоняет.
Короной королевской
Бровь изогнулась ваша,
А икр (я знаю с блеском)
Полнее нет и краше.
Моей внимая лести,
Она легла на травы,
А я изведал песни
Ее дуды на славу».
(Далее следуют еще четыре четверостишия. — Ред.)
Слово «мирлитон» («трубка», «дудочка»), использовавшееся Полем в припевах, здесь не приведенных, имеет жаргонное значение «нос», но здесь молодой поэт использовал это словечко для обозначения другого органа. К письму он добавил постскриптум о некоторых школьных товарищах из Экса, которые отправились в Париж.
Ответные письма Золя этого периода потеряны, но 3 мая Поль снова пишет в том же высоком расположении духа. Он начал письмо с рисунка и ребуса и затем продолжает:
«Как ты поживаешь? Я ужасно занят, черт побери, ужасно занят. Это и объясняет отсутствие стишка, о котором ты спрашивал. Поверь, я и вправду чрезвычайно сокрушаюсь, будучи не в силах отвечать с равными тебе яркостью, теплотой и живостью. Мне понравилась дикарская физия твоего директора. (Я имею в виду в твоем письме.) Кстати, если ты разгадаешь мой славный ребус, ты напиши мне, что я хотел сказать. Сделай то же и для меня si tempus habes (если будет время. — Латин.). Я дал Бай-лю твое письмо, а также показал Маргри. Он так же туп, как всегда. А погода нынче внезапно изменилась к холодам. Прощай, купание.
Купанья славные, пока.
Смеющиеся берега,
Прощайте, греться под лучами
Там, где на отмели теченье
Плещет волной, — в воображеньи
Не узришь лучше — вместе с вами
Не будем. Красна, как всегда,
От вымытой земли вода
Несет плавучие растенья,
Что кувыркаются, кружась
И ветками переплетясь,
По воле дикого теченья…
И вот забарабанил град,
И вскоре каждый из нас рад
Увидеть был его кипящим,
Игравшим с серою и черною
Водой. Меж тем в струях проворно
Дождь лился из небесной чаши.
Земля потоки снова осушала,
Вода ж утечь скорее поспешала,
А, впрочем, в моих рифмах смысла мало.
Мой друг, ты знаешь иль еще не знаешь,
Внезапная любовь меня прожгла.
Чьи чары так лелею, понимаешь,
Прекраснейшая женщина она.
Смугла она лицом, а поступью изящна,
А ножка так мала, а ручка — ах!
Конечно же, бела, я видел это зрящим
В любовных грезах или в облаках.
Мягчайший алебастр ее грудей красивых
Податлив для любви. Ах, ветр-шалун,
Из газа платьице ты приподнял игриво
И обнажил…
В настоящий момент я сижу в своей комнате на втором этаже, а напротив меня Бойер. Я пишу при нем и прошу написать его несколько слов своею собственной рукой. (Пишет Бойер. — Дж. Л.):
Пусть твое здоровье будет крепким,
А любовь пусть счастье принесет.
Счастье без любви бывает редко.
В ней есть все. Другое не спасет.
Предупреждаю тебя, что, когда ты вернешься и пойдешь к Сезанну, ты обнаружишь у него целую коллекцию максим из Горация, Виктора Гюго и других, приколотых к ковру.
Бойер Гюстав.
(Кончает Поль. — Дж. Л.) Дружище, я готовлюсь к экзамену на бакалавра. Ах, если б у меня был диплом, если б у тебя был диплом, если бы у Байля был диплом. У Бай-ля-то он будет. А я духом пал, вконец пропал, совсем потонул, окаменел, погас и вовсе уничтожен, вот что я такое. Мой друг, сегодня 5 мая и ужасно дождит.
Отверзся зрак небес.
Глубоко бороздят молнии тучи.
Глухих р-р-раскатов гр-р-рома гр-ромок р-р-рык.
На улицах преизрядно воды. Господь, возмущенный преступлениями рода человеческого, не иначе как решил смыть с лица их многочисленные грехи этим освежающим потоком. Уже два дня стоит эта чудовищная погода. Мой термометр стоит на 5° выше нуля, а барометр показывает ливень, бурю, шторм — на сегодня и на следующие два месяца вперед. Все городские обыватели сидят в глубочайшем унынии. Ужас и оцепенение можно прочесть на каждом лице. Все бормочут молитвы. На каждом углу, несмотря на секущий дождь, торчат группы юных дев, которые, не боясь замочить свои кринолины, надсаживаются в страстных литаниях, обращенных к небесам, поэтому в городе стоит невообразимый шум. Я уж оглох от этого. Не слышно ничего, кроме ora pro nobis («молитесь за нас». — Латин.), доносящегося со всех сторон. Я и сам прочел несколько благочестивых Pater noster («Отче наш». — Латин.) и даже mea culpa, теа culpa («моя вина, моя вина». — Латин.) вослед за нечестивым «Мирлито-ном». Надеюсь, что этот ловкий ход заставит августейшее Трио, царствующее там наверху, забыть все наше безбожное прошлое.
Но я замечаю, что эта перемена, вполне искренняя, усмирила божественный гнев. Тучи рассеиваются, сияющая радуга осветила небесный свод.
До свидания, П. Сезанн».
Игривый, полубогохульный тон, возможно, с подспудным неподдельным страхом превращает божественную Троицу в отражение земной. Что же касается устрашающих экзаменов, то Поль завалил уже самый первый, но позже в том же году ухитрился пересдать его. В письме, помеченном 29 числом (месяц не указан), он возвращается к теме безответной любви.
«Мой добрый друг, твое письмо доставило мне не просто удовольствие. Оно явилось для меня сущим наслаждением. Какая-то внутренняя печаль снедает меня, и, о боже, я ничего не делаю, кроме как мечтаю о женщине, той самой, о которой говорил тебе. Я не знаю, кто она. Я иногда лишь вижу ее проходящей по улице, когда иду в свой скучно-однообразный коллеж. Я дошел уже до тяжких воздыханий, но стараюсь не обнаруживать их. Это внутренние вздохи. Та поэтическая вещица, что ты прислал, порадовала меня. С истинным удовольствием я обнаружил, что ты помнишь ту сосну, которая бросает свою тень в окрестностях деревни Палетт. Как бы я хотел, — о жестокая судьба, разлучившая нас! — как бы я хотел, чтобы ты приехал. Я, если не придержу себя, швырну литании в небеса во имя Бога, божественного борделя, святых блудниц. Но что толку в том, чтобы злиться! Это не делает меня счастливым, так что я смиряюсь.
Да, как ты сказал в другой вещи, не менее поэтической (хотя мне больше нравится твое стихотворение о купании), ты счастлив, да, ты счастлив, а я, отверженный бедняга, я засыхаю в безмолвии, моя любовь (ибо это любовь, как я чувствую) не может излиться наружу. Какая-то подавленность сопровождает меня повсюду, и только на мгновение я забываю свои печали — когда я хлебну. Поэтому я пристрастился к вину… Я часто напиваюсь. Хотя у меня бывают неожиданные удачные строки — о-го-го, я могу преуспеть, но сейчас я в распаде, в распаде, вот я и пытаюсь одурманить себя».
Затем Поль упоминает о своем искусстве. Он сделал набросок, который представляет собой пародию на большой стиль и который напыщенно истолкован в стихах:
«Цицерон, проклинающий Катилину после обнаружения заговора граждан, потерявших честь»
Восхитимся, мой друг, языком,
Коим владел Цицерон,
Обличая того нечестивца.
Восхитимся же и Цицероном,
Чей полыхающий взор
Ядовитейшим гневом светился,
Стация вмиг сокрушил,
А его соучастников грозных
Просто потряс.
Помысли, друг, взгляни наКатилину,
Который пал на землю с громким криком.
Узри этот кинжал, что поджигатель
Пришпилил к боку лезвием кровавым.
Взгляни на зрителей, премного устрашенных
Тем, что чуть было жертвами не стали.
Заметил ли ты здесь штандарт старинный,
Что Карфаген разрушил африканский?
Хоть я тот самый, кто эту картину
Великолепную нарисовал,
Я все же содрогаюсь от восторга.
При каждом слове важном Цицерона
Вся кровь моя бурлит и закипает,
И я предвижу, твердо убежден,
Ты тоже дрогнешь от такого вида.
Иначе невозможно. Древний Рим
Сильнее этой не давал картины.
Заметь на шлемах воинов ты перья —
Подъяты вверх они дыханьем ветра.
Зри также острых частокол камней —
Как разместил их автор сей поэмы.
И ты найдешь, я знаю, новый взгляд
В том, что начертано на этой вот колонне:
«Senatus, curia». И подлинный сей вид
Впервые был представлен вам Сезанном.
О зрелище, что впечатляет глаз
И поглощает зрящего тотчас!
Но хватит рисовать тебе несравненные красоты этой восхитительной акварели. Погода улучшается, хотя я и не уверен, что она все-таки установится. Что можно сказать наверняка, так это то, что я сгораю от желания пойти и искупаться… (далее в письме следует опущенное здесь стихотворение. — Ред.). Я заметил, что после работы кистью мое перо не может сказать ничего стоящего… (стихотворение опущено. — Ред.). Я кончаю наконец, а то я только нагромождаю глупости на тупости…»
Рисунок Сезанна не носит ни малейших попыток изобразить римскую сцену. Вся обстановка приблизительно средневековая, сенаторы похожи на французских судей, Цицерон и Катилина изображены в современной одежде, а красноречие Цицерона показано облачком ветра, которое сбивает Катилину и заставляет его распластаться внизу. Поль должен был читать в школе речи Цицерона против Катилины. Он поместил в одном углу латинский текст начальной фразы первой речи. «Доколе, Катилина, ты будешь искушать терпение Сената». Когда мы вспомним, что отец Поля пытался в это время направить его к карьере юриста, мы заметим, что фигура авторитета (Цицерон, великий законник, — Луи-Огюст) попрекает мятежника (Катилина — Поль) за его отступничество, его поражение в схватке за успех и в попытке оправдать себя в глазах общества. Мятежник — это сын, который в своем предыдущем письме Золя выражал отчаянное решение оглуплять и огрублять себя и который всем своим существом отвергал Право со всем его могуществом. Рисунок, однако, довольно неуклюж и куда как менее выразителен, чем шуточные стихи. Если это было лучшим, что Поль мог сделать в свои девятнадцать лет, то можно понять, почему он с трудом мог поверить в свою художественную одаренность.
Следующее письмо, от 19 июля, представляет собой сочетание шуточек, замешанных на бунтарском духе и грезах о девушках. Оно начинается призывом к Золя сочинить стихи на разные рифмы; стоит заметить, что первое слово, случайно пришедшее Сезанну на ум, это revolte.
Письмо от 26 июля обнажает страх Поля перед экзаменами и перед отцом, которого он должен был удовлетворить. В этом напряжении Поль ударяется в религиозные выражения, насмешливые и богохульные, но свидетельствующие о по-настоящему глубокой обеспокоенности и чувстве мученичества. «Экзамены у меня начинаются 4 августа, может, всемогущие боги позаботятся о том, чтобы я не разбил нос при моем, увы, приближающемся падении». Письмо это было написано совместно Полем и Вайлем и подписано «Басезанль». Золя приехал на каникулы, и снова вся троица была вместе — «борясь, швыряя камни в горшки, ловя лягушек». 1 октября Золя вернулся в Париж в лицей. Поль и Байль приступили к экзаменам 12 ноября. Байль успешно выдержал их и уехал учиться в Марсель. Поль прошел испытание тоже 12 ноября: assez bien. В письме Золя он, как обычно, пытается обратить в шутку свои боязни, говоря, что он умрет молодым из-за переизбытка esprit («остроумие», «дух»). Он продолжает следующими стихами:
«Да, друг, о да, я рад неимоверно.
От титула сего подъялась гордо грудь.
Ни греки, ни латынь терзать меня, наверно,
Не будут больше ни чуть-чуть.
Блажен тот день, когда сей пышный титул
Пришел ко мне. Ура, я бакалавр!
Прежде чем степень взять, немало, знать, я выпил
Латинской вместе с греческой отрав».
От того года сохранилось еще одно письмо, которое проливает дополнительный свет на сложное состояние надежд и страхов, в котором пребывал Поль. В нем проблема выбора, в предыдущих письмах неясно сквозившая, изложена прямым текстом. Золя в то время в Париже, терзаемый своими собственными неприятностями и страстями, свалился в чуть ли не смертельной болезни. Шесть недель он лежал в горячке и бреду. Когда он очнулся, рот его был весь в язвах, а зубы едва держались. Он даже не мог говорить и писал на грифельной доске. Выглянув впервые после болезни в окно, Золя посмотрел на надписи на уличной стене и не смог прочесть их. 7 декабря Поль написал ему о том, что позже будет играть важную роль в его искусстве. В начале письма после фраз о здоровье последовали стихи об изучении права, в конце был упомянут Геркулес. Поль отметил два извода мифа о Геракле: выбор дорог на перекрестке и еще один, менее известный. Один аспект появился в стихах: «Увы! И я выбрал кривую дорогу Права». Французское Droit означает и право (закон), и прямое направление. Поль колебался, подобно Гераклу на перепутье в известной аллегории Продика, не зная, выбрать ли стезю Долга или тропу Наслаждения (искусства). Он должен был встречать эту тему у Ксенофонта в «Меморабилии», в Лукиановом «Сне» и у Цицерона («О государстве») — в текстах, которые были легкодоступны в школьных изданиях. Версия Сильвия Италика, которая подчеркивает, что из правой и левой дорог, именно Права — крива и извилиста, сравнительно малоизвестна. Можно предположить, что Поль не знал ее. Версия Лукиана особенно должна была впечатлять его, так как в ней молодой герой разрывался между Образованием и Скульптурой (ваянием). Он также несомненно знал мотив из A. де Мюссе и «1851 — выбор между двумя прохожими» B. Гюго, где тема Смерти и Позора была навеяна дюреровской гравюрой «Всадник, Смерть и Дьявол». Ну и, конечно, он должен был знать этот мотив из произведений искусства. Картину «Выбор Геракла» Аннибале Карраччи он мог видеть в репродукциях — там изображены Добродетель справа и Порок слева. В XIX веке были версии Рюда, Г. Моро, Фантен-Латура, а также Делакруа (в декорациях парижской Ратуши), хотя Поль еще не мог видеть их. Он, однако, мог видеть картину Каспара де Грайе в стиле Рубенса (находится в Марселе; Порок там справа), и, более чем вероятно, Поль знал версию Г. де Лepecca, которая появилась в «Магазен Питтореск» в 1844 году, издании, в котором были две статьи о музее Экса. Для подтверждения связи левого с Наслаждением, Пороком, Мятежом, можно заметить, что Ганнибал в другом его стихотворении описан спящим на левом боку.
Важность образа Героя на распутье будет проявляться по мере нашего описания, так как она лежит в основе любимых Полем тем — «Суд Париса», «Искушение св. Антония», а также она ведет к ранним замыслам «Купальщиц». Далее, с 1880 года, глубокий интерес Поля к статуе Пюже «Галльский Геракл» покажет, что Геракл стал для него эмблемой упорного и сильного художника, держащегося выбранного им курса, несмотря на все трудности и препятствия.
Отдельные замечания Поля показывают, что тема Геракла была хорошо знакома их троице; похоже, что она составляла часть их собственной мифологии. Геракл, как доносили предания, проходил через Прованс на своем пути в Испанию за стадами Гериона. Он основал здесь ряд городов и убил разбойника Таурискоса (чье имя намекает на связь с культом быков). Античная легенда обросла народными сказаниями о битвах гигантов, швырявшихся валунами (оставшимися на равнине Лa Кро). Так Геракл стал частью местного фольклора. Жители Прованса писали над своими дверями: «Покоритель Геракл обитает внутри. Пусть ничто дурное не войдет сюда». Так что для троицы было много оснований интересоваться героем. Золя взялся за эту тему в 1858 году. В его письме к Полю шла речь о нимфе, которая соблазнила Геракла, пообещав рассказать, что случилось с его конями, похищенными во время его сна. Вновь появилась тема героя, который терпит поражение на стезе долга, подобно Ганнибалу, чей позор связан со сном, но здесь это ведет еще к другому падению: в infandum amorem. В итоге можно сказать, что Поль отождествляет себя довольно сложным образом с героем, выбирающим Право, и с юношей, подстерегаемым нимфами среди лесов и потоков его любимой природы.
В том году Солари в возрасте восемнадцати лет выиграл Премию Гране в 1200 франков и смог отправиться в Париж. Его отъезд увеличил тревоги Поля и его чувство потери. Золя глубоко ощущал связь своих корней с Эксом. В качестве примера этого можно заметить, что описание своей горячки он дал позже в образе Сержа «В проступке аббата Муре», где сад Ле Параду, рай телесной свободы и греха, был списан с Л а Галис. А образ Суварина, анархиста из «Жерминаля», хотя и был частично навеян рассказами Тургенева, имел прототипом некоего русского с экского юридического факультета. Этот тип был известен тем, что хранил в своей комнате памфлет в сером переплете — трактат о том, как наилучшим образом взорвать Париж, писанный русским офицером, обретавшимся в конце XVIII века во Франции.
Глава 4
Одинокий год
(1859)

В течение 1859 года Поль продолжал выражать свои чувства в стихах. Письмо от 17 января отражает еще более глубокие страсти, чем предыдущие. Оно начинается бурлескной зарисовкой Вергилия и Данте (Поля и Эмиля), входящих в некое помещение в аду, где пять человек восседают вокруг стола, в центре которого лежит череп. Название сцены гласит: «В этих местах правит смерть». Снова появляются, переплетаясь, страх смерти и боязнь перед деньгами. Образ семейной жизни с ее необходимостью снискания доходов выражен через людоедство в подземной тюрьме.
«Данте: Скажи, мой друг, что там они грызут?
Вергилий: Череп, parbleu.
Данте: О боже, страх какой!
Но для чего ж глодать такую мерзость?
Вергилий: Внемли, и я скажу тебе зачем.
Отец: О раздерем в клочки сего жестокосердца,
Который нас обрек от голода страдать.
Старший сын: Приступим.
Младший: Стражду я, отдайте ухо мне.
Третий: А мне бы нос.
Внук: Мне глаз.
Старший: Мне дайте зубы.
Отец: Коль вы собрались есть с такою прытью,
Что ж нам останется на завтра, дети?
(Далее следует еще пятьдесят строк, развивающих тему. — Ред.)
Несколько дней уже, как я написал эти стихи. Я решил подождать с отправлением письма, но вот уже теперь беспокоюсь, не имея от тебя известий. По своему обыкновению я придумываю всякие предположения, подчас самые идиотские, по поводу твоего длящегося молчания. Возможно, думаю я, он поглощен какой-то преогромнейшей работой, возможно, он катает какую-нибудь пространную поэму, может быть, готовит мне неразрешимую загадку, а может, он стал редактором какого-нибудь хилого журнальчика. Но все эти предположения не говорят мне quod agis, quod bibis, quod cantos, quomodo te ipsum portas и т. д. Я могу надоедать тебе еще долго, а ты можешь в раздражении воскликнуть вместе с Цицероном: «Quosque, tandem, Cezanine abuteris patientia nostra». На что я отвечу: чтобы я тебе перестал надоедать, ты должен написать мне немедленно, если к этому нет никаких важных препятствий. Salut omnibus parentibus tuis, salut tibi quoque, salve, salve (Привет всем твоим родным, привет и тебе, прощай, прощай. — Латин.),
Паулус Сезасинус».
Здесь снова Поль отождествляет себя с Катилиной, обвиняемым Цицероном. Конфетка, которая проскользнула между губками Мари в том восхитительном чувственном соединении, которое Поль описал в не переведенном здесь стихотворении, обернулась источником болезни и недомогания. Открытые уста предстали пастью смерти. Всепроникающий страх и ужас кристаллизовались в бурлескном видении Уголино. Песни 32–33 Дантова «Ада» рисуют Уголино безнадежно вгрызающимся в череп своего врага, который на земле заточил его с четырьмя сыновьями в башне. Когда сыновья умерли, обезумевший от голода отец пожирал их трупы. Поль постарался заострить ужас этого мотива соединением двух ипостасей — земной и адской: он показал вроде бы обычную семейную трапезу, во время которой поедается мертвая голова. Бережливый отец подает советы того же свойства, что и Луи-Огюст, должно быть, неоднократно давал в несколько менее мелодраматической обстановке. Отец перестает быть томимым угрызениями страдальцем, он становится благодушным pater familias, добрым отцом семейства, capable de tout, по словам Вольтера, распоряжающимся на нечестивом пиру, который символизирует каждодневные трапезы буржуазии.
Поль спрашивал себя, следует ли ему выбирать Право и становиться соучастником. В мрачных выходках он смешивал свои страхи перед деньгами, семьей, властным отцом, смертью, голодом. Он стоял посреди обступивших его образов, подобно парализованному повстанцу, он вяло боролся, подобно Катилине, столкнувшемуся с взрывной силой авторитарного мира, подобно Ганнибалу, катившемуся вперед на последнем изрыгании своей жизненной энергии. Он не мог избежать никакого пути; он подчинялся и все же отказывался полностью покориться.
Тема Уголино стала популярной вместе с подъемом романтизма; можно насчитать множество примеров ее трактовки в живописи и скульптуре XVIII и XIX веков. К ней обращался Делакруа, а немногим спустя после письма Поля, в 1861 году, Карпо в Риме работал над большой группой Уголино, которая привлекла к себе большое внимание и была выставлена в Салоне 1867 года. Наивысшей точки тема достигла во «Вратах Ада» Родена (возможно, навеянная Карпо). Однако Поль не обнаружил знакомства с художественными произведениями в своем небольшом грубом наброске и, вероятно, вдохновлялся непосредственно Данте. Позже он еще не раз использовал череп в своем искусстве, несомненно, отчасти из-за множества интересных живописных проблем, на которые тот наводил. Воллар описал Сезанна много лет спустя, читавшего в своей мастерской «Атали», на мольберте стоял натюрморт с черепом (начатый несколькими годами ранее). «Что за чудная штука для живописи, этот череп», — сказал он. Но череп, особенно череп на столе, содержал для него целый комплекс чувств, связанных с этим его письмом, — не просто memento mori («Помни о смерти». — Ред.), разновидность темы Vanitas XVII столетия, но, скорее, эмблему внутренней смерти, полной дегуманизации и отказа от высших ценностей у Луи-Огюста.
Мы знаем, что последний, занимаясь ссудой денег, использовал выражение mange («пожранный») в отношении того, кто терял его деньги. «Поль позволит себе быть пожранным живописью, Мари — иезуитами». Борьба за делание денег, таким образом, предстает борьбой за то, чтобы не быть пожранным. В своем переосмыслении образа Поль видит для себя возможность быть съеденным отцом с его каннибалистскими денежными ценностями. Череп стал для него эмблемой отказа от мира, потери духовной жизни в той же мере, что и физической. В одном письме от 1868 года Поль написал фразу: «Немного денег, заложенных под родительский череп».
Стихи Сезанна грубы, часто откровенно прозаичны, что составляет часть их шуточного характера. Но, взятые вместе, они очень действенны, они обнажают его натуру и явственно выражают быстрые перемены его сознания и чувств — и глубокое вдохновение, и приступы страхов. Странно, но, если мы сравним их с вещами, которые писал Золя в то время, мы почувствуем, что последний был слаб и вторичен, ему не хватало ощутимой энергии неотделанных строчек Поля. Так, послание Эмиля «К моему другу Полю», писанное в лицее в ответ на сделанные Сезанном зарисовки девушек, пытается поставить дружбу выше любви.
Мы не можем упрекнуть друзей Золя в Париже за недостаток восхищения, когда он читал им подобные вещи. Но независимо от того, сколь несовершенны и слабы были его стихи, Золя замышлял свою «Цепь бытия» (основанную на Шенье и Гюго) и сотворял длинные поэмы вроде «L’Aerienne» и «Паоло». В его сочинениях были заметны черты женственности. Он воспитывался матерью и бабушкой, тема сироты, чаще всего девочки, нередко появляется в его романах. Героини «Терезы Ракен» и «Мадлены Фера» обе потеряли родителей, которые еще были в «Чреве Парижа»; жена Сандоза из «Творчества» — сирота, так же как и проститутка Ирма. Другие примеры — это Анжелика в «Мечте» и Кристина в «Странице любви», равно как и Жанна — ребенок-тиран. Отец Жанны умер, как и отец Золя, в гостинице в большом городе, «в большой голой комнате, наполненной аптечными пузырьками и нераспакованными чемоданами». Когда мальчик Пьер Фроман, герой «Трех городов», теряет отца (во время взрыва), он становится священником — и это несмотря на свою мужественность. Нет никакого сомнения в том, что в мотиве сиротства Золя демонстрирует свое желание поддерживать отождествление себя с охраняющей женской сферой и свой страх Дрервать эту связь и быть исторгнутым во внешний мир. В письмах тех лет, о которых мы ведем повествование, он предстает неустанным примирителем, вышучивая все противоречия, возникавшие между Полем и Байлем, делая все возможное, чтобы залатать дыры, появлявшиеся в их дружбе.
Двадцатого июня Поль еще раз безнадежно влюбился. В следующем письме он использует английские выражения, дабы выразить восхищение девицей:
«Мой дорогой,
все, что я писал тебе в прошлом письме, — все правда. Я старался обмануть самого себя… Я был очень влюблен в некую Жюстин, которая действительно very fine (красивая. — Англ.), но, так как я не of a great beautiful (не очень красив. — Искаженный англ.), она не смотрела на меня. Когда я устремлял свои гляделки на нее, она краснела и опускала глаза. Я заметил, что, если нам случайно приходилось сталкиваться на улице, она поворачивалась и исчезала не оглядываясь. Quanto a bella donna (что касается красивой особы. — Итал.), мне не везет, а я ведь встречаюсь с ней раза по четыре на дню. Слушай дальше, мой дорогой, в один прекрасный день ко мне подходит молодой человек, первокурсник, как и я, — короче, это Сеймар, которого ты знаешь. «Дорогой друг», — сказал он, схватив меня за руку, потом он взял меня под руку и повел на улицу Италии. «Я хочу, — продолжал он, — показать тебе прелестную малютку, которую я люблю, и она тоже меня любит». Должен сказать, что какое-то облако застлало мне глаза, я почувствовал, что меня ждет неприятность, и я не ошибся. Пробило полдень, и я издали увидел, как Жюстйн выходила из своей швейной мастерской. Сеймар мне делал знаки: «Вот она». Я больше ничего не видел, голова у меня закружилась, но Сеймар меня увлек за собой. Я задел платье малютки…»
Это описание, которое сам Поль кончает многоточием, напоминает нам, что позже в течение всей жизни он был столь нетерпим к физическим прикосновениям, даже к легким касаниям женских кофт. Он даже приказал своей домохозяйке быть особенно осторожной, подавая ему еду, чтобы, упаси бог, не дотронуться.
«С тех пор она встречалась мне почти каждый день, и часто за ней шел Сеймар… Ах, каким только безумным мечтам я не предавался и говорил себе: если она меня не ненавидит, мы поедем вместе в Париж, там я сделаюсь художником, мы будем вместе, мы будем счастливы. Я мечтал о мастерской на четвертом этаже, о картинах, о том, чтобы ты был со мной, вот мы повеселились бы. Я не мечтал о богатстве, ты знаешь, что мне это не нужно. Мы прекрасно прожили бы на несколько сотен франков, но это только мечты, а вообще я бездельник, и мне хорошо только тогда, когда я выпил. С трудом могу делать что-либо, я, как мертвое тело, не пригоден ни на что. Но, старина, твои сигары превосходны, я искурил одну во время писания письма. У нее вкус карамели и ячменного сахара. Ах, смотри, вот она, вот она, как она скользит и парит, это моя юная дева, она смеется надо мной, она плавает в клубах дыма, гляди, гляди, она подымается, опускается, резвится, кружится и смеется надо мной. О Жюстина, скажи мне по крайней мере, что ты не ненавидишь меня. Она смеется. Жестокое дитя, тебе доставляет удовольствие причинять мне страдания. Жюстина, послушай! Но она размывается, поднимается выше, выше и, смотри, исчезает. Сигара выпадает у меня изо рта, и на этом я засыпаю. Я подумал было, что я сошел с ума, но благодаря твоей сигаре мой рассудок укрепился, пройдет еще дней десять, и я не буду вспоминать о ней или же видеть буду ее только смутной тенью на горизонте своего прошлого.
Ах, какое неизъяснимое наслаждение для меня пожать твою руку. Твоя матушка сказала мне, что ты приедешь в Экс в конце июля. Если б я умел прыгать, я, наверно, пробил бы потолок. Действительно, вчера вечером, было уже темно, я подумал, что чокнулся, но, как ты понимаешь, этого не случилось. Я только выпил слишком много, так что видел чертей, кувыркавшихся у меня на носу, — плясавших, смеявшихся и дико прыгавших.
Пока, мой милый друг, пока, П. Сезанн».
На обороте последнего листа он нарисовал большое дерево и троицу, купающуюся и резвящуюся под ним, — сцену, которая преследовала его всю жизнь как выражение свободы и счастливого содружества с землей.
В письме, возможно, от начала июля он обобщил свои мечты о Жюстине:
«Быть может, скажешь ты: Сезанн, бедняга,
Какой чертовкою твой череп потрясен?
Ты, кого я всегда хвалил за твердость шага
И кто на доброе всегда был занесен.
В каком размытом хаосе фантазмов
Ты ныне, словно в океане, потонул?
Быть может, танцев ты видал немало разных
Нимфы из Оперы и вдарился в загул?
Ты, верно, пишешь все, на стол низко склоняясь,
Или храпишь спьяна, как перед папой поп.
Или, мой друг, еще: любовью преполняясь,
Не сшиб ли ты вином свой ныне гулкий лоб?»
Мысли о любви и выпивке еще раз вызвали образ Ганнибала. Ведьма demonte его череп — здесь Поль употребил слово, которое передает идею беспорядка и смешения, а также отделения (в данном случае головы) — подобно всаднику от лошади или мореплавателю от корабля. Итак, ведьма отделяет его череп от тела, и мы вспоминаем череп Уголино. Мысль возвращается к последней строке, в которой помрачение рассудка вермутом поэт уподобляет сбиванию башки в балаганных интермедиях. Мы позже увидим, Как это ощущение разъединенного тела, странного самому себе, отзовется потом в искусстве Сезанна.
«Нет, не любовь и не вино мою
Затронули Сорбонну здесь. Но я
Не утверждал, что должно пить лишь воду.
Сему источник есть иной, мой Друг,
С мечтою связан он, хоть ясен разум.
Ах, неужель ты не видал в часы
Мечтательные, как среди тумана
Текут неясные изысканные формы.
Там смутные красавицы, чьи чары
Снятся в ночи и исчезают утром.
А знаешь ты, как рано по утрам
На небе светится прозрачнейшая дымка,
Когда встает светило, зажигая
Над шелестящим лесом рой огней.
Струятся воды, щедро отражая
Лазурь. Приходит мягкий ветерок,
И эфемерную он развевает дымку.
Вот так глазам моим являться любят
Прелестные созданья с голосами
Ангельскими — порожденья ночи.
И мнится мне, мой друг, — это заря,
Соперничая с ясным первым светом,
Рисует их.
Они, увы, смеются надо мной,
Я простираю к ним, но тщетно, руку.
Они внезапно воспаряют ввысь,
Все выше, выше, в небо, за зефиром,
Бросая напоследок нежный взгляд,
Чтобы сказать «Прощай». Но я бегу
За ними. Тщетно. Это невозможно —
моя мечта — коснуться их рукой.
Их больше нет. Прозрачный газ уже
Мне не рисует совершенный контур
Их чудных тел. Моя мечта исчезла,
Реальность возвращается, и вот
Я вижу, что лежу с печальным сердцем,
Передо мной маячит тусклый призрак,
Ужасный, устрашающий и «ПРАВО»
Написано на бледном лбу его».
Вновь после бесплодного видения Поль оказывается бессильно вытянутым и поверженным, а над ним грозно высятся Цицерон — Гамилькар — Закон — Отец. Он продолжает: «Я думаю, я больше, чем мечтал. Я заснул (я, должно быть, заморозил тебя своими банальными пошлостями), и мне снилось, что я держал в руках мою lorette, мою grisette, мою mignonne, мою friponne, что я лобзал ее перси и много других местечек…
Байль сказал мне, что лицеисты, твои соученики, как будто критически отнеслись к твоим стихам к императрице. Это меня страшно рассердило — как могут эти литературные пингвины, недоноски, астматики насмехаться над твоими искренними стихами. Если сочтешь нужным, передай им мои комплименты (далее следует ругательное стихотворение. — Ред.) и добавь, что, если им есть что сказать, они найдут меня ожидающим их, дабы хорошенько двинуть первого, кто приблизится на расстояние кулака.
Этим утром, 9 июля, в восемь утра, я видел М. Леклерка, который рассказал мне, что младшая мисс М., некогда прехорошенькая, покрылась язвами с головы до ног и напоминает привидение на больничной койке. Старшая сестра, которая была уродиной и таковою осталась и поныне, носит бандаж как следствие слишком сильного затягивания пояса. Твой друг, который напился вермута за твое здоровье, Поль Сезанн. Всем привет, твоим родителям, а также Ушару».
Приведем еще письмо без даты, видимо, конца июля. Оно пышет сильным раздражением, которое в основном проистекает от приближающихся экзаменов по праву и связанных с ними треволнений.
«Не пишет Байль тебе: боится — дух его
Ты резко от себя отринешь, друг Золя,
В кошмаре, что его ты не поймешь,
Бразды письма он мне сегодня дал.
И вот я, сидя за его столом,
Кропаю стих, дитя моих мозгов.
Никто судить его, я верю в то, не станет,
Единствен он в своей природной простоте.
Но дальше я хочу тебе явить
Стихи, которые я тщательно состряпал
И посвятил тебе. Названье оды — «Сало»,
Она поэзии законы презирает.
Ода
О Сало, вся твоя работа несравненна,
Достойна чести ты немалой непременно.
Тебе, ночную черноту прочь уносящей,
Поем мы к славе вящей.
Прекрасней не найти Свечи средь темной ночи.
Нет лучше ничего, чем свет, глядящий в очи.
Воспойте же сие во все концы вселенной
Рифмой нетленной.
Вот потому-то я со рвеньем и хотеньем
Хочу прославить свеч бессмертное свеченье.
Нет слов, чтоб оценить твой посох малый, —
Их не достало б.
Во славе светишь ты, знатна твоя работа,
Ее так ценят те, кому подмажут что-то.
О, как я вдохновлен свечной твоей стихией —
Вот и пишу стихи я.
Но нынче всех главней австрийское ружье,
Так пусть они тогда и воспоют Твое».
«Твое» может относиться к «славе» и «слову» Свечи. Свеча, похоже, имеет фрейдистский смысл, а также символизирует свет учения и поэзии. За одой следует две страницы набросков: головы, работник с граблями, солдат с ружьем, мужчина и женщина. Поль в то время был взволнован по поводу войны с Австрией; Наполеон 3 мая провозгласил свободную Италию.
Байль добавил к письму:
«Возвращайся, возвращайся быстрее, мой друг! Сезанн имеет наглость продолжать свои неразборчивые каракули. Он собирается провести здесь восемь дней. Он оставил это письмо на моем столе, и я пошлю его. Приезжай скорее! Есть грандиозные прожекты, ты даже не можешь предположить. Напиши нам про экзамены, твой отъезд, твой приезд,
Байль».
Имеются в виду экзамены на степень бакалавра. Золя выдержал письменные испытания, но провалился на устных (немецкий, история, литература). Он приехал в Экс, и, хотя и нуждался в отдыхе и во времени для подготовки к вторым экзаменам в Марселе, он сразу отправился на традиционные прогулки. Когда они ходили на охоту, младший Байль тащил оружие, а слабые глаза Золя заставляли его чаще, чем раньше, делать «отвратительные выстрелы».
Поль брал свои краски, а его друзья позировали ему в качестве «разбойников», к этой теме он тщетно обращался несколько раз. Золя, парижанин, был больше чем всегда главной фигурой и горячо декламировал «Rolla» или «Ночи» Мюссе.
«Братья, вы помните время, когда жизнь казалась нам песней? Мы дружили, мы мечтали о любви и славе… Мы, все трое, позволяли нашим губам свободно произносить все, о чем думали наши сердца, полные наивности, мы венчали друг друга лавровыми венками. Ты связывал свои мечты со мной, а я свои — с тобой. Затем мы наконец снизошли на землю. Я выбрал себе собственные правила жизни, посвятив ее полностью работе и борьбе, и сказал тебе о своем великом решении. Ощущая богатство внутри души, я находил удовольствие в идее бедности. Подобно мне, ты взбирался по чердачным лестницам в мансарды, ты мечтал лелеять себя высокими мыслями. Благодаря твоему незнанию настоящей жизни ты как будто поверил, что художник, в своих бессонных бдениях, зарабатывает свой дневной хлеб» («Исповедь Клода»).
Поль принял исповедание «борьбы и работы», он принял «идею бедности», и в своей жизни он воплотил ее тем, что жил бережливо и просто. Но он страшился и тогда, и позже самого факта бедности — то есть возможности остаться без регулярной ренты, которая обеспечит ему скудную, но налаженную систему.
Подход Золя был, однако, значительно более реалистичным, чем можно предположить, читая «Исповедь». В Париже он постарался прежде всего понять, что происходит в обществе и каковы позиции в литературном мире Гюго и Мюссе, возводившихся в Эксе в культ. Немногим позже (2 июня 1860 года) он пишет Байлю: «Наш век — это переходное время. Возникнув в отвратительном прошлом, мы двигаемся к неизвестному будущему… Что характерно для нашего времени, так это стремительность, это жадная активность — активность в науках, активность в торговле, в искусствах, везде. Железные дороги, электричество, телеграф, пароходы, аэростаты, рвущиеся ввысь. В политической области еще хуже: народы лезут вверх, империи объединяются. В религии все расстроено: потому как для нового мира, который вот-вот грядет, нужна новая, молодая и жизненная религия… Что тогда остается поэту? Будет ли он сочинителем романов в духе XVI века, то есть безжалостным бичевателем пороков своего времени, потягивающим молодое вино и насмешничающим над богом и чертом? Будет ли он трагиком XVII столетия, носящим парик и математически рассчитывающим свои александрины? Или будет философом XVIII столетия, отрицающим все во имя отрицания божественного права королей, сотрясающим старое общество, чтобы породить новые ростки в его толще? Нет. То, что было сделано в эти прошедшие времена, имело свой смысл, но мы были бы весьма потешны, возьмись мы поднимать мумии из их гробниц или когда б мы пустились декламировать изумленным толпам то, что они и не поймут. И если б даже захотели отменить день нашего рождения, то и тогда мы б не смогли сделать это».
В словах Золя проглядывает то поэтическое движение, которое в 1866 году будет названо Парнасским: попытка возвыситься и отделиться во имя искусства для искусства. И ни он, ни Поль не могли найти родства с таким движением. Романтизм был уже при его последнем издыхании — в романах Жорж Санд, в стихах и прозе Гюго; для молодых людей, которые были столь страстно расположены к романтическому вдохновению, возникла проблема, как совместить его с верностью сегодняшней ситуации. Для Поля, который тогда не видел еще работ Делакруа, вопрос о том, что нужно делать, был еще более темным, чем для Золя. Но оба до некоторой степени уже понимали, что проблема заключена в оригинальности, в сломе омертвевших традиций и методов.
В Марселе Золя провалился даже на письменном экзамене, он оставил все надежды на ученые успехи. Поль в письме 30 ноября им сообщал о себе новости получше: хотя его экзамен и откладывался, 28-го он все-таки сдал его. Далее он продолжал стихами и диалогом, в котором пародировал рассказ «Лодовико», написанный Маргри и напечатанный по частям в «Прованс» (Маргри состоял в штате этой газеты). Диалог был между Готом (Gaut), редактором еженедельника «Мемориаль д’Экс», и различными духами. Гот изъяснялся учеными словами, которые специально объясняются в словаре «Готического языка»: «Вербология, возвышенное искусство, заведенное Готом, заключается в создании новых слов из латинских и греческих. Гиноген — от греч. gyne (женщина) и лат. gignere (порождать). Гиноген, стало быть, — тот, кто порожден женщиной, иными словами, человек. Кармины (Carmina) от лат. carmina — зеленый (sic! Должно быть «песня». — Дж. Л.). Филоновости ль — от phylos (любитель), novus (новый) и style (любитель нового стиля)».
В письме от 29 декабря, в самом конце года, мы видим новый взрыв стихов, в которых продолжаются те же мечты и заботы Поля:
«Когда захочется, мой друг, писать стихи,
То можно это делать и без рифм.
Тогда в этом письме, если найдешь
Слова, которые пришиты косо к строчке,
Чтобы ее хоть как-то закруглить,
Не закрывай на то глаза — не из-за рифмы,
А из-за смысла
Кой-где они немного дребезжат.
Вот ты предупрежден, я начинаю:
Ныне декабрь, двадцать девятый день.
И мое мненье о себе стоит высоко:
Я говорю легко, все, что хочу.
Но уж не сразу песнь я заведу
(Назло мне рифма может слать беду).
Пришел вот Байль, наш общий старый друг.
Я рад сказать тебе по правде, я пишу
Без всяких затруднений. Впрочем, я,
Пожалуй, чересчур высокий слог
Избрал, и на вершины Пинда
должен лежать мой путь.
Я чувствую, что небо на меня
Имеет тайное какое-то влиянье.
Я расправляю поэтические крылья
И ввысь тогда стремительно взлетаю,
Хочу достать высокий свод небес.
Но чтоб тебя мой голос не потряс,
Я подслащу его слегка ликером.
Ужасная сказка
Произошло то ночью. Небеса,
Прошу заметить, были непроглядны,
И ни одна звезда не освещала
Бег облаков. Да, ночь была черна
И подходила этой мрачной сказке.
Незнаемая драма то была,
Ужасная, неслыханная драма.
В ней, разумеется, играет Сатана.
Невероятные дела, но я словами
Их истинность сумею доказать.
Итак, внемли. Полночный час. Все пары
В постелях трудятся успешно без свечи,
Но не без некоего жара. Было жарко —
Летняя ночь.
Через все небо вдоль с юга на север,
Свирепейшую бурю предвещая,
Как белый саван, плыли облака.
Сквозь толщу их, случалось, временами
Луна струила свет на мрачный путь,
Где я стоял, затерян, одиноко.
На землю капли крупного дождя
Падали часто. Постоянный вестник
Ужасных шквалов быстрый ветерок
Дул с севера на юг, крепчая яро.
Самум, который в Африке привык
В песчаных волнах хоронить селенья,
Пригнул внезапно дерзкую гряду
Деревьев, что тянули ветви к небу.
Рев бури вдруг раздался в тишине.
Стон ветра, повторяемый лесами,
Перевернул мне сердце. Молний свет
Полосовал своим сверканьем жутким
Покров, который протянула ночь.
И тут, помилуй бог, я вдруг увидел
Внутри шумящей, рощицы дерев,
Блистаньем мертвенным очерченные живо,
Предстали гномики и эльфы предо мной.
Хихикая, они в ветвях порхали,
И предводителем у них был Сатана.
Его горящий зрак светился красным.
И искры из него летели в ночь.
Тут бесы закружились в хороводе,
Я пал на землю, весь оледенев,
Лишь трепеща, когда меня касались
Враждебно руки их. Я был в поту.
Я встать и убежать хотел, но тщетно.
А дьявольская банда Сатаны
Приблизилась, танцуя зверский танец —
Жуткие эльфы, пакостный вампир —
Кривляясь, кувыркаясь, налегая.
Глаза, грозя, косили к небесам
И состязались в мерзостных гримасах,
Вскричал я: «Поглоти меня, земля,
Жилище мертвых, приюти живого!»
Но все теснее адские войска.
Вот демоны уж обнажили зубы,
Готовясь к жуткой трапезе. Они
Метали кровожаднейшие взоры.
Нет мне надежды. И тогда, о чудо,
Вдруг издаля донесся звон копыт.
Сначала еле слышно, но все громче —
И ближе, ближе их лихой галоп.
Крича на лошадей, стоял возница
В квадриге, вырвавшейся из лесов.
Весь сброд чертей, оглохнувши от шума,
Рассеялся, как тучи от зефира.
А я воспряв, но боле мертв, чем жив,
Воззвал к возничему, и тут же колесница
На месте замерла, и из нее
Донесся мягкий, звучный женский голос.
«Вставай, восстань», — она сказала мне.
Раскрылась дверца, и я оказался
Пред женщиной. Клянусь душой, такую
Красавицу досель я не встречал.
Власы, что золото, глаза огнем горели,
И взгляд единый сердце мне сразил.
Я пал к ее ногам, прелестным ножкам;
Весь трепеща, пылавшими губами
Я поцелуй на них запечатлел.
И в тот же миг меня смертельный холод
Объял. Та дева с ликом как цветок
Исчезла, в одночасье превратившись
В смердящий труп с торчащими костями.
Они стучали гулко друг об друга,
Глазницы черепа уставились в меня,
И крепко сжал мертвец меня в объятьях.
О жуткий ужас! Дроги накренились,
Грозя упасть, а я едва живой
Стремглав бежал, не ведаю куда,
Где, я уверен, я сломаю шею».
Снова мы видим людоедский пир, и теперь Поль сам становится жертвой. Танцующие эльфы, проглядывающие в сигарном дыму, игривая нимфа, подстерегающая в лесу, — все они стали персонажами ночного кошмара, и даже мягкая, податливая женщина, которая была освободительницей от грез, обернулась одной из фавориток смерти. Объятия, завлекающие любовника в ловушку, ведут его к потерям и разрушению. Стихотворение, таким образом, принадлежит к той же группе, что и «Катилина» и «Ганнибал», и свидетельствует о постоянстве всех беспокоящих мотивов у Сезанна. Фантазии о странных обитателях леса, о девушках или волшебных оркестрах не покидали троицу друзей. В письме Байлю от 25 июля 1860 года Золя приводит «четверостишие из письма к Сезанну», которое мы даем в прозаическом пересказе:
«Иди, мой стих, хорош ты или плох, не важно,
Если двери мира идей отверз ты широко,
Если твои жгучие звоны подчас напомнят мне
Таинственную тишину лесных сильфид».
Но то, что у Золя было бледной схемой мечты, становится настоящим ночным кошмаром у Сезанна.
Тридцатого декабря, в то самое время, когда Поль сочинял свою поэму, Золя написал ему письмо, которое помогает нам понять те страхи и беспокойства. «Если ты перевел вторую эклогу Вергилия, то почему ты не пришлешь ее? Слава Богу, я не юная девица и не буду ею скандализован». Эклога повествует о любовной страсти пастуха Коридона к молодому Алексису и изображает лес как любимое обиталище «троянца Париса и святых богов», где львица в любовном томлении преследует волка, волк устремлен за козой, коза — за цветами люцерны. Все это весьма отличается от того, что было в ночном кошмаре Поля. Почему Поль взялся переводить эту эклогу? И сыграла ли она какую-нибудь роль в порождении его кошмара? Возможно, привлекательность Вергилия заключалась в нарисованной им пасторальной сцене цветущей земли и ее прелестей. Поль мог ощутить какую-то связь этой картины с летними шатаниями их троицы. Мы можем также проследить весь комплекс эмоций вокруг infantus amor. Золя доносит в своем письме, как мучился Поль, необходимостью стоять перед отцом: «Что же такое мне сказать, чтобы весомо закончить это письмо? Придать ли тебе смелость советом напасть на крепость? Или поговорить о живописи и рисовании? К черту крепость и к черту живопись. Одну надобно испытать пушками, другая сокрушена отцовским вето. Когда ты бросался на стену, робость вскричала: «Вперед!» Когда ты берешься за кисть, «Дитя, дитя, — говорит отец, — подумай о будущем! С талантом умирают, с деньгами едят». Увы, мой бедный Сезанн, жизнь это мяч, который не всегда катится туда, куда его посылает рука».
В 1859 году Луи-Огюст купил за 80 тысяч франков дворец времен Людовика XIV Жа де Буффан, бывшую резиденцию губернатора Прованса. Здание это успело сильно обветшать. Оно находилось в полумиле к западу от Экса, посреди полей, в окружении ферм и небольших усадеб. Его ценность для банкира заключалась в выгодных акрах виноградника. Провансальское название дома означало «Обиталище ветров». Даже летом, когда город был придавлен жарой, ветерок охлаждал Жа. Сад и виноградник занимали около 15 гектаров (37 акров). Луи-Огюст был не из тех, кто стал бы тратить большие деньги на восстановление сада, который почти весь уже одичал. Владение окружали низкие стены. В доме большой зал на первом этаже и несколько комнат этажом выше были сначала оставлены закрытыми. Семья по-прежнему занимала дом номер 14 по улице Матерой в городе и выезжала в Жа де Буффан летом по воскресеньям.
Купаться можно было в довольно большом бассейне с каменными дельфинами и липами вокруг.Сзади была посажена редкая аллея любимых Полем ореховых деревьев.
Большой, квадратный в плане дом некогда был покрыт желтой штукатуркой, теперь он был облицован рыжевато-серым цементом, над пологой крышей выделялись красные трубы. Подъездная аллея с севера вела к главному входу; к южной стене примыкала широкая терраса. Через весь первый этаж тянулся холл, лестница у передней двери вела наверх. В западной части дома располагался большой салон с одной из стенок в виде полуокружности. Из холла можно было попасть в столовую и кухню. На следующем этаже располагались спальни, все, кроме принадлежавшей Полю, которая была еще выше. Какое-то время, вероятно, после первой поездки в Париж, у Поля была еще комната, на том же этаже, что и спальня, оборудованная как мастерская. Большое окно с северной стороны разрывало карниз и нарушало линию крыши.
Переезд в большой дом со старинными окнами и высокими потолками должен был удовлетворить тщеславие Луи-Огюста — как знак того, что он сумел превзойти снобов с их длинной родословной. Странно, но мы не найдем упоминание об этом доме в письмах Поля Эмилю. Возможно, он не хотел выставлять процветание семьи перед лицом пораженных бедностью Золя, может быть, он сначала нерасположен был считать Обиталище ветров своим домом, так как такой особняк словно привязывал бы его еще теснее к респектабельному миру его отца. Однако он постепенно полюбил и дом, и его сад. В последующие сорок лет это было единственном постоянным местом для его не знавшего отдыха бытия. Хотя он раздражался всем, что, как ему казалось, тянуло его книзу, — всяческим семейным или общественным распорядком, он любил старый дом. Обычно, пока он мог работать, он не обращал внимания на то, где он был.
В это время — в 1859–1860 годы — его борьба с отцом достигла наивысшей точки. Мы можем догадываться, как острый, насмешливый язык Луи-Огюста часто заставлял Поля мучиться от стыда и впадать в отчаяние. Хотя он должен был получать утешение со стороны матери, она все же слишком зависела от мужа во всех отношениях, чтобы обеспечить сыну значительную поддержку в его молчаливом упрямстве. Поль разрывался между амбициозной уверенностью в себе и саморазрушительной безнадежностью. Что он мог сделать, чтобы доказать, что у него есть какое-то будущее как художника? Ничего. И все же он не хотел выбирать никакой другой жизненный путь.
Часть вторая
Париж и искусство: 1860-е годы
Глава 1
Золя в Париже
(1860)
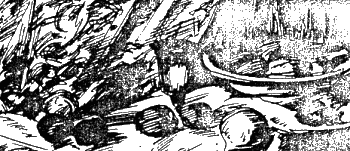
Письма Поля к Золя, писанные в 1860–1861 годах, не сохранились, но мы можем обратиться к письмам Золя, адресованным к нему и к Байлю. После неудачи в Марселе Золя не вернулся в лицей. Как вскоре он писал Полю: «Я не завершил свое образование, я даже не могу хорошо говорить по-французски, я совершеннейший ignoramus (невежда. — Латин.). То образование, что я получил в школе, бесполезно — чуть-чуть теории и никакого практического опыта. Что же мне делать?» Несколько месяцев он писал стихи, сидя в жалком номере в меблирашках; квартира его матери была слишком мала, чтобы он поместился там. В декабре 1859 года он писал Байлю: «Сообщить я могу весьма немногое. Я редко выхожу, живу в Париже, как в деревне. В моей задней комнатушке ужасно слышен уличный шум, и, если б в отдалении не маячил шпиль Валь-де-Грас, я б легко уверил себя, что нахожусь в Эксе». Успех Маргри, напечатавшего свой роман, заставил его послать в «Прованс» собственное сочинение, «La Fee Amoureusse». Он писал Байлю: «Вот моя позиция: зарабатывать на жизнь все равно как, и если при этом я не хочу расстаться с мечтами, работать для будущего по ночам. Борьба будет долгой, но она не пугает меня. Я чувствую, во мне есть нечто скрытое, и, если, конечно, это на самом деле существует, это рано или поздно выйдет на свет божий. Итак, никаких замков в Испании, здравая осторожность, сначала обеспечить себя пропитанием, а потом уже поискать, что же такое во мне есть, ну а если я ошибаюсь, буду жить с моей неведомой работы и, как многие другие, пройду по этому жалкому миру в мечтах и слезах».
Но временами он терял самообладание и считал свою работу «мерзкой и отвратительной»: «Я полностью опрокинут, не могу написать ни слова, не могу даже гулять. Я думаю о будущем, и оно представляется столь беспросветно черным, что я содрогаюсь от ужаса. Ни денег, ни работы, ничего нет, кроме уныния. Никого, чтобы опереться, ни жены, ни друга, безразличие и презрение вокруг. Вот что я вижу, когда воз дыму очи к горизонту».
Поль с его опасениями оказаться в том же положении, что Золя, должен был пристально следить за всеми перипетиями борьбы его друга с неослабевающим интересом. Положение Золя одновременно и устрашило его, и усилило собственное решение штурмовать искусство. В начале 1860 года Лабо подыскал Эмилю работу служащего на посылках за 60 франков в месяц. Он начал работать в апреле, окруженный пыльными бумагами и клерками, «которые в большинстве своем были дураками».
Естественно, что от Золя, оказавшегося в распутном Париже, ожидали немедленного погружения в любовные приключения. 5 января 1860 года он писал: «Ты просишь меня рассказать о моей девушке — мои возлюбленные, увы, только мечты». Там же пространно обсуждалось, следует ли предаваться воздержанию или нет, и под воздействием Мишле троица исповедовала веру в чистую любовь, которую не должны пачкать непристойные разговоры. «Любовь в духе Мишле, чистая благородная любовь, — писал Золя Байлю, — может существовать, но она, поверь, случается так редко». Такого рода разговоры продолжались в течение какого-то времени. Девушка из Экса, которой они исполняли серенады, похоже, была связана в воображении Золя с идеальной любовью. Юноши называли ее Аэриной. Золя упоминал о ней в письмах к Байлю.
3 декабря 1859 года он утверждал, что не чувствует, что ему недостает ее, но вскоре он просил Байля «передать ей привет, если вдруг встретишь». Следующим летом Золя встретил в Ботаническом саду девицу, напомнившую ему Аэрину, это настроило его на воспоминания. Он ругал себя за нерешительность, нужно написать ей, внушал он себе, предложить ей дружбу. Байль отвечал, что у нее есть возлюбленный. Золя был поражен. «Не С. я любил и все еще люблю. То была Аэрина, идеальное существо, которую я не столько встречал, сколько вымечтал». (Он написал раннюю, утерянную вещь «Les Grisettes de Provance».) Смутные романы на расстоянии повторились и в Париже. Из окна своей комнаты на улице Сен-Виктор он обменивался улыбками с цветочницей, ходившей мимо по утрам и вечерам. «Намного менее утомительно любить таким образом. Я поджидаю ее — деву, которой поклоняюсь, попыхивая трубкой. Какие приятные мечты я тогда питаю! Не зная ее, я могу наделить ее всеми возможными свойствами, воображать бесконечные безумные приключения, видеть ее и слышать ее сквозь призму моего воображения». Глубокая боязнь грязной действительности лежит в основе этих чувств. «Я отвожу глаза с навозной кучи и обращаю их к розам… потому как я предпочитаю розы, полезны они или нет». Но мечты о союзе имели своей обратной стороной сокрушающее чувство одиночества, напоминающее город-пустыню Бодлера. «В толпах вокруг я не вижу ни единой души, только прах, и моя душа сдавлена безнадежностью в ее томительном одиночестве, которое все нарастает и нарастает… Человек одинок, одинок на этой земле… каждый день показывает мне выжженную пустыню, в которой каждый из нас живет».
Золя, подобно Полю, был под большим впечатлением от «Любви» и «Женщины» Мишле с их обличениями в адрес неупорядоченных связей, он также, под влиянием этих книг, разделял псевдонаучное убеждение о якобы неизгладимом эффекте, который оказывает на женщину ее первый мужчина.
В начале марта 1860 года Золя написал длинное письмо Полю, подтолкнувшее его к разрыву с Эксом. Он делился своим умудренным знанием Парижа и постарался усмирить страхи и опасения, снедавшие его друга. Луи-Огюст ослабил свое сопротивление; наверно, очевидный несчастный вид Поля придал его матери храбрости встать на его защиту. Возможно также, что Луи-Огюст, хотя и опасался того, что его сын падет жертвой испорченного Парижа, все же надеялся, что трудности самостоятельной жизни вскоре заставят его вернуться обратно. Со своим умением глубоко проницать характеры, он должен был быть невысокого мнения о способностях Поля в какой бы то ни было области.
«Дорогой Поль! Не знаю почему, но у меня дурные предчувствия по поводу твоего приезда, я хочу сказать — по поводу более или менее близкого срока твоего приезда. Быть рядом с тобой, вместе одеваться по утрам, как в былые времена, с трубкой в зубах и со стаканом в руке, — все это кажется мне столь чудесным, столь невероятным, что бывают минуты, когда я спрашиваю себя, не сон ли это и правда ли, что моя мечта может сбыться. Наши надежды так часто бывают обмануты, что хоть одна из них близка к осуществлению, мы удивляемся и никак не можем этому поверить. Не знаю, с какой стороны налетит ураган, но чувствую, что над моей головой собираются тучи. Ты два года сражался, чтобы дойти до той точки, на которой находишься сейчас, и мне кажется, что после стольких усилий победа не дастся тебе в руки без нескольких новых сражений. Взять хотя бы достойного мсье Жибера, который выпытывает у тебя твои планы и советует остаться в Эксе. Ну конечно, учитель огорчен, видя, что от него ускользает ученик. С другой стороны, твой отец собирается поговорить с вышеназванным Жибером, посоветоваться с ним, и это обстоятельство неизбежно приведет к отсрочке твоей поездки до августа. Я падаю духом, я весь дрожу при мысли, что могу получить письмо, в котором ты, с тысячей возгласов сожаления, сообщишь об изменении даты приезда. Я уже привык считать, что конец марта будет и концом моей скуки, и мне было бы очень тяжело оказаться в эти дни одному — весь запас моего терпения к тому времени иссякнет. Впрочем, давай следовать золотому правилу: будь что будет. И посмотрим, что нам принесет течение событий, удачу или неудачу. Если опасно питать чересчур большие надежды, то уж совсем глупо заранее во всем отчаиваться; в первом случае рискуешь разочароваться и только во втором — впадаешь в беспричинную тоску.
Ты задал мне странный вопрос. Разумеется, здесь, как и всюду, вполне можно работать — была бы охота. Париж, кроме того, предоставляет тебе такое преимущество, какого не найти ни в одном другом городе, — это музеи, где можно учиться на картинах великих мастеров с одиннадцати до четырех часов дня. Вот как ты сможешь распределить свое время. С шести до одиннадцати будешь сидеть в мастерской и писать с живой натуры; потом завтрак, а потом с двенадцати до четырех будешь копировать любой приглянувшийся тебе шедевр в Лувре или Люксембурге. Получается девять часов работы; думаю, что этого довольно и что при таком распорядке дня ты не замедлишь сделать успехи. Как видишь, весь вечер у нас останется свободным, и мы сможем употребить его на что угодно, безо всякого ущерба для занятий. А по воскресеньям мы полностью принадлежим себе и отправляемся за несколько лье от Парижа; пригороды здесь очаровательны, и, если тебе захочется, ты набросаешь на холсте деревья, под которыми мы будем завтракать. Каждый день я строю чудесные планы и надеюсь их осуществить, когда ты будешь здесь: я мечтаю о поэтическом труде, который так полюбился нам с тобой. Да, я ленив, когда речь идет о труде бессмысленном, о работе, которая утомляет тело и притупляет ум. Но искусство, заполняющее душу, приводит меня в восторг, и очень часто, небрежно развалясь на диване, я как раз и работаю усерднее всего. Есть множество людей, которые не понимают таких вещей, но пусть уж кто-нибудь другой возьмется разъяснить им это. Мы уже не мальчики, мы должны думать о будущем. Работа, работа — вот единственный путь к успеху.
Что до презренного металла, то несомненно одно: при 125 франках в месяц не очень-то разгуляешься. Сейчас я подсчитаю тебе твои расходы. Комната — 20 франков в месяц; завтрак — 18 су и обед — 22 су, стало быть, 2 франка в день, то есть 60 франков в месяц; прибавим сюда 20 франков за комнату, получится 80 франков в месяц. Кроме того, тебе придется платить за мастерскую; в мастерской Сюиса — это одна из самых дешевых — берут, кажется, 10 франков; затем я считаю 10 франков за холст, кисти, краски — вот уже 100 франков. Остается 25 франков на стирку, освещение, на тысячу непредвиденных мелких нужд, на табак, на разные скромные развлечения. Как видишь, денег тебе хватит только на самое необходимое, и, уверяю тебя, я ничего не преувеличиваю, скорее, даже приуменьшаю. Впрочем, это послужит тебе хорошей школой, ты узнаешь цену деньгам и увидишь, что умный человек всегда может выпутаться из затруднительного положения. Чтобы не слишком тебя запугать, повторяю — все необходимое у тебя будет. Советую показать отцу вышеприведенный расчет, быть может, унылая реальность этих цифр заставит его малость раскошелиться. Кроме того, ты сможешь здесь немного подработать. Этюды, написанные в мастерской, а главное, копии, сделанные в Лувре, нетрудно будет продать; даже если ты будешь делать по одной копии в месяц, это заметно увеличит сумму, предназначенную на развлечения. Все дело в том, чтобы найти продавца, и надо только хорошенько поискать. Приезжай смело — хлеб и вино обеспечены, значит, можно спокойно отдаться искусству.
Да, все это проза, скучные подробности быта, но так как они касаются тебя и к тому же полезны, то, я надеюсь, ты меня простишь. Это окаянное тело иной раз очень мешает: вечно таскаешь его с собой и вечно ему что-нибудь нужно. То ему надо есть, то ему холодно, то еще что-нибудь, а душе, которой хочется говорить, вечно приходится молчать и прятаться, чтобы только угодить этому тирану. К счастью, удовлетворяя свои потребности, мы не так уж этим недовольны.
Ответь мне хотя бы около 15-го, чтобы меня успокоить, и сообщи о новых неожиданных казусах, которые могут возникнуть и, уж во всяком случае, напиши накануне отъезда, сообщи день и час прибытия. Я встречу тебя на вокзале и немедленно повезу в кафе, где ты позавтракаешь в обществе твоего ученейшего друга. Как-нибудь напишу еще. Недавно получил письмо от Байля. Если увидишь его до отъезда, возьми с него слово, что он приедет к нам в сентябре. Жму руку. Кланяйся родителям. Твой друг Эмиль Золя».
Мы видим, как хорошо ему известен нерешительный характер Поля и как тактично Золя пытается поколебать основы его страхов. Как и предполагалось, возникли осложнения. 17 марта Золя писал Байлю: «Недавно я получил письмо от Сезанна, в котором он сообщил, что его младшая сестра больна и что он рассчитывает приехать в Париж до начала следующего месяца». Жибер на самом деле возражал против поездки, и Поль как будто согласился не давить больше на отца, пока не закончит свое юридическое образование. 25 марта Золя написал еще одно длинное письмо, которое показывает, сколь незрелыми были идеалы искусства обоих юношей. Письмо это часто цитировалось с целью демонстрации воззрений Золя, но Золя, который близко знал Поля, был вполне уверен в том, что, обращаясь к другу, найдет в нем адекватный отклик. Как мы увидим, письмо самого Поля к Юо от июня 1860 года доказывает, что и он в это время полностью разделял веру в академические ценности.
(Письмо Золя от 25 марта 1860. — Дж. Л.):
«Дорогой друг, в своих письмах мы часто говорим о поэзии, но слова «скульптура» и «живопись» попадаются в них редко, чтобы не сказать никогда. Это важное упущение, почти преступление; я постараюсь сегодня восполнить этот пробел…
Не знаю, знакомо ли тебе имя Ари Шеффера, этого гениального художника, умершего в прошлом году. В Париже не знать его — преступление, для провинции это только неосведомленность. Шеффер был страстным поклонником идеала, все его образы чисты, воздушны, почти прозрачны. Он был поэтом в полном смысле этого слова — почти не изображал реальности и брался за самые возвышенные, самые волнующие сюжеты. Найдется ли что-нибудь поэтичнее странной, душераздирающей поэзии «Франчески да Римини»? Ты помнишь этот эпизод «Божественной комедии»: в аду страшный вихрь уносит и кружит во мраке Франческу и ее любовника Паоло, сплетенных в вечном объятии. Какой великолепный сюжет! Но какой трудный. Как передать это последнее объятие, эти две души, соединенные навеки даже в аду? Как передать выражение их лиц, с которых страдание не может стереть любовь? Постарайся найти эту гравюру, и ты увидишь, что художник поборол все трудности. Я отказываюсь описывать эту картину, я только испорчу бумагу и все равно не смогу дать тебе даже неясное представление о ней».
Шеффер был слабым и сентиментальным романтиком, в чьих худосочных идеях Золя или Поль могли в то время искать соответствия своим возбужденным чувствам. Но в своем превозношении Шеффера Золя был не одинок. Поучительно прочесть, как Гонкуры в «Манетте Саломон» определили место этого художника как лидера поэтов-живописцев в послеромантический период: «Он живописует души, белые и светящиеся души, сотворенные стихами. Он создает ангелов человеческого воображения. Жемчужины из разных шедевров, влияние Гете, проповеди св. Августина, Песнь песней с ее смятением души, страсти Сикстинской капеллы — все это он стремился перенести на свои холсты и материализовать при помощи рисунка и красок».
Золя продолжает лекцию, переходя к «реалистам», предполагая, что Поль будет согласен с ним. «Реализм» был тогда новым словом в словаре критиков, оно появилось, чтобы охарактеризовать достижения Курбе. Употреблять его начал Дюранти в 1857 году в обзоре «Реализм». Реалистическая школа, считалось, изображала «вещи, характерные в жизни в наибольшей степени». Она была призвана рисовать самых обычных людей и заурядные дела, противостоять романтическому воодушевлению и подчеркивать обычную правду, показанную с тщательной точностью. Золя, который вскоре стал употреблять термин «натурализм», желая превзойти реализм, подхватил злободневные толки без глубокого проникновения в то, о чем шла речь.
«Шеффер-спиритуалист навел меня на мысль о реалистах. Я никогда не мог понять этих господ. Возьмем, например, самый реалистичный сюжет на свете — двор фермы. Куча навоза, утки плещутся в ручье, направо фиговое дерево — вот картина, как будто лишенная всякой поэзии. Но если ее озарит луч солнца, заставит засверкать золотом солому, заблестеть воду в лужах, если солнечный луч пробьется сквозь листву дерева и рассыплется снопами света, если еще в глубине картины появится проворная девчушка, одна из крестьянок Греза, и начнет сыпать зерно птичьему семейству, тогда и эта картина станет самой поэтичной. Перед ней остановишься очарованный, вспоминая ферму, где в жаркий летний день напился такого чудесного молока.
Что значит ваше название — реалист? Вы хвалитесь, что пишете только сюжеты, лишенные поэзии! Но в каждой вещи есть своя поэзия, и в навозе, и в цветке. Или вы утверждаете, что рабски копируете природу? И раз вы не признаете поэзию, значит, в природе ее нет? Но вы оболгали природу. Я для тебя все это говорю, мсье мой друг, будущий великий художник, чтобы ты понял, что искусство едино, спиритуалист и реалист это только слова, что поэзия — великая вещь и что вне поэзии нет спасения».
Хотя Золя ослабил свою позицию обращениями к Шефферу и Грезу, а также упоминанием личных ассоциаций, навеянных картиной, в том, что он говорит, есть большая правда. Эта правда осталась сердцевиной работы его и Поля на протяжении жизни: искусство обладает проникающей и трансформирующей силой, которую можно назвать поэзией.
«Недавно я видел сон: я написал прекрасную книгу, великолепную книгу, а ты сделал к ней прекрасные, великолепные иллюстрации. Наши два имени золотыми буквами блистают на первом листе и в этом братстве талантов остаются соединенными для потомства. К сожалению, это был только сон.
Мораль и вывод этих страниц: ты должен успокоить своего отца, усердно изучая право. Но ты должен также работать над рисунком неустанно и упорно unguibus et rostro (когтями и клювом. — Латин.), чтобы стать Жаном Гужоном, Ари Шеффером, наконец, чтобы суметь иллюстрировать некую книгу, которая бродит у меня в уме».
Их имена дошли нераздельными для потомства, но не в той форме текста и иллюстрации, о которой оба они мечтали в юные годы.
В письме от 16 апреля Золя не удержался от искушения преподать Полю еще порцию советов. Из его письма мы узнаем, что Поль по-прежнему вкладывал в свои письма стихотворения.
«Ты совершенно прав в том, что не сетуешь чрезмерно на судьбу. В конце концов, как ты говоришь, с двумя Любовями в сердце, к женщине и к красоте, было бы неверным отчаиваться. Ты послал мне несколько стихов, выражающих возвышенную печаль… Ты говоришь, что иногда у тебя не хватает храбрости писать мне. Не будь себялюбцем. Твои робости, так же как и твои печали, принадлежат мне. Другая фраза твоего письма также огорчила меня: «Живопись, которую я люблю, но которая мне не дается». Тебе! И не дается! Мне кажется, ты ошибаешься. Я тебе уже говорил: в художнике два человека: поэт и ремесленник. Поэтом рождаешься, мастером становишься. А ты обладаешь тем, что нельзя приобрести, у тебя есть талант. Чтобы добиться успеха, тебе надо только упражнять свои руки и стать мастером».
Мы мало знаем о ранних работах Поля; но ясно, что он считал очень трудным найти свой личный стиль или перенести на холст хотя бы частицу своих чувств и занимавших его идей. Его первые полотна независимо от качества исполнения были выполнены, можно полагать, в анемичной и сентиментальной академической манере и представляли собой по большей части копии с картин из местного музея или с гравюр из журналов. Этот стиль достиг вершины в росписях на тему времен года, выполненных для Жа де Буффан и иронически подписанных «Энгр» — не ради унижения этого художника, а дабы посмеяться над собой. Из других примеров можно назвать копию «Поцелуя музы», которую его мать повесила у себя на стену, и «Девочку с попугаем», которую он также написал для матери.
«Я не закончу с этим предметом, если не добавлю пару слов, — продолжает Золя. — Недавно я предостерегал тебя против реализма, сегодня я хочу указать тебе на другую опасность — коммерциализм. Реалисты в конце концов творят искусство — на свой особый лад — они работают осознанно. Но коммерческие художники, те, кто по утрам трудятся ради вечернего хлеба, они пресмыкаются во прахе. Я бы не стал тебе говорить это без причины. Ты собираешься работать с… (Вильвьеем? — Дж. Л.), ты копируешь его картины, возможно, ты восхищаешься им. Я беспокоюсь о твоей безопасности, если ты встал на этот путь, и больше всего потому, что он, кого ты пытаешься имитировать, обладает некоторыми хорошими чертами, которые он беззастенчиво эксплуатирует и которые заставляют его картины выглядеть лучше, чем они есть в действительности. Он работает свежо, с приятностью, его кисть хороша, но все это лишь уловки для продажи, и ты ошибаешься, если останешься на такой позиции.
Искусство более возвышенно, чем все это. Искусство не ограничено складками драпировок, розовыми пятнами на щечках девственниц. Посмотрим у Рембрандта — благодаря единому лучу все его фигуры, даже самые уродливые, становятся поэтичными. Итак, я повторяю, есть неплохой наставник, чтобы научить тебя торговать, но я сомневаюсь в том, чтобы ты научился чему-либо иному из его картин. Будучи богатым, ты, несомненно, выбрал бы искусство, а не предпринимательство… Поэтому берегись преувеличенного поклонения перед твоим земляком. Перенеси твои мечты, твои милые золотые мечты на свои полотна и попытайся выразить идеальную любовь, которую ты носишь в себе. Прежде всего, и в этом-то и загвоздка, не восхищайся картинами потому, что они быстро написаны. Одним словом, в заключение, не восхищайся и не подражай коммерческому художнику».
Замечание Золя о быстрой живописи выглядит довольно забавно, так как позже Сезанн будет работать чрезвычайно медленно за мольбертом. Однако в то время Поль мог уже попробовать работать в той области, которая всегда его глубоко привлекала, а купальщиц или похищения он изображал быстро. В таких работах он использовал свободный и вдохновенный метод — типа того, что можно видеть в его фантастических работах 1860-х годов, но в более грубом, иногда даже в яростно стремительном стиле. Можно вспомнить, что он писал Золя, выступая против переделок в картине.
Какое-то письмо или письма Золя к Сезанну осталось без ответа. 26 апреля, «в семь часов утра», Золя писал снова. «Меня пугает любое легкое облачко между нами». Он просит Поля уверить его в том, что тот не сердится на замечания, с которыми он, быть может, не согласен. «Выбери из моих слов только такие, которые ты считаешь хорошими, и выброси остальные даже без объяснений почему и отчего».
Он знает, как легко обескуражить или восстановить Сезанна против при малейшей попытке давления, и сожалеет о том, что его занесло желание продемонстрировать свою новоприобретенную умудренность (или то, что он почитал таковой). Он умоляет признать его собственное невежество в области искусства, говоря, что он всего лишь «способен отличить черное от белого», и, таким образом, не может «судить мазок». «Я ограничиваюсь тем, что говорю, нравится мне или нет сюжет, вызывает ли у меня картина в целом мечты о чем-то хорошем, возвышенном, ощущается ли в композиции любовь к прекрасному. Одним словом, не касаясь вопросов ремесла, я говорю только об искусстве, о мысли, лежащей в основе создания художника. И, мне кажется, я поступаю правильно: ничто так не противно мне, как восторженные восклицания так называемых ценителей, которые, нахватавшись в мастерских художников разных технических терминов, с апломбом выпаливают ими, точно попугаи. Другое дело ты; зная по опыту, как трудно с помощью красок воплотит^ на холсте свою идею, ты, конечно, много внимания уделяешь именно технике, ты любуешься тем или иным мазком кисти, тем или иным удавшимся оттенком и т. д. и т. д. Это естественно; фантазия, искры — все это есть в тебе самом, и ты ищешь форму, ко-торой у тебя нет и которой ты искренне восхищаешься всюду, где бы ты ее ни нашел. Но будь осторожен: форма — это еще не все, и независимо ни от чего идея должна быть для тебя выше формы. Сейчас я поясню свою мысль: картина должна быть для тебя не только совокупностью растертых красок, наложенных на холст; ты не должен все время доискиваться, в результате какого именно технического приема был получен данный эффект, нет, ты должен увидеть творение в целом и задать себе вопрос, получилось ли оно таким, каким ему надлежало быть, является ли данный художник истинным творцом. Ведь в глазах толпы почти нет разницы между мазней и шедевром. И там, и здесь есть белое, красное, мазки кисти, холст, рама. Различие лишь в том неуловимом, том безымянном, что может обнаружить только человеком со вкусом. Вот это неуловимое «нечто», это особое отношение художника к миру, ты и должен искать прежде всего. А потом можешь пытаться рассмотреть его манеру, можешь заняться ремеслом».
Далее он продолжает о важности формы, отрицать это, рассуждает он, было бы глупо.
«Без формы можно быть великим художником только для себя, но не для других. Ведь именно форма утверждает идею, и чем возвышеннее идея, тем возвышеннее должна быть и форма. Ведь только благодаря форме художника понимает и оценивает зритель, и эта оценка бывает благоприятной лишь в том случае, когда форма совершенна. <… > Техника ремесла — это все и ничего; необходимо ею овладеть, но никак нельзя забывать, что отношение художника к миру не менее существенно. Словом, это два элемента, которые недействительны врозь, а вместе составляют некое грандиозное целое».
Если не иметь в виду утверждение о форме, которая является всего лишь средством, внешним по отношению к идее или образу, и которая используется для того, чтобы «предъявить» их, эти замечания не так глупы и расплывчаты, как их часто считают. В самом деле, в конце Золя подходит к признанию формы и идеи нераздельными противоположностями, которые в соединении творят единство произведения искусства. Но в основном, конечно, он говорит для себя и о своих собственных проблемах. Поль в Эксе не испытывал искушения стать реалистом или коммерческим художником. Он сражался в одиночку, все еще вслепую и никак не мог найти способ достижения какого-нибудь удовлетворительного результата.
Золя, перед тем как отправить письмо с советами, получил письмо от Поля, который был в тот момент настроен оптимистично. Постскриптум Золя гласит: «Я только что получил твое письмо. Оно вселило в меня сладостную надежду. Твой отец смягчается. Будь тверд, но не допускай неуважительности. Помни, что сейчас напряженный момент для твоего будущего и все твое счастье зависит от этого». Но вскоре Поль вновь впадает в уныние. Во время пасхальных каникул Байль был в Эксе и заглянул в Жа. Поль в настроении тяжкой подавленности плохо поговорил с ним, и Байль убрался обескураженным. Он писал Золя: «Когда вы видите, что я не могу выражаться в искусстве поэзии или живописи, уж не думаете ли вы, что я недостоин вас?» Добросердечный Золя отвечал: «Когда ты видишь нас, студента-художника или писаку, не умеющих утвердить себе положение в жизни, не думаешь ли ты, что мы не стоим тебя, мы, бедная богема?» Он прилагал усилия, чтобы снова свести вместе Поля и Байля. 2 мая он писал: «Сезанн говорил мне о тебе, он признает свою вину и заверяет меня, что он постарается исправить свой характер. Так как это он заварил все дело, я думаю дать знать ему мое мнение о том, как ему следует себя повести. Я пока не начинал этого, но думаю, что бесполезно дожидаться августа, не пытаясь примирить вас».
Но в своем дружеском расположении Золя боялся показаться навязчивым и не смог говорить совершенно открыто. Он подошел к проблеме примирения более осторожно. «В твоих последних письмах ты пишешь мне о Байле. Я давно уже хочу поговорить с тобой об этом славном парне. Он не совсем такой, как мы, голова у него не jrajc^устроена, как у нас, у него много качеств, которых у нас нет, но и много недостатков… Поверь, мы не знаем, что жизнь готовит нам. Мы в самом начале, все трое, полные надежд, все трое равны своею молодостью и своими мечтами. Возьмемся за руки, обнимемся не на время, пусть это будет таким объятием, которое предотвратит нас от падения в один злосчастный день или утешит нас, если мы все же упадем. «О чем это он бормочет?» — спросишь ты. Мой милый, мне показалось, что связь между тобой и Байлем слабеет, что одно звено нашей цепочки может порваться. И вот, опасаясь этого, я прошу тебя вспомнить наши веселые прогулки, клятву, которую мы дали, подняв стаканы, — идти всю жизнь рука об руку, одним путем. Вспомни, что Байль мой друг, что он твой друг и что если он и не во всем сходен с нами, то тем не менее он нам предан, наконец, что он меня понимает, что он тебя понимает, что он достоин нашего доверия и твоей дружбы. Если ты можешь его в чем-то упрекнуть, скажи мне, я постараюсь его оправдать перед тобой; или лучше скажи ему самому, что тебе в нем не нравится, — ничто так не опасно, как недомолвки между друзьями».
Далее Золя переходит к своим взаимоотношениям с Полем и тактично пытается подбодрить друга. «Когда я закончу учиться праву, — говоришь ты, — я буду свободен делать то, что сочту правильным, возможно, тогда я смогу присоединиться к тебе». Я уповаю на Бога, что это не одномоментная радость, а что твой отец начал раскрывать глаза на твои истинные интересы. Наверно, в его глазах я пустоголовый парень, даже дурной дружок, подзуживающий тебя в твоих мечтаниях, в твоей любви к идеалам. Должно быть, если он читал мои письма, он сурового мнения обо мне. Но хоть это и означало бы потерю его расположения, я твердо сказал бы ему в лицо то, что я говорю тебе: «Я долго размышлял о будущем вашего сына, об его счастье, и из-за тысячи доводов, которые было бы скучно перечислять, я верю, что вы позволите ему пойти дорогою, на которую ему указывают его наклонности». Старина, это вопрос небольшого усилия, предстоит еще немножко трудной работы. Приезжай, какого черта, неужто мы совсем потеряли храбрость! Вслед за ночью наступит рассвет. Так что предоставь ей идти своим чередом, этой ночи, а когда придет заря, ты скажешь: «Довольно я спал, отец. Я чувствую себя сильным и храбрым, сделай милость, не запирай меня в конторе, дай мне обрести крылья, я здесь задыхаюсь. Будь милосерден, отец».
У нас такое чувство, что Золя довольно хорошо знал, что Луи-Огюст взял себе право открывать все письма, адресованные любому члену семьи, и что в такой критический момент, как сейчас, он будет пристально следить за почтой. Золя не прямо обращался к нему самому и надеялся таким образом подсказать Полю то, на что тот сам не отваживался. Но он, несомненно, преувеличил свои способности в области красноречия. Однако он продолжал пытаться примирить Поля и Байля, возможно, приукрашивая положение то в одном пункте, то в другом, чтобы представить дело лучше, чем оно есть. Он уверял Байля, что Поль так отвечал ему: «Из твоего последнего письма я понял, что ты боишься за нашу дружбу с Байлем. О нет, черт возьми, ведь он такой славный малый. Но ты знаешь мой характер, я не всегда отдаю себе отчет, в том, что я делаю, и, если я чем-нибудь виноват перед ним, пусть он меня извинит. Обычно мы очень хорошо ладим друг с другом, но я согласен с тобой; я был неправ на сей раз. Итак, мы по-прежнему большие друзья».
В своем письме Байлю от 14 мая Золя дает умиротворяющую версию характера Поля, подобно тому как он описывал характер Байля Полю. Похоже, он основывался на том, что как будто его корреспонденты не показывали его письма друг другу.
«Ты видишь, мой дорогой Байль, я правильно рассудил — это было только легкое облачко, которое исчезает, как только подует ветер. Я тебе говорил, что старина Поль часто не знает, что он делает, он сам в этом признается, и, когда он нас огорчает, виноват не он, а злой демон, который омрачает его ум. Я повторяю тебе, у него золотое сердце, это друг, который нас понимает, такой же безумец, как и мы, такой же мечтатель…»
При всем своем такте и старании Золя понимал, что свести вместе двух старых друзей будет нелегко. 2 июня он писал Байлю: «Старик Сезанн пишет мне в каждом письме, чтобы я напоминал тебе о нем. Он спрашивает твой адрес и собирается писать тебе часто. Я удивился тому, что он его не знает, и это показывает, что не только он тебе не пишет, но и ты хранишь молчание по отношению к нему. Все же, поскольку его просьба выражает его добрые намерения, я удовлетворю ее. Таким образом, легкие неприятности исчезнут и превратятся в легенду».
Байль, на которого больше не влияло горячее присутствие обоих друзей, тем временем повернул в сторону от их идей, мало совместимых, как он полагал, с его карьерой. Он упрекал Золя за то, что он «не обращал храброе лицо к реальности, не пытался завоевать место в жизни», которым можно было бы гордиться. Золя отвечал: «Мой бедный друг, ты рассуждаешь как дитя. Реальность — это не более как пустое слово для тебя». Далее он возражал: «Ты говоришь о фальшивой славе поэтов, ты называешь их безумцами, ты заявляешь, что не так глуп, чтобы пойти и помереть на чердаке ради рукоплесканий, как им свойственно».
Тринадцатого июня Золя писал Полю: «Почему ты ничего не сообщаешь больше о праве? Что ты собираешься с ним делать? У тебя по-прежнему не ладится с ним?» Дальше он делает замечание, которое показывает, сколь глубоко и Золя, и Поль были погружены в атмосферу счастливых летних дней во времена их юности и сколь быстро теперь они отступали. «Ты говоришь, что иногда перечитываешь мои письма. Я тоже часто доставляю себе это удовольствие». Он имеет в виду письма Поля. 25 июня он снова пишет: «Судя по последнему письму, ты пал духом; ты даже сказал, что собираешься вышвырнуть кисти за окно. Ты жалуешься на одиночество, тебе скучно. Да, эта ужасающая скука — наша общая болезнь. Это язва нашего века. И разве упадок духа не является одним из последствий сплина, который буквально душит всех нас? Ты прав, будь я с тобой, я попытался бы утешить тебя, подбодрить. Вчера я встречался с Шайяном. Как ты заметил, это малый, в котором есть нечто поэтическое. Чего ему не хватает, так это направления. Я знаю, как ты ненавидишь толпу, поэтому говори только себе и прежде всего не бойся наскучить мне».
Поль должен был страдать, зная, что другие его знакомые по художественной школе — Солари, Вильвьей, Шайян, Трюфем — отправились в Париж. Золя постоянно возвращался к задаче подбодрить его. «Пусть накажет меня Бог, если, восхваляя перед тобой искусство и мечтательную лень, я окажусь твоим злым гением. Но нет, этого не может быть. Злой гений не может скрываться в недрах нашей дружбы, не может увлечь к гибели нас обоих. Соберись же с духом! Возьмись опять за кисти и дай волю воображению. Я верю в тебя, и если я толкаю тебя к беде, то пусть эта беда падет на мою голову. Главное, не теряй мужества и хорошенько обдумай все, прежде чем встать на этот тернистый путь…
Подобно потерпевшему кораблекрушение, который хватается за плывущую доску, так я схватился за тебя, старина Поль. Ты поймешь меня, твой характер родствен моему. Я нашел друга и возблагодарил небеса. В разное время я боялся потерять тебя, но сейчас это кажется невероятным. Мы знаем друг друга слишком хорошо, чтобы плыть врозь».
В июле Золя вновь пространно возвращается к задаче наставления и подбадривания павшего духом Поля. Прежде чем он закончил большое письмо, пришли новости из Экса. Нет сомнения в том, что то, что удерживало Поля, было уже не только сопротивлением отца. Как только его отъезд в Париж становился более вероятным, его сомнения тут же возрастали. Он боялся неизвестности вообще и пугался также того, что в мире столичного искусства будет чувствовать себя дураком с его ограниченной провинциальностью, с набором надежд, основанных на отсутствии критериев.
Золя писал: «Я только что получил письмо от Байля и совершенно его не понял. Вот фраза, которую я прочел в его эпистоле: «Почти наверняка Сезанн отправится в Париж — вот радость-то!» Он пишет это с твоих слов? Ты действительно давал ему надежду, когда он недавно был в Эксе? Или, может, это он все по-прежнему мечтает? Может, он принимает твое намерение за решенный факт? Повторяю, я не понял. Заклинаю тебя сказать мне прямо в следующем твоем письме, как обстоят дела. В течение трех месяцев я говорил себе, основываясь на полученных письмах: он едет, он не едет. Постарайся, ради бога, не подражать флюгеру. Вопрос слишком серьезен, чтобы постоянно перестраиваться от черного к белому. Правда, какая твоя позиция?»
Но это было как раз то, на что Поль не мог ему ответить, ибо не знал сам, раздираясь между сражениями с отцом и борьбой с самим собой и своей нерешительностью. 25 июля Золя писал Байлю, что в последнем письме он задавал несколько вопросов: «Новости Экса, о которых Сезанн уклоняется писать». В другом письме этого месяца он замечает: «Восхитительное выражение я нашел в одном из писем Сезанна: «Я питомец иллюзий». Это могло быть сказано в связи с предполагаемым путешествием в Париж и напоминало тему Потерянных Иллюзий бальзаковских героев, которые отправлялись завоевывать Париж. 1 августа Золя все еще пытался выяснить, что же у Поля было на уме. Он как раз получил письмо из Экса и присоединился к обсуждению вопроса о том, может ли художник заново переделывать что-либо уже сделанное. Он соглашался с Полем, что не может. «Итак, я вполне согласен с тобой — надо работать добросовестно, сделать все, что в наших силах, отшлифовать материал, чтобы как можно лучше приладить все части и создать единое целое, а потом уж предоставить творение его доброй или злой судьбе, не забыв надписать на нем дату его создания». Байль, по словам Сезанна, смотрел на искусство, как на святыню. «Это означает, что он мыслит, как поэт», — замечает Золя. «Читая твои прошлогодние письма, — продолжает он, — я наткнулся на маленькую поэму о Геракле на распутье между Пороком и Добродетелью». Золя вспоминает о ней в связи с невозможностью для Поля сделать выбор на распутье своей жизни. Для Поля, как мы помним, Право (или Закон — Droit) неразрывно переплетено с родительским авторитетом, Порок или Левое — это Искусство, которое для него неотделимо от телесных наслаждений. Таким образом, авторитеты (Отец — Цицерон — Гамилькар — Закон — Деньги и тому подобное) ощущались как силы, отрывающие его от свободных порывов художественного выражения и любовного опыта. Вот почему, когда он наконец отпустил себя, многие его картины долго включали в себя мотивы оргий, похищений и насилия, искушения.
В том же письме Золя сравнивает свои стихи с произведениями Поля, и, несмотря на свой идеал «чистоты» стиля, он справедливо распознал большую силу и образность стихов Сезанна, которые хоть и были быстро и подчас небрежно набросаны, исторгались непосредственно из его внутренних борений.
«Распевая, чтобы петь, и совершенно беззаботно, ты используешь много причудливых выражений, в основном забавные провинциальные обороты. Я далек от того, чтобы считать это преступлением, особенно в наших письмах, напротив, я в восторге. Ты пишешь мне, и я благодарю тебя за это. Но толпа, старик, весьма требовательна. Недостаточно просто говорить. Надобно говорить хорошо… Чего не хватает моему доброму Сезанну, спросил я себя, чтобы стать большим поэтом? Чистоты языка. У него есть идея; есть энергичная, своеобразная форма, но все портят провинциализмы, варваризмы и т. д. Да, старина, ты больше поэт, чем я. Мой стих, пожалуй, более правилен, до твой безусловно более поэтичен, более правдив; ты пишешь сердцем, а я рассудком…»
Но то, что Золя считал провинциализмами, было при глубоком рассмотрении укоренено в художественном видении Сезанна: обращение к частному, к уникальному моменту бытия во всех его особенностях и выразительности. И этот принцип он использовал тем или иным образом во всех областях и во все периоды своего творчества. Золя, сражаясь за то, чтобы достичь очищенного литературного стиля, кончил тем, что пришел обратно к той точке, которая для Поля была основной. К тому времени, когда была написана «Западня», он сумел овладеть реалистическим диалогом (как в социальном, так и в психологическом плане). Золя понял тогда, что он не сможет вставлять такие диалоги в литературно рафинированное повествование без явной фальши. В результате он добился нового вида романного единства тем, что писал все произведение в стиле, основанном на реализме диалогов. В этом заключается одна из точек сходства, как художественного, так и эмоционального, между Золя и Сезанном.
Надежда о совместном летнем отдыхе в Эксе провалилась. Золя былтак измотан свой службой в доках, что после июня он ее забросил. Он был слишком беден и писал с горечью, что не может отправиться на юг, в место, где «у него есть так много всего, что надо посмотреть, — росписи Поля, усы Байля». Мы упоминали уже, что Поль расписывал стены в Жа де Буффан, темой предположительно были четыре времени года.
Золя был плох. «Я поглощен скукой. Я не веду достаточно активной жизни, подходящей для моей конституции, мои нервы столь расшатаны и напряжены, что я нахожусь постоянно в состоянии душевного и физического возбуждения. Я не могу ни за что приняться». Он начал страдать от ипохондрии, которая надолго овладевала им. 21 сентября он просил Байля «сказать доброму старому Сезанну, что я в тоске и не могу ответить на его последнее письмо». Продолжать свои обычные подбадривания сил у Золя больше не было. «Ему писать мне почти бесполезно, пока вопрос о его поездке не решится».
Однако 24 октября в общем письме Полю и Байлю Золя писал: «Этим утром я получил письмо от Поля» и принялся подвергать Поля танталовым мукам, описывая натурщиц. «Описание твоей модели сильно позабавило меня. Шайян утверждает, что здесь натурщицы весьма доступны, хотя и не всегда свежайшего качества. Можно рисовать их днем и ласкать их ночью, хотя термин «ласкать» чересчур мягкий. Сколько платишь за позирование днем, столько выкладываешь и за ночные позы. А что до фиговых листочков, то их в мастерских и не знают. Натурщицы раздеты в них точно так же, как они ходят дома, и любовь к искусству прикрывает то, что могло бы показаться чересчур возбуждающим в их наготе. Приезжай и посмотри».
Его собственное состояние ухудшилось. Росла сонливость, умножаемая бедной едой — хлебом с сыром или хлебом, смоченным в масле. Скудное имущество было в закладе. Алексис позже описывал его в этот период «оставленного на парижской мостовой без положения, без источников дохода, без будущего». К тому же Золя ощущал, что на нем висят еще проблемы Байля и Поля.
Глава 2
Поль в Париже
(1861)

Поль работал не только в мастерской Жибера, но и на пленэре, даже зимой, сидя на «замерзшей земле и не обращая внимания на холод». Золя признавался: «Эти известия порадовали меня, так как я понял из твоего постоянства твою любовь к искусству и то рвение, с которым ты предаешься работе». Первые разделы «Исповеди Клода» показывают нам духовную историю Золя в этот период. «Вся эта книга, — говорится в предисловии, — представляет собой историю конфликта между мечтой и реальностью». Клод, деревенский парень, который воспринял историю Мюрже из «Жизни богемы» чересчур серьезно, бьется за отыскание своего места в Париже. Со своим литературным подходом к жизни, естественно, он пытается поднять падшую женщину (вспомним «Марион Делорм» Гюго или «Даму с камелиями» Дюма). Он терпит неудачу с выбранной им девицей Лоране, но неожиданно преуспевает с Мари, подружкой живущего по соседству студента. Похоже, что опыт Клода описан по жизненным впечатлениям самого Золя, пережитым зимой 1860–1861 годов. Он рассказал историю Байлю, не выводя самого себя на сцену, а с Полем был более откровенен. «Я выбрался из тяжелой школы, которая есть настоящая любовь». Он пообещал рассказать подробнее, когда они встретятся. «Я сомневаюсь, чтобы я смог изъяснить словами весь болезненный и радостный опыт, который мне довелось пережить. Но результатом этого явилось то, что у меня теперь есть богатство впечатлений, и, стало быть, зная этот путь, я смогу быть проводником для друга, оберегая его безопасность. Другой результат заключается в том, что я приобрел иной взгляд на любовь, который весьма поможет мне в работе над той вещью, которую я собираюсь писать».
Предположительно к этому периоду относится анекдот (записанный Алексисом и Гонкурами). Одной холодной ночью ему пришлось так туго, что он отдал свое пальто подружке, чтобы она заложила его, через два дня он отдал ей брюки и вынужден был остаться в постели, завернувшись в простыню. Девица заметила, что он выглядел «как арабский шейх». «Исповедь» пересказывает историю без этого замечания. Золя утверждал, что почти не замечал стоявших перед ним в то время проблем. «Он никогда не был более счастлив, чем тогда, лишенный всего», — передают Гонкуры.
Неудача Клода с Лоране была смертельным ударом по его идеализму; нет сомнения в том, что подобная перемена произошла и с самим Золя. Он жил и развивался тогда без возвышенных разговоров, без сверхромантических идей времен Экса, в русле которых Поль все еще бился в эти годы. «Я ужасно сомневаюсь, не являются ли все наши мечты ложью, — говорит Клод, — я чувствую себя мелким и ничтожным перед лицом той реальности, которую я очень смутно представлял. Бывают дни, когда в лучах и благоуханьях появляются мерцающие видения, к которым я никогда не могу приблизиться; тогда передо мной мелькают проблески вещей, как они есть. И я осознаю, что они есть только лишь для того, чтобы помочь найти жизнь, действие и правду». Золя оглядывался вокруг и обратил внимание на супружескую чету из соседней квартиры, Жака и Мари. Он был очарован той аурой, которая истекала из их спокойного и заурядного бытия. «Вот мир, которого ты не знаешь, я жажду открыть каждое сердце и душу, я опишу этих живущих вокруг людей». Далее он добавляет: «Они живут такой странной жизнью, что, наблюдая их, я почувствовал, что смогу явить на свет новые истины».
Эти строки дают нам ключ к сущностному элементу творческой эволюции Золя. В той же степени, что он был погружен в призрачный мир мечты (общий мир с Полем), он чувствовал силу, исторгавшую его вон, в странный внешний мир, который он с любопытством исследовал, будто это была какая-то другая планета. Но напряжение между знакомыми романтическими представлениями и странностями окружающей действительности никогда не исчезало. С начала и до конца это обеспечивало творческую силу исследованиям Золя, которым он дал обманчивое имя натурализма. То, в чем он нуждался, дабы победить мерцающие видения (а также, дабы впитать их), было «откровенное исследование вещей, как они есть». Точно так же и Поль, снедаемый видениями («в мечтательные часы, словно в тумане, скольжение изящных форм»), должен был изо всех сил бороться за художественный метод, который развенчал бы тайну и дал бы ему твердый контроль над вещами «как они есть». Такой подход обеспечивал новое осмысление и полноту взаимосвязи между вещами. Подчеркнем еще раз: если мы посмотрим достаточно глубоко, мы увидим чрезвычайную близость проблем, стоявших как перед Золя, так и перед Полем, а также пути их разрешения — хотя воплощенные решения вышли весьма различными.
22 апреля 1861 года Золя написал очередное длинное письмо Байлю, который рассказал ему, что Луи-Огюст предполагает, что он (Золя) оказывает дурное влияние на Поля и совращает его с достойного пути делания денег. Весьма возмущенный, Золя отвечал: «Спасибо за письмо. Оно меня огорчило, но было полезным и нужным. Неприятное известие оказалось для меня не таким уж неожиданным, и я и раньше понимал, что нахожусь под подозрением. Я чувствовал, что семья Поля считает меня своим противником, почти врагом. Ясно, что наши воззрения на жизнь так различны, что мсье Сезанн не может: испытывать ко мне симпатии. Что я могу сказать? Все, что ты сказал мне, я уже знал, но не отваживался признаваться в этом себе. Прежде всего я не могу поверить, что они приписывают мне такие злодейства и видят в моей братской дружбе только хладнокровный расчет.
Должен признаться, что подобные обвинения скорее опечалили, чем удивили меня… Вот что я почитаю высшей мудростью:.быть добродетельным, благородным, любить добро, прекрасное и тому подобное, не пытаясь уверить весь мир в своей добродетели, благородстве, не протестуя, когда кто-либо пытается обвинить во зле или слабости.
Но в настоящее время трудно последовать этому пути. Как друг Поля, я хотел бы, чтобы его семья меня любила, по крайней мере уважала. Если кто-нибудь безразличен мне из тех, кого я лишь случайно встречаю и не должен видеть вновь и кто услышит клевету обо мне и поверит ей, я предоставляю таким думать, как они хотят, даже не пытаясь изменить мнение. Но это другое дело. Желая любой ценой остаться Полю братом, я часто вынужден сталкиваться с его отцом. Я вынужден появляться перед человеком, который лишь презирает меня и кому я могу заплатить лишь презрением.
С другой стороны, я никоим образом не хочу посеять тревогу в этом семействе. Пока мсье Сезанн видит во мне лишь интригана и пока он видит, что его сын связан со мной, он лишь продолжает гневаться на сына. Я не хочу, чтобы так было, я не могу сохранить молчание. Если Поль не готов открыть глаза отцу самостоятельно, сделаю это сам. Мое возвышенное презрение должно уступить здесь другим чувствам. Я не могу допустить, чтобы в голове отца моего друга оставались какие-либо сомнения. Это будет означать, повторяю, конец нашей дружбы или конец всех столкновений между отцом и сыном».
Луи-Огюст с его убеждением, что только деньги определяют все интересы и занятия, мог считать все попытки Золя склонить Поля к поездке в Париж стремлением молодого честолюбивого человека использовать богатого друга; Золя был безнравственным типом, который красивыми словами подкрашивал привлекательность безделья и распущенности. Глубоко уязвленный, Золя продолжал свои бесконечные анализы и самооправдания. В последние месяцы он стал сомневаться и в Байле и, наверно, полагал, что даже старый друг с его новоприобретенной жизненной мудростью и стремлением к успеху фактически более симпатизировал Луи-Огюсту, чем признавался в этом.
«По-моему, вот в чем дело: мсье Сезанн видит, как рушатся его планы, — будущий банкир оказался художником, почувствовав за спиной орлиные крылья, хочет покинуть родное гнездо. Мсье Сезанн, удивленный таким превращением и такой жаждой свободы, никак не может поверить, что можно предпочесть живопись банковскому делу и вольный воздух — пыльной конторе. Мсье Сезанн решил во что бы то ни стало найти отгадку. Он не хочет понять, что Бог, создав его банкиром, его сына создал художником. Подумав хорошенько, он решил, что все идет от меня, что я создал Поля таким, каким он стал сейчас, что я отнимаю у банкира его самую дорогую надежду. Наверно, были разговоры о дурном обществе, и вот Эмиль Золя, литератор, стал интриганом, дурным другом и т. д. Это тем печальнее, что это смешно. Если мсье Сезанн этому верит, то это глупо, а если из расчета делает вид, что верит, то просто подло. К счастью, Поль, наверно, сберег мои письма. Прочтя их, можно видеть, каковы мои советы и толкал ли я его когда-нибудь на дурной путь. Наоборот, много раз я ему излагал отрицательные стороны поездки в Париж и настоятельно советовал не раздражать отца. В советах, которые я иногда давал Полю, я всегда делал оговорки. Видя, что с его характером будет трудно служить, я говорил ему об искусствах, о поэзии, но без всякого расчета. Да, я хотел, чтобы он был со мной, но никогда, высказывая эго желание, я не советовал ему бунтовать. Одним словом, все мои письма продиктованы дружбой, и в них говорится только то, что подсказывало мне мое сердце. Мне не может быть вменено в вину воздействие этих слов на Поля; я возбудил его любовь к искусству помимо моей воли, и оно могло быть вызвано любой другой причиной».
В самом деле, когда мы осознаем, какую чудовищную борьбу приходилось вести Полю — и против сопротивления отца, и против своих собственных сомнений и страхов, мы вправе спросить, порвал бы он когда-нибудь с Эксом (банком и правом) и отправился ли бы в Париж изучать искусство, если бы не Золя. Несомненно, ничто не заставило бы его прекратить возиться с красками, но без Парижа и дружбы с Писсарро и Моне вряд ли он развился бы в художника.
Золя еще пространно изливал соображения о своей роли в семейных сценах у Сезаннов, а в конце того письма появляется неожиданное восклицание: «Я прерываю этот сверхбыстрый и несовершенный анализ, чтобы крикнуть: я видел Поля!!! Я видел Поля, понимаешь ли ты всю музыку этих слов. Сегодня утром в воскресенье я еще дремал, когда услыхал его голос на лестнице, он несколько раз позвал меня. Я открыл ему дверь, дрожа от радости, и мы бурно обнялись. Потом он успокоил меня насчет чувств его отца ко мне; он уверяет, что ты немного преувеличил. Его отец хочет меня видеть, и я пойду к нему сегодня или завтра. Потом мы вышли позавтракать, выкурили несчетное количество трубок в садах и парках и расстались. Пока его отец будет здесь, мы сможем видеться только изредка, но через месяц мы думаем поселиться вместе».
Почему Поль не писал? Можно полагать, он не был уверен до последнего момента, беспокоясь о разрешении отца и теряясь в своих собственных сомнениях. Но вот барьеры наконец оказались позади. Он присоединился к Золя в предвкушении «венков и любви, которые Господь приготовил для наших двадцати лет». Он, который никогда до этого не уезжал далеко из Экса, должен был перенести многочасовое путешествие поездом с болезненным возбуждением, глядя на новые виды в долине Роны, на прямоугольники полей и виноградников. В то время экспресс от Марселя до Парижа шел около двадцати часов.
Луи-Огюст, который взял в Париж вместе с Полем еще дочь Мари, оставался в городе несколько недель, потом уехал, обещав высылать каждый месяц по 250 франков, что было намного больше расчисленного Золя в качестве прожиточного минимума для молодого художника. Сумма вскоре была увеличена до трехсот франков, выплачивавшихся Ле Хидье, парижским корреспондентом экского банка. Поль сначала жил в маленькой гостинице на улице Кокьюлер, поблизости от Центрального рынка, там, где он останавливался с отцом. Таким образом, он не переехал, чтобы присоединиться к Золя. Возможно, его отец возражал против слишком тесного сближения, более вероятно, что сам Поль не захотел терпеть ограничения. Он снял меблированную комнату на улице Фейантин на левом берегу Сены. Там он был недалеко от Золя, обитавшего близ Пантеона; после переездов с места на место Золя утвердился на улице Суффло в населенном проститутками доме, куда часто наведывалась полиция.
Золя сразу потащил Поля смотреть работы Шеффера и фонтан Жана Гужона. Вдвоем они ходили в музеи и на выставки. Воскресенья они собирались проводить в экскурсиях по пригородам Парижа. Сначала все шло гладко. Поль по утрам писал или рисовал в Академии Сюиса на острове Ситэ (на углу бульвара Палэ и набережной Орфевр). После полудня он делал копии в Лувре или отправлялся в мастерскую Вильвьея. В Академию Сюиса мог поступить каждый, заплатив определенную сумму в месяц за натуру и накладные расходы. Поль работал, как ему нравилось, пастелью, акварелью, маслом, используя натуру или по своему собственному вдохновению. Господствовала полная свобода метода с молчаливым пониманием того, что советы не должны быть грубыми. Папаша Сюис, основатель Академии, был некогда натурщиком. Множество знаменитых художников пользовались его заведением из-за свободы, которую они здесь имели, — Делакруа, Бонингтон, Изабе, Курбе и другие. Всего за пять или шесть лет до того, как Поль впервые робко заглянул внутрь, в Академии работал Мане, а за несколько месяцев — Моне, отбывавший теперь воинскую службу в Алжире. Мастерская помещалась на третьем этаже, куда вела грязная, старая деревянная лестница, закапанная следами крови, которые оставляли пациенты зубного врача, практиковавшего ниже. Вывеска последнего была видна издалека: «Sabra Dentiste du Peuple». Иногда люди с зубной болью по ошибке открывали дверь и застывали перед обнаженными моделями. Три недели в месяц натурой у Сюиса были мужчины, одну неделю — женщины. Мастерская открывалась в 6 часов утра, были, кроме того, еще вечерние классы с 7 до 10 часов.
Сначала Поль часто бывал у Золя и Вильвьея с его прелестной женой, но через несколько недель он замкнулся в себе и стал избегать их. Спустя немного дней после приезда Поля, 1 мая, Золя писал Байлю о том, как они с Полем ходили в воскресенье на художественную выставку.
«Поля я вижу очень часто. Он много работает, и это иногда нас разлучает, но я не жалуюсь на то, что, увлеченный работой, он иной раз ленится зайти ко мне. У нас пока еще не было никаких развлечений или, вернее, о тех, которые мы себе наскоро устраивали, не стоит и писать. Завтра, в воскресенье, мы собирались поехать в Нейи провести день на берегу Сены, купаться, пить, курить и т. д. Но вот погода хмурится, дует ветер, холодно. Прощай, наш чудесный денек! Я хорошенько не знаю еще, на что мы его потратим. Поль собирается писать мой портрет».
Поль жил ограниченной и простой жизнью. Бедность была для него чем-то умозрительным, тем, чего в точности он не понимал. Он, наверно, был шокирован, когда увидел, в каких условиях обитал Золя в пользующемся дурной репутацией доме, щеголяя в заношенном пальто и потертых брюках. Однако, предоставленный самому себе, он должен был почувствовать нечто вроде беспомощной несчастности, подобной той, что испытал Милле, приехав из Нормандии в «черный, грязный, дымный Париж» в январе 1837 года. Милле писал: «Свет уличных фонарей, полускрытых туманом, обилие экипажей, перегоняющих друг друга, узкие улицы, запахи и атмосфера Парижа подействовали на меня так, словно удушали меня. Я был переполнен рыданьями, с которыми не мог справиться. Я стремился быть сильнее своих чувств, но они полностью подавили меня. Я лишь кое-как сумел справиться со слезами, сполоснув лицо пригоршнями воды из уличного фонтана». Также и Валлес в автобиографическом романе, высоко оцененном Полем, описывал ощущение одиночества, которое производит Париж на провинциального парня. «Париж, 5 утра. Мы приехали. Какая тишина! Все выглядит мертвенно-бледным под печальным полусветом раннего утра; есть какое-то деревенское одиночество в этом спящем Париже. Это меланхолия заброшенности. Холодно от рассветного морозца, последняя звезда глупо поблескивает на плоской синеве неба. Я чувствую себя подобно Робинзону, выброшенному на пустынный берег, в страну без деревьев и красных домов. Дома высоки и траурны, они похожи на слепых со смеженными веками со своими закрытыми ставнями. Носильщики возятся с багажом. Это мой».
Но Поль также должен был замечать проблески роскошного Парижа, который рождался в его юношеских мечтах. Вторая империя была на вершине блеска и элегантности; пышные дамы полусвета прогуливались по улицам, величественно проплывая мимо или тщетно расточая свои чары. Фотографии знатных куртизанок продавались в магазинах наряду с фотографиями государственных деятелей. Об их похождениях свободно рассказывали газеты, они по-королевски приглашали своих поклонников в собственные ложи в Оперу. В 1860 году они демонстрировали себя на скачках в Сатори и были сочтены образцом моды и украшений. Принцессы и герцогини присутствовали на балу у вульгарной куртизанки Коры Перл, чья минимальная цена за ночь была 50 луидоров; в 1869 году на скачках в Бадене принцессы и вся остальная знать не могли заехать за ограду на поле, эта честь была оставлена за Корой и актрисой Ортанс Шнайдер. Респектабельные дамы и господа ходили к Тортони или в «Кафэ Англэ», в то время как бедному студенту-художнику приходилось носить свою закуску в кармане. Во всем чувствовалась лихорадочная атмосфера стремительных перемен и безрассудной экстравагантности, глубоко чуждых провинциальному юноше со смутными, но весьма честолюбивыми мечтами. Процветали биржевая спекуляция и железнодорожное строительство. Барон Осман резал Париж на куски, прокладывая бульвары. Это было задумано отчасти с целью предотвратить появление баррикад (что уже было в 1848 году), путем создания широких прямых линий, в случае необходимости простреливаемых артиллерией. Севастопольский бульвар (теперь бульвар Сен-Мишель) был уже проложен, закладывались Рю де Ренн и другие главные артерии.
При таком обилии впечатлений, а также терзаясь проблемой найти свое место в дружелюбной, но грубоватой атмосфере у Сюиса, Поль пережил возрождение всех страхов и сомнений. Письмо, которое он 4 июня написал своему другу Жозефу Юо (тот в 1864 году приехал в Париж поступать в Художественную школу), очень ценно тем, что показывает, сколь смутны были представления Сезанна и как он воспринимал академические ценности.
«Мой дорогой Жозеф, разве я могу забыть тебя? Черт побери, забыть тебя и твою обитель, где собирались твои друзья и братья, забыть твоего брата и доброе вино Прованса. Знаешь, а здешнее вино совершенно ужасно. Я не хочу в этих нескольких строках впадать в элегический тон, но, должен признаться, на душе у меня довольно безрадостно. Живу так себе, потихоньку, полегоньку. У Сюиса я занят с 6 утра и до 11. Питаюсь я из расчета 15 су за обед. Это немного, но что поделаешь. С голоду пока не умираю.
Я думал, что, уехав из Экса, я оставлю там преследующую меня тоску. Но место переменилось, а тоска последовала за мной. Я оставил только родителей, друзей, некоторые привычки, вот и все. Однако почти целый день я гуляю. Подумай только, я видел Лувр, Люксембург и Версаль. Ты знаешь, огромные картины, которые скрыты в этих великолепных зданиях, потрясающие, ошеломляющие, сногсшибательные картины. Но не думай, что я стал парижанином.
Еще я побывал в Салоне. По-моему, это подходящее место для молодого ума, для ребенка, который только приобщается к искусству и выражает, что думает: там встречаются все вкусы, все жанры. Я могу пуститься в красивые описания и усыпить тебя. Скажи спасибо за то, что я тебя милую.
Я видел бой — Ивона — беспощадный.
А рядом Пильс. Его талант отрадный
Героев все поет, каких не помнишь ты.
Под стать портретам их оригиналы,
Висят министры, есть и генералы,
И дева небывалой черноты.
И свет луны почти как настоящий,
И ручеек, и солнца зной палящий.
А там, смотри, тупая морда турка,
Сахарские пески, российские снега,
А там ребенка хрупкая фигурка,
В подушках пурпурных вполне нага
Красотка свежая. Всего не перечесть,
Но все свежо, амуры с облаками
И пухлые девицы с зеркалами,
Жером, — а там Амон, Глез — рядом Кабанель,
Мюллер, Курбе, Гюбен оспаривают честь Победы…».
(Перевод В. Левика)
Включение Курбе в ряд худших академистов лишь доказывает, насколько в сознании Поля в то время были перемешаны все ценности и критерии. На живопись он все еще смотрел поверхностно. Старые мастера потрясли его, и он никак не мог разобраться в современных тенденциях; самое большее, что он мог заметить, это то, что существовала мешанина разнообразных манер. Не заметно, чтобы он осознал значение Курбе, он даже еще не открыл Делакруа и ничего не знал о Коро, равно как и о других живописцах со свежим видением. Он продолжает письмо восхвалением Мейсонье за его тщательно выписанные композиции.
«(Я исчерпал все свои рифмы, я уж лучше замолчу, слишком смел был бы замысел описать тебе эту роскошную выставку.) Там есть еще великолепный Мейсонье. Я почти все осмотрел и собираюсь пойти еще раз. Вот так я развлекаюсь. Сожаления ничему не помогают, поэтому я не буду говорить, как я сожалею, что тебя нет со мной и мы не можем посмотреть все это вместе, но, черт возьми, я сожалею.
Мсье Вильвьей, у которого я работаю каждый день, передает тебе тысячу приветов, так же как и наш друг Бурк, его я вижу время от времени. Шайян тебе посылает сердечный поклон. Кланяйся Солари, Фелисьену, Рамберу, Леле, Фортису. Тысячу «бомб» всем. Сообщи мне, чем кончилась жеребьевка у всех друзей. Кланяйся от меня своим родителям, желаю мужества, хорошего вермута, поменьше огорчений и до свидания.
Прощай, дорогой Юо, твой друг Поль Сезанн.
P. S. Тебе кланяется Комб, с ним я сейчас ужинал, Вильвьей сделал эскиз к чудовищно большой картине, высотой 14 футов, а фигуры будут двухметровые и больше.
У великого Г. Доре есть в Салоне преизумительные картины. Еще раз прощай, мой дорогой, до встречи, когда мы с тобой с удовольствием разопьем бутылочку.
П. Сезанн, ул. д’Анфер, 39».
В письме нет ни слова о Золя. Конечно, все получалось не так чудесно, как он себе представлял. Поль в своей растерянности, чувствуя себя потерянным и зажатым между недостижимыми старыми мастерами и помпезными академистами, которые все еще заслоняли ему весь горизонт, должен был испытывать невозможность обсуждать положение со своим старым другом, чьи добрые слова поддержки приводили его в неистовство и чьи грезы об успехе пробуждали в нем смущение и сопротивление. Золя также, к своему разочарованию, почувствовал необходимость увидеть Поля в более критическом свете. Теперь он более остро осознал элементы противоречия в характере Поля — твердое упрямство, таящееся в гуще разных сомнений. Естественно, что он решил облегчить себя в письме Байлю от 10 июня.
«Я редко вижу Сезанна. Увы! Теперь не то, что в Эксе, когда нам было по восемнадцать, когда мы были свободны и не заботились о будущем. Наши обязанности перед жизнью, то, что мы работаем в разных местах, все это отдаляет нас друг от друга. Утром Поль идет к Сюису, я остаюсь писать у себя в комнате. В одиннадцать часов мы завтракаем, каждый сам по себе. Иногда в полдень я отправляюсь к нему, и тут он работает над моим портретом. Потом на остаток дня он идет рисовать к Вильвьею; он ужинает, рано ложится, и я его больше не вижу. Разве таковы были мои надежды? Поль все тот же чудесный своенравный малый, которого я знал в коллеже. В доказательство того, что он все такой же своенравный чудак, мне достаточно сказать тебе то, что, едва приехав сюда, он уже начал говорить о возвращении в Экс; три года бороться за переезд в Париж и потом вдруг ни в грош не ставить свою победу. Перед таким характером, перед такими непредвиденными и неблагоразумными поворотами, признаюсь, я немею и прячу в карман свою логику. Доказать что-либо Сезанну — это все равно что уговорить башни собора Парижской богоматери, чтобы они станцевали кадриль. Может быть, он и скажет «да», но ни на йоту не сдвинется с места. И заметь, что с возрастом его упрямство все усиливается, хотя разумных причин для этого не становится больше. Он сделан из одного куска, жесткого и твердого на ощупь; ничто его не согнет, ничто не может вырвать у него уступки. Он не хочет даже об-что думает, терпеть не может споров, во-первых, потому, что разговоры утомляют, во-вторых, потому, что, если его противник оказался прав, пришлось бы изменить свое мнение. И вот он очутился в гуще жизни, причем со своими определенными идеями, которые согласен менять только по собственному усмотрению. Впрочем, в остальном он замечательный малый: всегда во всем с вами согласен, потому что ненавидит споры, но от этого не перестает думать по-своему. Когда язык его говорит «да» — сам он по большей части думает «нет». Если он случайно выскажет противоположное мнение, а вы его оспариваете, он горячится, не желая разобраться в сути дела, кричит, что вы ничего не понимаете в этом вопросе, и перескакивает на другое. Попробуй-ка поспорить, да что там, просто поговорить с этим упрямцем, ты ровно ничего не добьешься, зато сможешь наблюдать весьма своеобразный характер. Я надеялся, что с возрастом он хоть немного изменится, но вижу, что он такой же, каким я его оставил. И вот я придумал простой план, как вести себя с ним: никогда не перечить его своенравию, самое большее, давать ему лишь косвенные советы; а что касается продолжения нашей дружбы — положиться на его добрую натуру, никогда не навязывать ему своей особы, словом, совершенно стушеваться, всегда встречать его весело, искать его общества, не надоедая ему, и сохранить с ним близость лишь постольку, поскольку он этого желает. Такая позиция, может быть, удивляет тебя, однако же она логична. Я знаю, что у Поля по-прежнему доброе сердце, что это друг, который умеет понимать и ценить меня. Но поскольку у каждого из нас свой характер, из благоразумия я должен приспосабливаться к его настроениям, если не хочу спугнуть нашу дружбу. Быть может, чтобы сохранить твою, я прибег бы к уговорам, — с ним это значило бы потерять все. Не думай, что между нами что-нибудь произошло, мы по-прежнему близки, и, может быть, не очень кстати, из-за случайных обстоятельств, которые нас разлучают, я предался этим размышлениям…»
Примечательно, что Золя как будто сумел придерживаться этой программы, то есть безобидно вышучивать Поля и входить в его настроения, вплоть до публикации «Творчества» в 1886 году. Он совсем не понимал, что Поль был равно неспособен отказываться или спорить. Это не значит, конечно, что он «выработал определенные идеи и не желал менять их». В то время у Сезанна не было никаких явно выраженных идей, только лишь потребность и решение быть художником. Что у него было, так это преизбыток чувств, и он страдал оттого, что у него при этом не было идеи или метода, согласно которым он привел бы в порядок и выразил эти чувства. Он не мог спорить, потому что, как только он пытался сделать это, он оказывался перед лицом тяжелой внутренней пустоты, и, что бы ни говорилось в споре, воспринималось им как попытка внушения со стороны, которая могла лишь рассеять и привести в смятение его эмоции и интуиции, которые он справедливо ощущал как свое собственное творческое достояние. Золя был прав, говоря, что только непрямые советы или, в области искусства, указания на метод, который он сам наблюдал, но не такой, какой давил бы на него так или иначе, могли быть приняты и усвоены. В такие моменты стоявший на страже страх отступал и не заставлял противиться вторжению. В значительной степени такой подход Поля к своему внутреннему миру, к жуткому хаосу, который он жаждал устроить и наладить своими собственными могучими силами, был предопределен его отношением к отцу. В течение многих лет его слепой вере в то, что он художник или по крайней мере должен быть им, противостояло едкое и насмешливое неприятие отца. Любое воздействие, любая попытка, все равно чья, подсказать ему что-либо, независимо от степени аргументации, ощущалась Сезанном как проявление чужой воли, грозящей разрушить его. Золя был совершенно прав, уловив, что эти реакции Поля были совершенно глухи к рациональным возражениям или анализу, они проистекали из слишком глубоких страхов. Высказывания чужих мнений сразу и слепо отметались им, как удары, грозящие основам его индивидуальности.
Поль, достаточно добрый, когда мог отрешиться от своих фобий и увидеть, что кто-то существует на свой собственный лад, похоже, не осознавал непрочного положения Золя и того, что тот нуждался в сочувственной поддержке. В только что процитированном письме Золя жаловался Байлю, что страдает от какого-то нездоровья, «которому никакие доктора не могут найти причину. Моя система пищеварения полностью расстроена. Я всегда ощущаю тяжесть в желудке и кишках, временами я способен съесть лошадь, а иногда еда внушает мне отвращение». Он был истощен недоеданием, живя на «хлебе и кофе или хлебе и копеечном итальянском сыре или обходясь просто одним хлебом, а то и без хлеба вовсе» (Алексис). Но Поль не был вполне твердым в своих настроениях, отчаиваясь и собираясь вернуться. Он подумывал, не поселиться ли в Маркусси в департаменте Сена и Уаза, и вскоре после письма с жалобами Золя снова писал Байлю: «Я нашел, что нет ничего более несносного, чем давать о чем-либо определенное суждение. Если мне показывают произведение искусства, картину, стихотворение, я тщательно изучу его и не побоюсь высказать свое мнение; если я ошибусь, мое заблуждение будет чистосердечным, и это искупит меня. Картина или стихотворение — это такие вещи, о которых не следует менять мнение. Они имеют не более как одно качество — если хороши, то хороши всегда, если плохи, то плохи вечно. Если я говорю об отдельном поступке человека, то я сужу без колебаний — поступил ли он хорошо или дурно в этом своем действии. Но если теперь мне зададут общий вопрос — что я думаю о человеке? — я постараюсь быть деликатно уклончивым и постараюсь не отвечать вовсе. В самом деле, какое суждение можно вынести о человеке, который не какая-нибудь грубая штука вроде картины или нечто абстрактное как поступок? Как можно прийти к суждению о смеси добра и зла, составляющей жизнь? Какую шкалу следует применить, чтобы точно взвесить, что следует превозносить, а что проклинать. И прежде всего, как вы собираетесь собрать все множество человеческих поступков? Если опустить хоть один, суждение будет неистинным. И наконец, если человек еще не умер, какое положительное или нелицеприятное суждение вы можете вынести о жизни, которая еще может породить что-нибудь дурное или доброе?
Вот что я говорил себе, размышляя над моим последним письмом, в котором я рассказывал тебе о Сезанне. Я пытался судить его и, хотя я был искренен, к сожалению, сделал выводы, которые все-таки неверны. Как только Поль приехал из Маркусси, он пришел ко мне, настроенный более дружески, чем когда-либо. С тех пор мы проводим вместе по шесть часов в день. Мы встречаемся в его маленькой комнате, там он пишет мой портрет. В это время я читаю или мы болтаем. Когда мы сыты работой по горло, мы идем в Люксембургский сад выкурить трубочку. Мы говорим обо всем, главным образом о живописи. Большое место в разговорах занимают воспоминания. Будущего мы касаемся только попутно, когда говорим о нашем желании совсем не расставаться или задаем себе ужасный вопрос об успехе. Иногда Сезанн произносит речи об экономии и в заключение заставляет меня выпить с ним бутылку пива. Или он часами напевает глупейшие куплеты с глупейшими словами и глупейшей мелодией, тогда я объявляю что предпочитаю речь об экономии. Нас редко тревожат. Иногда какой-нибудь посетитель нарушает наше уединение. Тогда Поль начинает ожесточенно писать, а я застываю в своей позе, как египетский сфинкс, и непрошеный гость, смущенный таким рвением к работе, присаживается на минутку, не смеет двинуться и вскоре удаляется, шепча «до свидания», и тихонько закрывает за собой дверь. Я хочу описать тебе все подробно. Сезанн часто теряет мужество. Несмотря на его немного показное презрение к славе я вижу, что он хотел бы быть признанным. Когда у него плохое настроение, он говорит, что вернется в Экс и поступит в какое-нибудь торговое предприятие. Тогда я произношу длинные речи доказывая глупость такого решения, он легко соглашается и опять принимается за работу. Все же эта мысль его гложет. Уже два раза он чуть было не уехал; он может ускользнуть от меня каждую минуту. Если ты будешь ему писать, распиши самыми радужными красками наше будущее свидание с тобой. Это единственный способ его удержать.
Мы еще не выезжали за город, нас удерживает отсутствие денег, он беден, и я не богаче. Но все же на днях мы отправимся куда-нибудь помечтать на природе. Одним словом, несмотря на однообразие нашей жизни, мы не жалуемся, работа не дает нам скучать, а воспоминания, которыми мы иногда обмениваемся, освещают все своими золотыми лучами. Приезжай, нам будет веселее.
Я опять берусь за письмо, чтобы описать сказанное мною тем событием, которое случилось вчера, в воскресенье. Несколько дней тому назад я пришел к Полю и он совершенно хладнокровно сообщил мне, что уезжает завтра. Что же, покамест мы пошли в кафе. Я не читал ему проповедей. Я был так удивлен и так уверен, что логика тут бесполезна, что не рискнул возражать. Тем временем я искал какую-нибудь уловку, чтобы удержать его; наконец я придумал; я предложил ему написать мой портрет. Он принял предложение с радостью, и больше разговоров об отъезде не было. И вот этот проклятый портрет, который, по моему мнению, должен был удержать Поля в Париже, вчера чуть не заставил его уехать. Два раза он начинал портрет заново, все время был им недоволен. Наконец он решил его закончить и попросил меня прийти на последний сеанс в воскресенье утром. Итак, я вчера отправился к нему и, войдя, увидел открытый чемодан и наполовину опустошенные ящики. Поль с мрачным видом запихивал как попало свои вещи в чемодан. Он спокойно сказал:
— Я завтра уезжаю.
— А мой портрет? — спросил я.
— Я порвал его, — ответил он, — Сегодня утром я хотел его подправить, а он становился все хуже и хуже, а я его уничтожил и теперь уезжаю.
Я воздержался от какого-либо замечания. Мы пошли вместе завтракать, и я ушел от него только к вечеру. Днем он немного образумился, и, когда мы расставались, он обещал мне остаться. Но все это непрочно, если он не уедет на этой неделе, то уедет на следующей; и вообще, может уехать каждую минуту. Теперь мне даже начинает казаться, что он хорошо сделает, если уедет. Может быть, у Поля талант большого художника, но ему не хватит воли стать им. Малейшее препятствие — и у него опускаются руки. Я повторяю, пусть уезжает, он избежит многих трудностей…»
* * *
Золя со своими собственными многочисленными сложностями наконец устал нянчить Поля. В постскриптуме он добавлял: «Поль решил остаться до сентября, но окончательно ли это решение! Я надеюсь, что он не передумает». Золя уже незаметно подходил к заключению, высказанному в «Творчестве», что Сезанн обладал восприимчивостью художника, но не имел достаточно жизненной силы, чтобы стать великим мастером. «У Поля прекрасная натура, у него много природных данных, но он не переносит ни малейшего замечания, каким бы мягким оно ни было». Поль уже был одержим своей почти параноической боязнью прикосновений: «Они могут запустить в меня свои грабли (grappin)». Его чрезвычайные трудности в выполнении портретов проистекают от того чувства неудобства, которое он испытывал, находясь слишком близко с другим человеком, а также из его неспособности осуществить свои эстетические стремления. Эти две проблемы были для него неразрешимо связаны. Этим временем, вероятно, датируется набросок автопортрета, выполненный по фотографии. Голова на ней была затемнена, и в картине Сезанн предпринял несколько изменений, чтобы подчеркнуть характер. Он сделал более четким освещение, очертил подбородок, увеличил поле белого цвета, более явно подчеркнул скулы и усилил суровый насупленный взгляд. Все формы были резко очерчены. В лице было что-то загнанное, горько-агрессивное. В трактовке было нечто грубое, хотя угадывалась свободная широта, которую художник не смог явственно выразить. Эта работа обобщает его унылое, тревожное и надломленное состояние времени первого приезда в Париж.
В сентябре он вернулся в Экс. Что бы ни говорили друзья друг другу в последние дни, чтобы поднять взаимно дух, они должны были испытывать глубокое расстройство внутри. Поль, наверно, чувствовал, что его приезд был полным поражением и что у него нет никакого будущего как у художника. Золя, видимо, страдал от его глубокого эгоизма и неспособности присоединиться к нему в общей битве за искусство и литературу против пустого, неинтересного мира Парижа. В Эксе Луи-Огюст должен был торжествовать, когда претерпевший кару Поль сказал ему, что готов поступить в банк.
А Золя его телесные недуги лишь подхлестнули в желании схватиться с современным миром и овладеть его проблемами. В июле он замечал Байлю, что он занят написанием статьи, названной «О Науке и Цивилизации и их отношении к Поэзии». «Мой ум бодрствует и функционирует удивительно хорошо. Я верю, что в страданиях я только вырастаю. Я лучше стал видеть и понимать. Новые смыслы, которые раньше ускользали от меня, теперь открылись». Приятель из Экса свел его с группой студентов, которые издавали сатирическое обозрение «Травай», враждебно настроенное по отношению к Империи. Им не хватало поэта. Золя послал несколько стихотворений, и они были приняты, хотя их религиозно окрашенный идеализм был не совсем по вкусу издателю, Жоржу Клемансо, двадцатилетнему студенту из Вандеи. «Если обозрение будет продолжать выходить, — размышлял Золя, — я смогу составить себе кой-какое имя». Но полиция была начеку и поджидала первой возможности вмешаться. В это же время Золя каждый день ожидал письма из фирмы Ашетт; Буде, старый друг его отца и член Академии медицины, рекомендовал его, но письмо так и не пришло. В первый день 1862 года Буде попросил Золя разнести по Парижу новогодние поздравления и заплатил ему луидор — это был акт замаскированного милосердия.
Глава 3
Новое начало
(1862–1865)

Поль безнадежно томился в банке и обнаружил, что он не может оставить мечты об искусстве. На полях счетов он малевал рисунки и писал стихи. Один куплет должен был часто повторяться в семье, так как его сестра Мари помнила его еще в 1911 году:
«Мой папаша-банкир не мог видеть без дрожи
Живописца, рожденного в недрах его счетоводства».
Поль все еще оставался художником в будущем, но оставить живопись он не мог. Он писал Золя в январе 1862 года, письмо потеряно, как и все прочие письма к Золя до 1877 года, но сохранился ответ: «Прошло много времени с тех пор, как я писал тебе, не знаю, почему так получилось. Париж не принес нашей дружбе ничего хорошего… Разные злосчастные недоразумения внесли холодок в наши отношения, какой-нибудь неправильно понятый поступок или какое-нибудь резкое слово. Я не знаю и не хочу знать. Все равно я верю, что ты по-прежнему мой друг и считаешь меня неспособным на подлый поступок и уважаешь меня, как прежде… Но я не хочу в этом письме пускаться в объяснения. Я хочу только как друг ответить на твое письмо… Ты советуешь мне работать и делаешь это так настойчиво, что можно подумать, что работа меня отталкивает».
Возможно, Поль пытался придать этим новую силу своему собственному порыву к службе. Похоже, что он был чересчур переполнен чувством поражения, чтобы помышлять о новом визите в Париж.
В Париж приехал Байль, он стал заниматься в Политехнической школе. Они виделись с Золя по воскресеньям и средам. «Мы не смеемся помногу».
Золя, по-видимому, сумел выбраться на лето в Экс с Байлем, и что-то подобное старинному согласию вновь установилось для этой троицы, чему способствовала атмосфера Прованса, которая столь много значила для смелых мечтаний и непринужденной болтовни. Золя начал «Исповедь Клода», роман в форме рассказа друзьям. Он попытался воссоздать настроение романтического идеализма, которое было у них несколько лет назад, и показать, что с ним стало после горького испытания каждодневным опытом в дегуманизированном городе-мире. «Вера вернулась. Я живу и надеюсь».
Польтакже снова начал верить в себя и снова питать надежды. От Золя мы знаем, что он писал пейзажи и пытался выработать систему, которая предохранила бы его от повторения потрясений, испытанных в Париже. 29 сентября Золя писал: «…по поводу вида плотины я очень жалею, что дожди мешают твоей работе. Как только выглянет солнце, направь свои шаги к большим скалам и постарайся закончить пейзаж… Есть одна надежда, которая, несомненно, поможет мне рассеять мой мрак: возможность в скором времени пожать твою руку. Я знаю, это еще не вполне решено, но ты позволяешь мне надеяться, а это уже кое-что. Я полностью одобряю твою идею приехать поработать в Париж, а потом вернуться в Прованс. Я верю, что это хороший способ избежать воздействия школ и развить свое природное дарование, если оно есть».
Золя пытался также преодолеть романтические мечты о жизни, которые восторженно разделялись обоими друзьями, и предлагал: «Мы будем жить организованно — встречаться два вечера в неделю, а в остальное время работать». К этому он чувствительно добавлял: «Те часы, что мы проведем вместе, не будут пустыми. Ничто не вдохновляет меня так, как возможность поболтать с другом немножко. Надеюсь, и ты думаешь так же».
В Эксе Поль посещал вечерние классы вместе с Нюма Костом, служившим в то время у стряпчего, с Солари и Юо, который основал любительскую театральную труппу «Театр дю Пон-де-л’Арк», для которой сам писал пьесы. В ноябре Поль вернулся в Париж. Луи-Огюст, похоже, с печалью убедился, глядя на поведение Поля в его бухгалтерии, что из сына никогда не выйдет банкира или делового человека. Примерно в это время, по всей видимости, в Жа де Буффан была устроена мастерская.
Поль поселился в Латинском квартале, на улице около Люксембургского сада, и снова начал ходить к Сюису, по утрам и вечерам. Теперь, когда он приехал с менее экстравагантными надеждами и более ясно представлял, что ему не нравится, он смог освоиться получше. Так как Вильвьея в Париже не было, он обратился к другому посредственному академисту, Шотару, с просьбой исправлять его этюды. На этот раз он остался в Париже на полтора года.
Золя работал в издательстве и книготорговле у Ашетта. Он пытался заинтересовать хозяина, положив ему рукопись своих стихов на стол, но Ашетт просто посоветовал ему писать прозу. Тем не менее он увеличил жалованье Золя до 200 франков в месяц. Тот поменял жилье и в июле оказался в трехкомнатной квартире на улице Фейантин, 7, где начал по вторникам давать обеды для друзей. У Ашетта он познакомился с некоторыми известными писателями, например с Дюранти, непризнанным апостолом литературного реализма, печальным и немного язвительным человеком, к которому Золя с интересом прислушивался.
Поль встречался с ним время от времени, как и с другими приятелями из Экса — самоуверенным мазилой Шайяном или Огюстом Трюфемом, братом скульптора, который получил первую премию на конкурсе в Эксе в 1861 году. Теперь Трюфем был студентом Школы изящных искусств в Париже. Письмо Поля Косту от 5 января 1863 года показывает, что он все еще доволен академическими кругами, хотя уже довольно грубо отзывается об архиреакционере Синьоле. Однако произошло решающее событие: он открыл Делакруа. Чувство цвета всегда было сильным местом Поля, а от Делакруа он получил стимул, который никогда не забывал.
В академическом мире заправляли престарелый Энгр и его ученики, Делакруа был болен и близок к смерти. Его обычно сравнивали с Энгром в пользу последнего, картины Делакруа выставляли неохотно. Романтическое направление в живописи было, таким образом, в сильном упадке. Антиакадемическую борьбу подхватил Курбе с его реализмом, он уже снискал некоторое признание, но все еще подвергался яростным нападкам. Более умеренный Коро и барбизонская группа работали в основном в области пейзажа. Было вполне естественным, что Делакруа оказался первым из художников-бунтарей, которые произвели сильное впечатление на Поля и позволили ему ясно осознать новые возможности искусства. Искусства, в котором ему предстояло сыграть свою роль. Таким образом, конец 1862-го и начало 1863 года были тем моментом, когда Поль сделал первые шаги к освобождению своих творческих способностей.
«Дружище,
это письмо предназначается тебе и мсье Вильвьею одновременно. А вообще, я мог бы давно написать вам, ведь прошло уже два месяца, как я уехал из Экса. Но вот написать, что у нас стоит прекрасная погода, я не могу. Однако сегодня солнце, до этого скрытое облаками, выглянуло в окошечко между ними и, желая достойно завершить день, послало нам несколько бледных лучей.
Надеюсь, что это письмо застанет вас в добром здоровье. Не унывайте, и постараемся в скором времени увидеться.
Как и в прошлый раз (ибо подобает, чтобы я вас осведомил, как я провожу день), утром в восемь часов я иду к Сюису, работаю до часу, а вечером от семи до десяти. Работаю спокойно и так же спокойно ем и сплю. Я часто хожу к мсье Шотару, он так добр, что поправляет мои рисунки. На второй день Рождества я у них обедал, и мы пили вино, которое прислали Вы, о мсье Вильвьей. Здорова ли ваша молодежь, Фанни и Тереза, надеюсь, что да, как и вы все? Пожалуйста, передайте поклон мадам Вильвьей, своему отцу и сестре. Кстати, как подвигается Ваша картина, эскиз которой я видел? Я рассказал мсье Шотару ее сюжет, он хвалил идею и сказал, что может выйти что-нибудь интересное.
О Кост, молодой Кост, продолжаешь ли ты пилить достопочтенного старого Коста?
Занимаешься ли ты еще живописью и как проходят академические вечера в школе? Скажи, кто тот несчастный, который теперь позирует вам, расставив ноги или держась за живот? У вас ли еще две образины прошлого года?
Уже месяц, как Ломбар вернулся в Париж. Я знал, что он посещает ателье Синьоля. Достопочтенный маэстро заставляет своих учеников заучивать несколько приемов, и они начинают писать точно так, как пишет он сам. Это красиво, но не хорошо. Надо же было, чтобы случилось такое! Вообще же ученик Ломбар сделал большие успехи.
Еще мне очень нравится Фелисьен, сотрапезник Трю-фема. Простак смотрит на все глазами своего знаменитейшего друга и превозносит его колорит. Фелисьен все твердит, что Трюфем выше Делакруа, что только Трюфем понимает цвет, и вот Фелисьен получил рекомендацию в Школу изобразительных искусств; только не подумай, что я завидую.
Сейчас я получил письмо от своего отца, он приезжает тринадцатого. Скажи мсье Вильвьею, чуо он может дать отцу любое поручение, а что касается мсье Ламбера, пусть он мне напишет или поручит кому-нибудь написать (мой адрес сейчас — проезд Сен-Доминик д’Анфер), что и где купить и как послать. Я к его услугам. Среди всего этого я вспоминаю с сожалением
Те берега ручья, куда, бывало, Ходили мы с палитрою в руках, Со всякою провизией в кульках, И как тебя ничто не удержало, Когда споткнулся ты о камешек слегкаИ полетел в овраг, помяв бока, А Блэка помнишь ли. Но вот листву дубравыЗимы мертвящее дыхание желтит. На берегу ручья пожухли травы, Деревья голые. Осенний, мертвый вид. Мистраль их гнет, и, как скелет огромный, Они ветвями шевелят безмолвно.(Перевод А. Парнаха)
Надеюсь, что это письмо, которое я никак не могу кончить, найдет вас всех в добром здоровье. Поклон твоим родителям и друзьям. Жму тебе руку. Твой друг и собрат по искусству
Поль Сезанн.
Повидайся с молодым Пено и передай ему привет».
Поль, видимо, хотел поступить в Школу изобразительных искусств, но потерпел неудачу на экзаменах. Экзаменатор, говорят, заметил: «Он малюет буйно». Если этот анекдот правдив и не сочинен позже, то он уже показывает тот дикий стиль, который он сам называл couillarde («живопись яйцами»), но это маловероятно. У Сюиса кроме общения с академистами вроде Вильвьея, Шотара, Шайяна, Трюфема и других он познакомился с молодыми художниками, придерживавшимися мятежных взглядов. Среди его друзей был Антуан Гийме, красивый, беспечный и добродушный раблезианец, ученик Коро и Удине, он получал неплохое содержание от своего отца-виноторговца. Позднее он и Поль вместе отправлялись на этюды на парижские окраины. (Золя списал с него пустого модника Фажероля в «Творчестве», но в реальном человеке с его здоровой веселостью было больше положительных черт, чем в литературном персонаже.) Был также испанец Франсиско Ольер, обитавший в Сен-Жермене, куда Поль ходил писать вместе с ним. Никто из этих двоих не был самобытным или даже умелым художником. Возможно, через Ольера, который родился в 1837 году в Пуэрто-Рико, Поль познакомился с Камилем Писсарро, чье влияние коренным образом сказалось на его развитии.
Писсарро родился в 1830 году на Виргинских островах, его родители были испанские евреи. Посланный мальчиком учиться в Европу, он в семнадцать лет был отозван назад, чтобы заняться работой в семейном деле. Но он воспротивился этому и в возрасте двадцати двух лет отправился с датским художником Фрицем Мельби в Каракас, а на следующий год во Францию, где всецело посвятил себя живописи. Он повстречал Коро и испытал его влияние, но никогда не был ничьим учеником. В Антигуа он приобрел привычку работать на открытом воздухе; во Франции он был первым, кто регулярно следовал этому методу. Хотя он выставлял пейзажи в Салоне 1850 года, в Салоны 1861 и 1863 годов его не приняли, однако, несмотря на то, что он работал в совершенно низком с официальной точки зрения жанре, он все же сумел выставляться в большей части Салонов между 1864 и 1870 годами. Обладая благородной натурой и уравновешенным характером, он пользовался большим влиянием и фактически был одним из основателей импрессионизма. К моменту его появления уже разгорелась борьба против салонного искусства благодаря Курбе, который ввел новые темы из жизни простого народа и отказывался идеализировать свои сцены, считая себя социалистом школы Прудона. В то же время возникло целое течение, противоположное ранее принятому, в пейзажной живописи Коро и барбизонцев, но их искусство еще не вполне освободилось от системы условностей. В искусстве Писсарро логика нововведений, начатых Курбе и Коро, достигла полного развития: в осознании того факта, что новый реализм, в своем совершенном виде, должен использовать новые методы работы, которые, в свою очередь, должны основываться на новом отношении к природе, — в первую очередь на новом проникновении в цветовые соотношения. Позже, в 1895 году, Писсарро говорил: «Насколько же я верно угадал в 1861 году, когда Ольер и я отправились посмотреть на того чудаковатого Сезанна из Прованса в мастерскую Сюиса, где он рисовал обнаженную модель под насмешки всех бездарных художников школы, в том числе знаменитого Жаке, который давно скатился к слащавеньким картинкам, идущим на вес золота!» Если Писсарро прав в датировке (1861, а не 1862–1863), то, значит, Поль встречался с ним в свой первый приезд в Париж. Но в любом случае тогда он был слишком испуган, чтобы извлечь полную пользу из этой встречи. Писсарро мог тогда заметить, что в работах молодого провансальца было нечто особенное, но можно с уверенностью сказать, что пользу из их общения Поль начал извлекать не раньше 1863 года.
Обращение к настоящему освещению композиции или отдельной фигуры на открытом воздухе в своем естественном окружении, в противовес искусственной перекомпоновке сцены в мастерской, понемногу раскрывало глаза художников на действительные цвета вещей, на истинную природу тени или отраженных цветов. В этом отношении влияние английского искусства через Констебла и Бонингтона (чей учитель испытал влияние как Тёрнера, так и Констебла) совпало с главным направлением того времени к реализму и непосредственной правде, в отличие от обобщенных канонов академической красоты: эффектных канонов, возникших в результате слабости из предшествующего искусства и вырванных из условий того времени, когда они были в силе.
Давид писал свою картину с видом Люксембургского сада прямо из окна своей тюрьмы; Тёрнер был увлечен идеей соответствия цвета интенсивности дневного освещения. Он и Констебл разными путями вводили те или иные аспекты непосредственно наблюдавшейся природы в свое искусство. 1860-е годы видели новое приложение этих принципов, связанных разными сторонами с работами Делакруа и Курбе. Йонкинд, подобно Констеблу, обнаружил, что локальные цвета меняются в зависимости от времени года или суток, он написал два вида Нотр-Дам с одной и той же точки зрения — один холодным утром, другой при теплом закате. Одним из первых он стал писать на открытом воздухе акварели. Моне в 1865–1866 годах писал одно и то же место дороги в Нормандии под пасмурным небом и покрытой снегом. Он писал свой «Завтрак на траве», отдавая дань Мане, но по возможности на пленэре, стремясь показать, чего не хватало в картине последнего (студийное освещение в ней чрезмерно аффектирует фигуры). Подобные недостатки сказываются и в «реалистически» трактованных фигурах у Курбе, например в «Девушках на берегу Сены» или в его «Купальщицах», в которых Делакруа нашел дисгармонию между фигурами и окружением. В Швейцарии Фрэнк Баскер писал молодую англичанку непосредственно в роще.
В 1860 году Писсарро был все еще близок к Коро, хотя в организации пространства его композиции были интересней. В 1864–1865 годах у него заметно влияние Курбе, например в использовании мастихина и резких контрастах светлых и темных масс. В 1865 году его цветовая гамма посветлела, стала более воздушной, к 1866-му он работал в основном на открытом воздухе. Жил Писсарро в условиях сильной нужды, его хозяйство вела служанка его матери, которая родила ему сына в 1863-м и дочь в 1865 году. В 1870 году они оформили брак и имели всего семь детей. Критик Жан Руссо назвал в 1866 году «Берега Марны» Писсарро «уродливым, вульгарным мотивом» и полагал, что художник «использовал свой сильный талант для показа вульгарности современного мира, возможно, с сатирическими намерениями».
В том, 1863, году чрезвычайно реакционное жюри (возможно, возглавлявшееся Синьолем, художником, который предостерегал Ренуара, чтобы тот не стал вторым Делакруа) отвергло все работы, отличавшиеся пусть даже малой оригинальностью: Фантен-Латура, Легро, Мане, Уистлера, Йонкинда, Бракмона, Лорана, Валлона, Казена, Арпиньи. Художники и их сторонники протестовали. Наполеон III нанес неожиданный визит в Салон, попросил показать отвергнутые работы и объявил их столь же хорошими, что и висевшие на стенах. Указом от 24 апреля он учредил «Салон отверженных». Открытие этого Салона произошло 15 мая в здании того же ранга, что и официальный Салон, — во Дворце промышленности, построенном к Всемирной выставке 1855 года (и уничтоженном в 1900-м, когда прокладывали проспект Александра III). Многие из отвергнутых чувствовали, что участвовать в этом начинании будет довольно стыдно, но около шестисот картин приблизительно трехсот художников все же были развешаны, к этому количеству добавилось еще несколько залов, полных рисунков, гравюр и скульптур. Золя дал длинное и живое описание «Салона отверженных» в «Творчестве». Клод и Сандоз прошли по монументальной лестнице. «Клод… брезгливо спросил: «Скажи, пожалуйста, неужели мы должны пройти через их грязный Салон?» Они выбрали короткий путь, прошли с брезгливым видом мимо продавщиц каталогов, мимо огромных портьер красного бархата, которые почти совсем скрывали тенистый застекленный сад с крытым входом.
Картины развесили в прекрасном помещении, даже официально принятые развешивают не лучше: портьеры из старинных вышитых ковров обрамляли высокие двери, карнизы были обиты зеленой саржей, скамейки — красным бархатом, экран из белого полотна затенял стеклянный потолок; в анфиладе зал с первого взгляда не замечалось ничего особенного: здесь сверкало такое же золото рам, окаймлявших такие же красочные полотна. Но почерк молодости излучал невыразимую словами радость. Толпа, уже очень плотная, с каждой минутой увеличивалась; все покидали официальный Салон и, подстегиваемые любопытством, подзадориваемые желанием судить судей, бежали сюда, с самого порога захваченные, заранее уверенные, что увидят необыкновенно забавные вещи. Становилось невыносимо, жарко, тонкая пыль поднималась от паркета, можно было сказать наверняка, что к четырем часам здесь будет буквально нечем дышать… Вскоре в оглушительном шуме толпы он (Клод. — Пер.) различил сдержанные смешки, которые отчетливо выделялись на фоне шарканья ног и гула голосов. Зрители явно издевались над некоторыми полотнами. Это встревожило Клода; несмотря на суровую неколебимость новатора, он был чувствителен и суеверен, как женщина, всегда полон дурных предчувствий, всегда заранее страдал, опасаясь, что его не признают и осмеют. Он прошептал: «Они здесь веселятся».
Критики предложили публике смеяться, и она потешалась вовсю. Карикатуристы рисовали «Выставку комиков»; центром внимания и насмешек был «Завтрак па траве» Мане, с мужчинами в современной одежде и обнаженными женщинами. Золя подробно описал дикое веселье и яростное неприятие, которое она вызывала. Особые насмешки провоцировал термин «пленэр». Это произведение нарушало условности, согласно которым освещенные участки должны были резко отличаться от затененных, чистые цвета должны были связываться друг с другом при посредстве полутонов, а тени должны были состоять исключительно из коричневого, черного и серого. Идея объединения одетых и обнаженных фигур шла от Джорджоне, а композиция «Завтрака на траве» была основана на гравюре с Рафаэля. Золя обнаруживал «ощущение цельности и силы», «свободных и необычных свойств». Несомненно, со слов Поля он говорил о «весьма тщательной правдивости в сочетании тонов». Позже в набросках к «Творчеству» он записал, имея в виду Поля: «Салон отверженных». Большие споры со мной». Поль был восхищен работой Мане и пробудил энтузиазм Золя. Открытие Делакруа и дискуссии у Сюиса (которые, не приходится сомневаться, лежали в основе его критики методов Синьоля) подготовили Сезанна к разрыву с Салоном и Школой изобразительных искусств. Однако именно «Салон отверженных» сыграл решающую роль. Потребность отбросить все условные подходы и посмотреть на жизнь свежим, не замутненным предвзятым видением взглядом стала вполне отчетливой. Это стало принципом, которого должно было придерживаться все время, во всяком месте. Золя подытожил воздействие независимого Салона: «Было много скверных картин… но в этом нестройном хоре выделялись пейзажи, почти все написанные в искренней, правдивой манере, а также портреты, большей частью очень интересные по фактуре письма. Все эти вещи так и благоухали юностью, смелостью и страстью. В официальном Салоне было меньше плохих полотен, но большинство из них были банальны и посредственны. Здесь же чувствовалось как бы поле битвы, веселой битвы, преисполненной воодушевления, когда трубят горнисты на заре рождающегося дня, когда идут на врага с уверенностью, что опрокинут его еще до захода солнца. Клода подбодрило это дыхание битвы, он прислушивался к смеху толпы с вызывающим видом, как бы слыша свист пролетающих пуль».
Мане оставался для Поля символом освобождения. Спустя много лет он с удовлетворением отзывался о том, как «Мане дал под дых Институту». Он отдал дань Мане в своем искусстве, не имитируя сколько-нибудь манеру последнего, а используя его работы как толчок для своих собственных фантазий — в «Завтраке» и «Олимпии». Золя также, защищая Мане, находил в его живописи некоторое сходство с той борьбой, которую сам вел за победу над романтизмом и за нисхождение на реальную землю. Но вскоре после влияния Мане Поль увлекся Писсарро с его тихим призывом к большей правде в передаче цвета, и важность Мане для него уменьшилась. Позже он называл Мане «бедным в области ощущения цвета», в то время как Мане в свою очередь находил его «не более как интересным колористом».
Мане в это время был тесно связан с Бодлером, любимым поэтом Поля, чей «Поэт современной жизни» появился в 1863 году, написанный в то время, когда Мане работал над «Музыкой в Тюильри». В «Цветах зла» Бодлер восклицал: «Человек, который не принимает условий обыденной жизни, продает душу». При этом он не имел в виду, что условности должны пассивно приниматься как хорошие. Он имел в виду, что любое сопротивление должно исходить из четкого осознания границ обыденного существования и условий их возникновения. Романтические мятежные парения больше не ценились. Поэт или художник должен был смотреть, не уклоняясь, на то, что происходит с человеком. Золя позже выразил это на свой собственный лад: «Романист неизбежно убьет героя, если он не следует обычному течению заурядной жизни». Курбе и Домье низвели искусство в область действительного, к специфическим формам и образам XIX столетия; теперь проблема заключалась в том, чтобы тщательно и всесторонне развить это, придать новую глубину и направления. Мане, заметил Поль, сделал один из важных шагов к этому освобождению. Его пример вдохновил также Моне, Базиля и их друзей, которые в 1865 году стали писать фигурные композиции на открытом воздухе.
Весной этого года Поль и Золя предприняли много воскресных прогулок. Уезжая на ранних поездах, они добирались до Фонтенэ-о-Роз и шли через поля к лесам Верьера. «Мы обычно уезжали на первом воскресном поезде, — писал позже Золя, — Поль тащил полное снаряжение художника, у меня была только книжка в кармане». Они гуляли по большим земляничным полям в Ольнэ, там, где начинается долина Лу. Однажды они заблудились в лесу; Поль забрался на дерево, но только ободрал ноги, а увидел лишь верхушки деревьев.
«Однажды утром, — писал Золя, — блуждая по лесу, мы набрели на пруд вдалеке от всяких дорожек. Это был заросший ряской водоем, который мы назвали Зеленый пруд, не зная его настоящее имя, позже я слышал, что его называют Шало. Зеленый пруд стал целью наших прогулок, мы чувствовали к нему тягу как поэт и художник. Мы горячо его полюбили и проводили все воскресенья в сочной траве вокруг. Поль начинал этюд, воду на заднем плане с большими плывущими тростниками, с деревьями, обрамляющими пруд как театральные кулисы. Ветви деревьев сплетались как купол, в котором возникали голубые дыры, когда доносились порывы ветерка. Тонкие лучи солнца пересекали тени, подобно золотым нитям, и бросали на лужайки сверкающее кольца, округлые диски, медленно перемещавшиеся. Я оставался там часами, не ведая скуки, обмениваясь время от времени словом с моим спутником или закрывая глаза и подремывая в неясном розовом свете, который обволакивал меня. Мы устраивали там привал, завтракали, обедали и только сумерки заставляли нас выбираться домой».
Вечерами по дороге домой они иногда заходили в деревню Плесси-Робинсон насладиться ее шумной праздничной атмосферой. Там, в вечереющем воздухе, виднелась полускрытая под старым каштаном таверна, где молодые люди слушали вальсы из шарманки и наблюдали за плывущими в воздухе под лампой женскими платьями.
О возвращении Поля в Экс в 1863 году свидетельств не сохранились. Если он и приезжал туда, то ненадолго. Более вероятно, что он весь год провел в Париже, довольный тем, что сумел приспособиться к жизни и не желая ломать сложившееся житье. Он продолжал знакомиться с новыми молодыми художниками. Впервые он мог разговаривать и работать вместе с людьми одного с ним ремесла, коих он уважал и чей интерес к его работе по-настоящему ободрял его. Золя ходил с Полем во многие мастерские и завязал отношения с Бельяром, Писсарро, Моне, Дега, Фантен-Латуром. В основном через Поля он таким образом хорошо познакомился со многими заметными художниками еще до того, как завязал связи в литературном мире. Вскоре через Дюранти и Гийме он встретился с Мане, который написал его портрет в 1868 году.
Гийме, по всей вероятности, сводил Поля в Монпелье к Фредерику Базилю, высокому, долговязому юноше, с белокурой бородкой и длинными усами, которому был двадцать один год. Родившись в богатой семье протестантов-виноградарей, он приехал в Париж изучать медицину, но поступил в студию к Глейру (преподавателю Школы изобразительного искусства). Он также нашел «Салон отверженных» откровением. У него была своя мастерская на улице Кондамин, в Батиньоле, которую он делил с другим молодым художником из студии Глейра, Огюстом Ренуаром, родившимся в Лиможе в 1841 году. Баз иль пригласил Писсарро и Поля посмотреть на Ренуара: «Я привел двух новых рекрутов». Ренуар, который был сыном бедного портного, зарабатывал себе на хлеб с тринадцати лет. Он за гроши расписывал фарфор, веера, шторы, но сумел скопить немного денег, которых хватило на посещение художественных занятий в течение года. Там его укоряли за то, что он не понимал, «что большой палец Германика должен производить более значительное впечатление, чем палец торговца углем на углу». Однажды Глейр сказал: «Я полагаю, вы просто пишете для удовольствия». На что Ренуар ответил: «Конечно, если б я не имел от этого удовольствия, я просто бы не занимался этим». Также в новой компании был англичанин Сислей, родившийся в 1839 году, и Арман Гийомен, который был на два года моложе. Он родился в Париже, но был увезен в Мулен-сюр-Алье, где жил до шестнадцати лет, после чего вернулся в Париж и стал подмастерьем в магазине у дяди, торговавшего холстами. Семья была против его занятий искусством, и он жил, не получая никакой помощи. Вынужденный зарабатывать, чтобы содержать жену и детей, он занимался утомительной работой, пока наконец в поздние годы неожиданное наследство не позволило ему отдавать живописи все свое время. Поль любил писать вместе с ним на набережных или в пригородах.
Существует только одно письмо, написанное Полем в 1864 году, — Нюма Косту от 27 февраля. Кост вытянул неудачный жребий в призывной лотерее и не был достаточно богат, чтобы купить себе замену, как то сделал Поль, когда подошло время военной службы. Поль советовал Косту приехать в Париж и записаться в полк в столице. Байль тогда смог бы его представить ротному лейтенанту, так как он знал многих «вышедших из той же школы, что и он, или из Сен-Сира». Это означало бы более свободный режим и меньше нарядов. «Что касается меня, — писал Поль, — мой милый, то волосы и борода растут у меня быстрее, чем способности. Но не надо отказываться от живописи, можно понемногу заниматься ею, даже будучи солдатом. Я встречаю здесь военных, которые ходят на лекции по анатомии в Школе изобразительных искусств (которая, ты должен это знать, здорово изменилась и которую отделили от Института). Ломбар рисует, пишет и суетится больше прежнего. Я еще не смог сходить посмотреть его рисунки, сам он ими очень доволен. Я два месяца не трогал свою (неразборчивое слово, возможно, «Ладья Данте». — Дж. Л.) с Делакруа. Но все же перед отъездом в Экс я ее допишу. Наверно, я поеду в июле, если только отец не вызовет меня раньше. Через два месяца, то есть в мае, откроется выставка, как в прошлом году; если ты будешь здесь, мы посмотрим ее вместе».
Но, однако, больше «Салона отверженных» не было. «Я скоро увижу Вильвьея», — добавлял Поль в письме Косту, который последовал совету, приехал в Париж и, записавшись в полк в столице, провел в ней семь лет.
Двадцать первого апреля Золя писал Валабрегу: «Сезанн сбрил бороду и принес завитки волос на алтарь Венеры». Поль побрился в надежде понравиться некой девице. Непохоже, чтобы девушка сама докучала просьбами такому застенчивому молодому человеку. Видимо, в это время он приобрел некоторые богемные привычки — носил красный жилет и укладывался поспать на уличных скамейках, подкладывая вместо подушки башмаки. Его лы-сипа начала проявляться рано; на фотографии и автопортрете около 1861 года ее еще не видно, но в семидесятые годы она уже достаточно велика.
В июле Поль вместе с Байлем вернулся в Экс. Ныне у него была мастерская в Жа де Буффан, в которую он не пускал никого. Он ходил на этюды в окрестностях Экса и, возможно, в Эстак около Марселя, где ему нравились сильные контрасты красных черепичных крыш и фабричных труб и богатая синева моря в рамке далеких холмов. Его мать сняла там маленький рыбацкий домик на церковной площади. 6 июля Золя писал Антонену Валабрегу: «Не нанес ли тебе Байль страшный удар своим добрым толедским клинком, и не уврачевал ли эту рану Поль добросердечной корпией своего безразличия?» Валабрег полагал, что Поль сильно изменился. Молчаливый парень обрел язык и стал употреблять его на весьма радикальные политические разговоры. «Он придумывает теории и развивает доктрины. Хуже всего, он позволяет обсуждать с ним политику (конечно, теоретически) и говорит самые страшные вещи о тиране (Наполеон III)».
Валабрег и Абрам были два экских еврея, которые несколько раз служили моделями Сезанну. С первого Поль написал несколько портретов; вместе эти приятели появились в картинах «Беседа» и «Гуляющие». Золя, как было уже сказано, в течение нескольких лет оставался в окружении приятелей из Экса: Поля, Байля, Солари, Шайяна, Коста, потом Алексиса и «великого Валабрега» (как Поль называл его). С другими жителями Экса Золя переписывался: с А.-Ф. Марионом, жившим в Марселе, Маргри, печатавшим романы в местной прессе, критиком Мариусом Ру. В его окружении лишь Ж. Пажо появился из парижского лицея. Экская группа держалась вместе до 1870 года. В этом году (1864) Золя последовал совету Ашетта обратиться к прозе и напечатал (не у Ашетта, а у Лакруа) подборку коротких и довольно поверхностных новелл «Сказки Нинон». Книга состояла из трех сказок, напечатанных в провинциальных журналах, еще один рассказ, получше, был отвергнут «Фигаро», три пустяка и претензия на философскую сказку. (Эту сказку отверг редактор детского журнала у Ашетта, сказав: «Да вы мятежник!»)
Восемнадцатого августа Золя написал Валабрегу развернутое письмо-программу под названием «Экран». Поль должен был читать это письмо, и, вне сомнения, он слышал, как Золя развивал свои экранные тезисы, которые помогли ему прояснить в уме роль творческого сознания в изучении и изображении природы. Золя начал со следующего: «Всякое произведение искусства есть окно, открытое в мир. В раму окна вставлен своего рода прозрачный экран, сквозь который можно видеть более или менее искаженное изображение предметов с более или менее измененными очертаниями и окраской. Эти изменения имеют происхождение в природе экрана». Тот факт, что Золя, литератор, пишет другому литератору, Валабрегу, и применяет при этом метафору, полностью заимствованную из области изобразительного искусства с целью объяснить творческую деятельность, показывает, сколь сильно они все были тогда вовлечены в рассуждения об искусстве.
Золя обсуждает экраны-гении, которые производят картины великого значения, а также экраны маленькие и школьные, которые возникли вследствие практики незначительных художников в использовании образов, сотворенных гениями. Он различает три основных типа экранов: классический, романтический и реалистический.
«Классический экран — это прекрасная пластина очень чистого стеатита, прочная, мелкозернистая, молочно-белого цвета, образы вырисовываются на ней четко, простыми черными контурами. Цвет предметов слабеет и, проходя сквозь матовую толщу экрана, иногда совсем исчезает. Что касается линий, то они испытывают заметное искажение, стремятся к закругленной или прямой линии, становятся тоньше, длиннее, приобретают плавную волнистость. Мир на этом холодном полупрозрачном экране теряет всю свою резкость, всю свою живую, светящуюся энергию, он сохраняет только тени и воспроизводится на гладкой поверхности, подобно барельефу. Одним словом, классический экран — это увеличительное стекло, которое придает гармонию линиям и не пропускает красочных лучей.
Романтический экран — это зеркальное стекло, светлое, хотя кое-где слегка затуманенное и расцвеченное семью цветами радуги. Оно не только пропускает краски, но придает еще больше им яркости, иногда даже преображает и смешивает их. Контуры тоже подвергаются в нем искажениям: прямые линии стремятся к ломаным, окружности превращаются в треугольники. Мир, видимый через этот экран, — мир, полный бурь и движения. Образы выступают ярко, крупными пятнами тени и света. Ложь в воспроизведении натуры здесь еще больше ошеломляет и чарует, в ней нет покоя, но есть жизнь — жизнь, более напряженная, чем наша; здесь нет плавной гармонии линий и строгой скупости красок, зато есть движение, полное страсти, и сверкающий блеск придуманных светил. Словом, романтический экран — это призма с сильным преломлением, которая ломает каждый луч света и разлагает его на ослепительные цвета солнечного спектра».
Последняя часть этих рассуждений заставляет вспомнить об импрессионизме, хотя к тому времени программа этого движения еще не была выработана. Прибегая к таким выражениям, Золя относит это художественное явление скорее к романтическому преображению природы, чем к реализму. Он продолжает:
«Экран реалистический — это простое оконное стекло, очень тонкое и светлое; оно стремится к такой совершенной прозрачности, чтобы образы проходили сквозь него и воспроизводились затем во всей своей реальности. Итак, никаких изменений ни в линиях, ни в цвете: точное, искреннее и наивное воспроизведение. Реалистический экран отрицает самое свое существование. По-истине у него чересчур большое самомнение. Что бы он ни говорил, он существует, а раз так, он не может бахвалиться тем, что воссоздает нам мир во всей его сверкающей красоте, присущей истине. Каким бы светлым, каким бы тонким, каким бы похожим на оконное стекло он ни был, у него есть все же свой собственный цвет, есть какая-то толщина; он окрашивает предметы, он преломляет лучи, как и всякий другой. Впрочем, я охотно соглашаюсь, что изображения, которые он дает, — самые реальные; его воспроизведение достигает высокой степени точности. Конечно, трудно характеризовать экран, главное свойство которого состоит в том, что он почти не существует; и все же я думаю, что оценю его правильно, если скажу, что его прозрачность замутнена тонкой серой пылью. Всякий предмет, на который мы смотрим сквозь эту среду, теряет в своем блеске или, скорее, слегка темнеет. Кроме того, линии становятся более жирными, я бы сказал, расплываются в ширину. Жизнь предстает на экране зримой и весомой; это жизнь материальная, пожалуй, слишком тяготеющая к земле. Итак, реалистический экран, возникший в современном искусстве последним, — это ровное, очень прозрачное стекло, не слишком чистое, дающее такие точные изображения, какие только могут быть воспроизведены на экране».
Золя и Поль в это время рассматривали себя как реалистов (школа Курбе в сравнении с Энгром и Делакруа), но интересно, что в конце концов Поль будет использовать формальные элементы из каждой группы — линию тени, создающую рельеф (для него в границах цвета), солнечный спектр, непосредственное богатое видение. Аналогия экрана у Золя имеет свои достоинства, но она представляет отношение «темперамента» или сознания к внешнему миру чересчур жестким и неизменным. Диалектика полного эстетического охвата природы при этом отсутствует.
В начале 1865 года Поль возвратился в Париж и снял жилье в квартале Марэ, на правом берегу около Бастилии, на улице Ботрейн, 2, в доме XVII века, отеле Шарни, населенном преимущественно служащими и людьми скромного достатка, но сохранявшем по-прежнему элегантный фасад. Красивые зеленые двери открывались в сводчатый коридор, где еще сохранялась обшивка деревянными панелями. У Поля была мансарда на пятом этаже, куда он забирался по лестнице, находившейся в дальнем углу двора. Он знал, что шестью или семью годами раньше в этом доме жил Бодлер, но причиной того, что Поль поселился там, был, видимо, Ольер, у которого там была комната (по крайней мере такой адрес Ольера указан в каталоге Салона 1865 года). Поль оставался в этой мансарде около двух лет. 15 марта он написал Писсарро письмо, из которого видно, что они были в хороших, но еще не вполне близких отношениях:
«Мсье Писсарро, простите, что не зашел к Вам, но я еду сегодня в Сен-Жермен и вернусь только в субботу с Ольером, мы отнесем его картины в Салон; он написал мне, что сделал, как я понял, библейскую битву и большую картину, которую Вы знаете. Большая очень хороша, другую я не видел. Хотелось бы знать, приготовили ли Вы работы для Салона, несмотря на все Ваши несчастья? Если когда-нибудь Вам захочется меня увидеть — я работаю утром у Сюиса, а вечером я дома, назначьте мне свидание, когда и где Вам удобно, и, вернувшись от Ольера, я приду пожать Вам руку. В субботу мы отправимся в выставочное помещение на Елисейских полях с нашими картинами, и Институт при виде их впадет в гнев и ярость. Надеюсь, что Вы написали прекрасные пейзажи. Сердечно жму Вам руку».
В этом году Салон был более терпимым. Жюри приняло две работы Писсарро и одну Ольера, «Мрак». Все, что принес Поль, было отвергнуто. Была выставлена «Олимпия» Мане, и она произвела на Поля такое впечатление, что на этом следует остановиться особо. Его не привлекала любовь Мане к простым плоским цветам, его манера писать свет исходящим из-за головы художника, в результате чего тени оказывались скрытыми формой и предметы изображения уплощались, — метод, который позволил Курбе заметить, что Олимпия похожа на карточную пиковую даму. Скорее, Поль был увлечен самой темой и элементами символизма в трактовке сюжета. Основой послужила «Венера Урбинская» Тициана (с которой Мане делал копии), но, обратившись к нему, Мане лишил свободно раскинувшуюся женщину академической зализанности Кутюра и романтической дымки одалисок Делакруа или Энгра и низвел ее в прозаическую постель уличной парижанки, проложив тем самым дорогу к «Нана» Золя. Мане изобразил кошку вместо тициановской белой болонки, введя кусочек эротической символики в духе бодлеровской «Кошки» и своей литографии «Кошачье свидание». Орхидея была брошена так, чтобы подчеркнуть прелести модели. Сама она предстает довольно холодной, пожалуй, даже недоразвитой в чувственном отношении. Можно вспомнить, кстати, фразу Гонкуров: «Худые женщины, истощенные, плоские, костлявые…» («Дневник», 11 апреля 1864 года). Но такого рода извращенные вкусы не привлекали Поля, который любил, насколько можно судить по его картинам, большие рубенсовские тела. Что ему нравилось в картине Мане, так это ее дерзость, с которой проститутка словно представала бросающей вызов зрителям. Поль мог даже знать модель для «Олимпии», Виктуар, по крайней мере в лицо. Воллар записал длинный разговор перед этой картиной (после того, как она была отправлена в Люксембург), в котором кроме него и Сезанна участвовал еще Гийме. Гийме рассказал о Виктуар, что она как-то сказала ему, что у нее на примете есть молоденькая дочка полковника, готовая позировать, но что он должен будет придерживать язык и употреблять при ней только приличные выражения. На следующий день она привела девушку и сразу скомандовала: «Давай, душечка, покажи свой казимир мсье». («Казимир» — буквально «клочок шерсти», было жаргонным обозначением прелестей.)
Существует свидетельство Воллара, как всегда, приблизительное и недостоверное, о том, что Поль сначала был под большим впечатлением от Мане. «Но ему недостает гармонии и темперамента», — добавлял он при этом. Когда Воллар упомянул о важной заслуге Мане в ниспровержении академических условностей, Сезанн ответил: «Вы знаете, Домье говорил: «Я не так уж люблю живопись Мане, но я нахожу в ней одно выдающееся свойство — он вернул нас к фигурам карточной колоды».
Сезанн развил то, что мы можем назвать черноконтурным стилем, после своей второй поездки в Париж. Изучение таких художников, как Мане и Курбе, занятия у Сюиса избавили его от всех условных идей, которые он разделял в Эксе. Он жаждал любой ценой избежать вымученного академического метода, который был абсолютно непригоден для выражения его бурных эмоций. Письма Поля выдают, что эти чувства уже какое-то время бурлили в нем, но не находили соответствующего им языка выражения, кроме как грубых шутливых набросков в письмах. Теперь он прежде всего стремился к выработке целостной системы, пытаясь найти как свободную кисть, так и крепкую композицию. Какое-то время его способности рисовальщика и умение моделировать объем были недостаточны, чтобы овладеть такой системой. Среди его работ были даже такие странные, как та, на которой он написал: «Матерь семи скорбей и Вельзевул». В ней он попытался показать фигуры в условной пространственной сцене, которая вышла явно слабой, несмотря на более или менее получившиеся черные волосы и красные язычки пламени у дьявола (тема эта, возможно, была навеяна конфликтом между страдающей матерью и насмешничающим отцом). В «Суде Париса» исполнение стало более свободным, но Поль был все еще далек от понимания того, что ему надо и как того достичь. Однако он продолжал бороться, вкладывая больше чувства в моделирование объема и освобождая свою кисть, подступая к тому самому стилю, который он обозначал словом couillarde, заметному уже в работах 1866 года. В первом портрете отца, выполненном, видимо, вскоре после второй поездки в Париж, он предстает уже достаточно уверенным.
Глейр, потеряв под старость зрение, закрыл свою студию. Моне, Ренуар, Базиль и Сислей остались без учителя. Моне был с Базилем в Нормандии и вернулся оттуда с двумя морскими пейзажами, которые он собирался послать в Салон. Оба молодых художника сняли одну мастерскую на улице Фюрстенберг (недалеко от мастерской Делакруа); Поль и Писсарро часто навещали их. Базиль был счастлив, сумев наконец уговорить свое семейство разрешить ему бросить занятия медициной. Золя много трудился, он жил теперь в квартире с балконом на шестом этаже на улице Сен-Жак, 278, там он продолжал устраивать свои вторники. Луи Ашетт умер, но Золя продолжал трудиться в его фирме по десять часов в день и одновременно еженедельно писал в «Пти журналь» и два раза в месяц в лионский «Салют Публик». «Наконец я закончил мой роман, который так долго дремал в ящике стола». В октябре «Исповедь Клода» появилась на свет, и критики, которые награждали небрежной улыбкой «Сказки», эту весьма романтическую вещь заклеймили как «ужасающий реализм». Власти собирались наказать Золя за изображение непристойностей. Полиция провела расследование и представила доклад. Общественный обвинитель решил: «Золя не имел определенных политических мнений, и его стремления, похоже, были преимущественно литературными». Цель самого Золя заключалась в том, чтобы развеять иллюзии молодежи, которая «позволяла увлечь себя поэтам, идеализировавшим любовные похождения богемы». Так он объяснял свои намерения, защищаясь перед полицией. Он отказался от места главы рекламного отдела у Ашетта, приносившего ему 2400франков в год. Возможно, фирма выразила свое несогласие с его книгой, или же он. решил попытаться прожить литературным трудом. В это время он уже жил вместе с Александриной Габриэль Мелей. Существует легенда, согласно которой не кто иной, как Поль, представил ее Золя, но это маловероятно — если только она не была какое-то время натурщицей. Но, скорее всего, Золя мог встретить будущую жену в издательстве, так как отец ее был печатником.
Мариус Ру написал рецензию на «Исповедь» в экской прессе. Золя просил его непременно написать о Байле и в первую очередь о Сезанне, что должно было, по его мнению, «доставить удовольствие их семьям». Ру написал о Поле довольно пространно: «Все мы из Экса, все старые школьные товарищи, все мы связаны доброй и искренней дружбой. Мы не знаем, что будущее готовит нам, но тем временем мы работаем и боремся… Однако, если мы связаны узами дружбы, это еще не значит, что мы одинаково смотрим на прекрасное, на истину и добро. Мсье Золя, который предпочитает «Прядильщицу» Милле «Мадонне в кресле» Рафаэля, посвятил свою книгу двум приверженцам своей школы. Мсье Сезанн принадлежит к одним из лучших студентов, которых наша экская школа направила в Париж. Там он станет благодаря своему упорству прекрасным художником. Будучи большим поклонником Риберы и Сурбарана, наш мастер остается самобытным художником и придает работам свой собственный характер. Можно быть уверенным — его картины никогда не будут посредственными. Посредственность — это худшая штука для искусства. Лучше быть каменщиком, если таково твое призвание, но, если ты художник, будь совершенным или погибни в стараниях. Мсье Сезанн не погибнет. Он заимствовал в экской школе слишком хорошие принципы, он нашел здесь замечательные примеры, у него есть достаточно храбрости и много упорства в работе, что не даст ему потерпеть поражение, не достигнув своей цели. Если б я не боялся быть нескромным, я бы привел свое мнение о некоторых его полотнах. Однако скромность художника не позволяет ему верить, что то, что он делает, — это именно то, что надо, а я не хочу портить его прекрасные чувства. Я подожду, пока он сам не покажет свои работы на свет, тогда не только я смогу высказаться. Он принадлежит к школе, которой свойственно возбуждать разные суждения».
Маргри последовал этому отзыву в «Эко де Буш дю Рон». О Поле и Байле он писал: «Они создали себе имя соответственно в искусстве и науке». Такие отзывы в местной прессе должны были значительно умиротворить Луи-Огюста, на что Золя, несомненно, рассчитывал.
Поль вернулся в Экс, по всей вероятности, осенью. Он добавил постскриптум к письму, которое Марион написал 23 декабря Морштатту, немецкому музыканту, приглашая последнего приехать из Марселя в Экс, чтобы играть Вагнера. В строках Поля говорится о «благородных аккордах Рихарда Вагнера». Он должен был слышать Вагнера в Париже, конечно, эта музыка оставила в нем сильное впечатление.
Глава 4
Решающий год
(1866)

В этом году Поль рано приехал в Париж, по всей видимости, в феврале. Мы можем представить, каким он казался в то время Золя, читая «Творчество» и заметки к этому роману. «Худощавый, обросший бородой юноша с угловатыми движениями. (…) В глубине его карих глаз таится большая нежность, глаза небольшие и ясные, изящный нос и взъерошенные усы, сильный голос». В «Чреве Парижа» сообщается, что он носил черную фетровую шляпу, потерявшую форму, наглухо застегнутое просторное пальто, когда-то коричневое, но от дождей превратившееся в неопределенно-зеленоватое. «Слегка сутулый, вечно возбужденный от ставшего привычным нервного беспокойства, стоял он в своих огромных ботинках на шнуровке…». Он носил синие носки и слишком короткие брюки («Творчество»). В набросках к роману говорится о длинных изогнутых бровях и напоминающем араба овале лица, Золя утверждал: «Он не доверял женщинам… Никогда не водил он девиц в свою мастерскую, он держал себя с ними так, будто презирает их, но в глубине души тяжко страдал от застенчивости, которую пытался прятать под фанфаронадой и грубостью. Я не нуждаюсь в женщинах, — говорил он обычно, — они чересчур раздражают меня. Не знаю, в чем вообще от них польза, и не хочу пробовать». На полях рядом с последней заметкой Золя приписал: «Очень важно». Речь его была грубой, намеренно вульгарной. Он обычно употреблял выражения из области фекальной лексики, как бы упиваясь собственной непристойностью. По утрам он бывал весел, вечерами несчастен, называл живопись «собачьим занятием». «Когда я пишу, мне кажется, будто я щекочу себя», — говорил он. Затем вдруг становился пасмурным. «Я никогда ничего не заканчиваю, никогда, никогда» (из заметок к «Творчеству»). Позднее Ж. Гаске писал: «Те, кто видел его в то время, описывали мне его как совершенно ужасного человека, полного галлюцинаций, этакое страдающее божество с привкусом животного. Свои модели он менял каждую неделю. Он совершенно отчаялся удовлетворить самого себя. Он страдал от той смеси ярости и робости, смиренности и гордыни, сомнений и безапелляционной самоуверенности, которые сотрясали его всю жизнь. Он шагал по земле, избегая всяких новых знакомств, временами в течение недель отказываясь пустить хоть кого-нибудь в свою мастерскую». Хотя Гаске чересчур драматизирует истинную картину, Поль и вправду страдал от резких перепадов настроения, которые легли в основу характера Клода в «Творчестве». Мастерская его описывается в этом романе так: «Перед печкой еще с прошлой зимы копилась зола. Кроме кровати, умывальника и дивана, не видно было никакой мебели, впрочем, тут еще находился старый дубовый шкаф без ножек и большой сосновый стол, где валялись вперемежку кисти, краски, грязные тарелки, спиртовка, на которой стояла кастрюлька с остатками вермишели. Всюду были разбросаны хромоногие мольберты и дырявые соломенные стулья. Вчерашняя свеча валялась на полу около дивана; по всему было видно, что здесь месяцами не подметают; и только большие часы с кукушкой, расписанные красными цветами, звонко тикали и казались веселыми и опрятными». На стенах вкривь и вкось мелом были нацарапаны адреса натурщиц. При всей своей женобоязни он постоянно думал о них. «Он вкладывал в работу и целомудренно сдерживаемое обожание женщины, и безумную любовь к вожделенной наготе, которой он никогда не обладал, и бессилие найти удовлетворение, и стремление создать ту плоть, которую он так жаждал прижать к себе трепетными руками. Он гнал из своей мастерской девушек, но обожал их, перенося на свои полотна; он мысленно ласкал и насиловал их, до слез отчаиваясь, что не умеет написать их столь живыми и прекрасными, как ему того хотелось».
Подход Сезанна к женщинам был тесно связан с его отношением к искусству: поклонение и неприятие, надежды и сомнения, проблески уверенности, вслед за которыми неизбежно наступало отчаяние. Выдержка из «Терезы Ракен» (опубликовано в 1867 году), в которой описывается мастерская Лорана, иллюстрирует представление Золя об искусстве Поля того периода, хотя в принципе других связей между ним и Лораном нет.
«Там было пять этюдов, написанных с истинной энергией. Живопись была основательной и уверенной, каждая деталь была прописана сильными мазками… Конечно, эти этюды были грубоваты, но в них была какая-то странность, свой характер, столь сильный, что художественное чувство сквозило в них в уже почти сформировавшемся виде. Можно было говорить о живописи, насыщенной жизнью. Никогда еще не видел он таких многообещающих эскизов».
Поль не чувствовал себя частицей передового парижского искусства. Возможно, через посредничество Гийме он ранней весной этого года познакомился с Мане. Валабрег сообщил эту новость Мариону, который передал ее Морштатту в письме от 12 апреля. В ответ на визит Поля Мане сам отправился посмотреть его натюрморты, находившиеся в мастерской Гийме. Говорят, Мане нашел их «смело выполненными», а польщенный Поль, как обычно, спрятал свою радость. Валабрег заключил, что оба художника узнали друг в друге «схожие темпераменты», что, впрочем, было не очень точным прогнозом. Полю, пожалуй, было нелегко общаться с Мане, элегантным парижанином в высокой шляпе, в перчатках, блиставшим утонченным остроумием и державшимся по-учительски в компании учеников в кафе Тортони.
Именно в 1866 году Поль повстречал всех художников, которые впоследствии стали знаменитыми импрессионистами, за исключением Берты Моризо, принадлежавшей к изысканному кругу Мане и вышедшей в 1874 году замуж за его брата Эжена. Мятежные художники, которым необходимо было обсуждать свои теории, свои пристрастия и антипатии, обычно собирались в доме Фантен-Латура на улице Боз-Ар (Изящных искусств), где также жили Ренуар и Базиль. Но в период с 1866 по 1870 год их излюбленным местом времяпрепровождения стало кафе Гербуа, на проспекте Батиньоль, 11, около ресторана папаши Латюиль. Мане с друзьями обычно занимали два стола слева от входа; кроме художников там бывали и литераторы, например Золя, Дюранти, Дюре или Леон Кладель. Моне заявлял: «Ничего не может быть интереснее, чем те сборища с их вечными спорами и столкновениями мнений. Они поддерживали наше красноречие в боевой готовности… Из них мы выходили с утвердившимися стремлениями, с очищенными и более ясными мнениями». Изысканные художники, как Дега, всегда были готовы пуститься в рассуждения об ошибочности приспособления искусства к пониманию низших классов, в то время как Дюранти, несмотря на свое собственное заурядное происхождение, ученейшим образом просвещал всех, что, будучи реалистом, он тем не менее не копается в грязи и отбросах общества. Несомненно, что при этом он метил в поклонников Курбе. Но, быть может, при этом он имел в виду и Поля. Моне вспоминал, что Мане неизменно во всех ситуациях «являл себя джентльменом». Он сам, Писсарро и другие демократически настроенные художники, бывало, сдерживали при этом улыбки, но что касается Поля, то он воспринимал приличную одежду и обходительные манеры как своего рода личный выпад против его сознательной провинциальной бравады. Он говорил Гийме: «Все эти сучьи дети одеваются, словно стряпчие», — наверняка имея в виду именно то, что сам он решительно отказался стать законником или адвокатом. Моне с удовольствием вспоминал, что Поль входил в кафе, непременно окинув всю компанию презрительным взглядом. При этом он резким движением корпуса заставлял полы пиджака откинуться назад и демонстративно подтягивал штаны и затягивал потуже свой красный пояс. Вслед за этим он по кругу обходил всех с рукопожатием. Перед Мане, однако, он останавливался, снимал шляпу и бормотал под нос с усмешкой: «Не могу подать вам руки, мсье Мане, я уж неделю как не умывался». Наконец он усаживался в уголке, не показывая никакого интереса к происходящему. Временами, когда ему приходилось слышать нечто, что слишком сильно раздражало его, он густо краснел и вместо ответа выходил вон, ни с кем не прощаясь. Самое большее, он мог разразиться репликой и затем величественно удалиться. Умных говорунов он ненавидел.
Он много трудился и продолжал посылать работы в Салон, хотя и звал его «Салоном des Bozards» или «Салоном Бугро». В «Творчестве» утверждается, что «он поклялся, что впредь не будет выставляться, теперь же считал необходимым каждый год что-нибудь предлагать жюри, хотя бы для того, чтобы жюри имело возможность лишний раз ошибиться; теперь он признал, что Салон является единственным полем битвы, где художник может выступить и проявить себя». Несомненно, что это было именно так, но очевидно и то, что Поль жаждал какого-то официального признания. Прежде всего это обеспечило бы ему законные права художника в Эксе и в собственной семье; быть может, он также ощущал, что его неуверенность в себе исчезнет или уменьшится, если появится какая-то прочная основа признания. В конце концов и Делакруа, и Курбе, и Мане пробили свой путь в Салон и использовали его. Поль приносил картины в отборочную комиссию в последний день и час приема. Картины он вез в ручной тележке, нагружая и толкая ее с помощью приятелей. Приехав на место, он медленно брал их и неторопливо проносил вдоль толпы студентов, теснившихся у дверей. Сцена эта повторялась по нескольку раз, помогал Полю Гийме.
Рассказывают, что как-то в кафе Гербуа Мане спросил его, что на этот раз он решил показать в Салоне, Сезанн ответил: «Горшок с дерьмом». Этот ответ был вполне в его характере; в самом деле, его пристрастие к подобного рода выражениям заставляет предположить инфантильную склонность, которая вполне гармонировала с навязчивой идеей загрязнения деньгами.
В этом году он послал в жюри две работы: «Неаполитанский полдень, или Пуцш» и «Женщину с блохой». Для первой из них ему, по словам Воллара, позировал старик золотарь, жена которого владела небольшой молочной, где, кроме того, подавала своим молодым голодным клиентам бульон из говядины. Поль, который пользовался доверием старика, попросил его позировать, но тот отговорился было занятостью. «Но вы работаете по ночам, а днем вам нечего делать». Ночной труженик заявил на это, что днем он обычно спит. «Ну и прекрасно, я напишу вас в постели». Сначала старикан расположился в постели в пижаме и колпаке, потом колпак решил снять, а вслед за этим, рассудив, что между приятелями не должно быть никаких церемоний, скинул и штаны, оставшись позировать, таким образом, нагишом. В картину была введена еще жена золотаря, она протягивает ему кувшин вина. Псевдоромантическое название предложил Гийме. Поль со своим фекальным юмором порадовал себя, сделав золотаря героем любовной сцены.
Сама картина не сохранилась, наиболее близкий, судя но описанию, эскиз изображает лежащего на животе мужчину, рядом с ним свободно развалилась женщина, слуга в зеленой одежде держит перед ними поднос. Трудно сказать, зачем для картины с такой сценой понадобился старик. В варианте, выполненном в начале 1870-х годов, изображен пожилой мужчина с трубкой, которого, собственно, мало видно, потому что перед ним, загораживая, расположилась девушка. Она несколько странно жестикулирует; подобные жесты Поль обычно придавал своим купальщицам, они более уместны для стоящих, а не для лежащих фигур. Одна рука, правая, поднята за голову, другая опущена вниз. Вместе они, таким образом, образуют нечто вроде диагонали с головою в центре. Но левая рука ненатурально выглядела бы просто опущенной книзу, поэтому Поль поднял правое колено и руку положил на него. Женщина, стоящая сзади, держит блюдо, на котором лежит единственное яблоко, напитки стоят на столе сбоку. В других эскизах служанка сделана негритянкой. (Диагональный жест поднятой и опущенной рук с самого начала был чем-то важен для Поля. Этот жест появился уже в одном из панно — «Весна» — для Жа де Буффан, там поднятая рука держит цветы и роняет их на опущенную. Жест этот вполне невинен и создает визуальную гармонию между головой и поясницей.)
От 1860-х годов осталось много работ, в которых густо черные края и темные тени скрывают формы, немало и таких, где преобладает сильное, яростное напряжение. Более спокойные формы появляются в тех случаях, когда он пишет свое семейство, например в картине с двумя его сестрами на переднем плане и Валабрегом и Абрамом сзади — здесь линии складок одежды вовсе не так жестки, как на картине, изображающей двух девушек и маленькую девочку между ними: «Сцена в интерьере».
Проблема Выбора, впервые представшая ему в образе Геракла на распутье, теперь обрела чисто эротическое выражение. Очутившись перед возможностью легко осуществить свои мечты, Поль стал еще более нерешителен, чем раньше. Даже если он не мог себя заставить пойти к продажным женщинам, в его распоряжении были вполне доступные натурщицы. Нет сомнения в том, что прочные ассоциации натурщиц с легкой доступностью делали необычайно сложным для него их использование в своем искусстве. Страхи и неуверенность Сезанна нашли прямое выражение в аллегории «Суд Париса». Отходя от общепринятых форм мифа, Поль изобразил юного пастуха выбирающим женщину, в чьи объятия он немедленно попадет в результате своего выбора. В картине две отвергнутые богини все еще простирают руки, а Венера уже прильнула к Парису, который положил руку ей на плечо. Здесь есть, кроме того, еще одно отождествление. Хотя пастух Парис в мифе был судьей, Париж (Paris) был для Поля именем, местом искуса. Венера, продажные натурщицы и город Париж слились в его сознании, и само Искусство сплелось с этой троицей как высшее искушение и соблазн. Золя писал Мане: «Искусство, живопись, было для него всегда великим искусителем, куртизанкой, вечно алчущей новой плоти, выпивающей кровь, давящей и удушающей на своей ненасытной груди».
Эта обывательская идея была как раз из таких, что наполняют провинциальных пареньков вожделением и страхом. Она была одним из источников его бесконечных фобий, припадков отчаяния, которые он испытывал, сражаясь перед мольбертом. Он идентифицировал процесс живописания с актом соития и чувствовал, что раздирается между женщиной-искусством и женщиной-любовницей.
В этом отношении Парис, юноша, стоящий перед выбором в любви, противопоставлен Парижу — продажному городу, продажным натурщицам. (Поль питал слабость к каламбурам. Люсьен Писсарро, у которого был школьный учитель Руло, рассказывал, как Поль обращался к нему: «Ну что, Люсьен, пришлось ли вам сегодня повертеться [roule]?») Париж как олицетворение Искушения был довольно распространенным образом, выраженным, например, у Оффенбаха в «Прекрасной Елене». Золя с большой проницательностью выразил это сплетение мыслей и чувств в сознании Поля, когда описывал картину Клода — Сезанна, в которой символически был представлен Париж:
«Лодка занимала всю среднюю часть композиции. В ней находились три женщины: одна, в купальном костюме, гребла, другая, с обнаженным плечом, в полуспущенном лифе, сидела на борту, свесив ноги в воду, третья выпрямилась во весь рост на носу, совсем нагая, и была так ослепительна в своей наготе, что сияла как солнце». Клод пытался завуалировать тему, говоря, что женщины купались и только что вышли из воды, и это давало ему возможность показать обнаженное тело. «Разве не находка, что тебя смущает?» — говорил он своему другу Сандозу. Золя — Сандоз возразил, что такое объяснение вряд ли оправдывает появление обнаженной женщины в самом центре Парижа. Но «Клод упрямился, возражал нелепо и резко, потому что не хотел открыть истинную причину своего упорства: он сам еще не мог объяснить мучившее его подсознательное тяготение к символизму, прилив романтизма, побуждавший его воплотить в нагом теле самую сущность Парижа, обнаженного, полного страстей и блистающего женской красотой города. Он вкладывал в него и собственную страсть: любовь к прекрасным плодоносящим животам, бедрам и грудям, которые он жаждал создавать щедрой рукой, чтобы никогда не иссякал источник его творчества».
И поэтому яблоко, а фактически всякий круглый плод, сделалось для Сезанна носителем очень важного смысла. Конечно, было много других причин, по которым он писал яблоки. Они прекрасно могут лежать долгое время даже при его медленных созерцательных методах яблоки вполне сохранялись, сколько ему было нужно. Также круглые плоды задавали ему задачи по моделированию объема, которые были очень привлекательны для художника, — точно так же, упиваясь выписыванием объема, он любил писать груди. Впрочем, в последнем случае в нем поднимались беспокойные чувства, которых он мог в какой-то мере избегнуть перед яблоками. Но последним аргументом в пользу яблок было то, что этот плод является эмблемой любви, — взять ли тот случай, когда Парис вкладывает яблоко в руку Венеры, или тот, когда Ева дала яблоко Адаму. (Стоит вспомнить и античный, символ богини-матери с яблоком или гранатом.) Таким образом, яблоко символизировало для Сезанна и момент эротического выбора, и непосредственно сам любовный объект, округлые изгибы Венериного тела. Ранее мы упомянули круглый плод на блюде, предлагавшийся женщиной в «Пунше». Существуют также ранние и поздние картины с изображением персика, чья округлая форма с ложбинкой посередине напоминает зад или противоположное ему место.
Лишь только если мы будем иметь в виду символику округлого плода в системе Сезанна, можно будет осознать такую странную работу, как «Пикник», написанную по мотивам «Завтрака на траве» Мане. Картина представляет собой свободное повторение картины Мане без обнаженных фигур. Чрезвычайно вытянутая фигура девушки с плодом напоминает раннюю «Весну», но лысина Поля не позволяет датировать эту вещь ранее 1869 года.
Американский искусствовед М. Шапиро дал интересное описание этой картины: «Обычное содержание пикника тонет здесь в странной призрачной атмосфере. Над скатертью, расстеленной прямо на траве (на ней нет ничего, кроме двух апельсинов, положенных явно для созерцания участников), склонилась высокая гибкая женщина с распущенными золотистыми волосами, сивилла, которая держит третий апельсин в вытянутых руках, будто совершает священный обряд или возносит молитву. Она бросает взгляд на мужчину в сюртуке, расположившегося на земле, он похож на самого молодого, рано облысевшего Сезанна. В отдалении стоит возвышенная прямая фигура с трубкой и со скрещенными на груди руками, словно страж или участник действа. Слева мужчина и женщина, одетые, как Сезанн и сивилла, удаляются под руку под сень темного леса (как на картине Ватто «Полное согласие»).
Три апельсина или красновато-золотых яблока воплощают три эротические возможности: по одной для каждой пары, исключая самого Поля как лишнего. Таинственность участников пикника, чрезвычайно сосредоточенных на трех плодах (единственном, что можно съесть), таким образом, вполне объясняется. Сивилла предлагает любовное яблоко Полю и одновременно отнимает его; она принадлежит курильщику, чья голова изображена вровень с ее головой и кто пристально на нее взирает. Высокая шляпа и зонтик от солнца в углу картины представляют еще одну пару сексуальных символов, сходную роль играет собака, которая смотрит на плод в руках сивиллы. Поль поднял свой указательный палец, словно бы домогаясь этого запретного для него, как он сам знает, плода — плода, который женщина, склонившись, держит на уровне своей груди.
Поль любил помещать себя самого в свои фантазии. Здесь он предстает человеком, оказавшимся лишним в любовных играх, позже он обернется любителем женщин в «Новой Олимпии»; во «Вскрытии» он будет человеком, запустившим обнаженные руки в чрево покойника, это он развалился в «Пасторали». И мы можем заметить, что, как мастер яблок, он также и мастер ситуаций выбора. Он, Парис с яблоком, предлагает приз Парижу как обворожительной и продажной женщине. Позже Поль говорил Жеффруа: «Я ошеломлю Париж своим яблоком».
В этом году обе работы, которые Сезанн посылал в Салон, были отвергнуты. В то время как другие «повстанцы» пытались предложить жюри свои наиболее приемлемые работы, Поль показывал свои наиболее выламывающиеся из рамок общепринятого. Марион писал Морштатту в марте: «Я только что получил письмо от моего парижского друга: Сезанн рассчитывает, что его не допустят на выставку, и по этому поводу знакомые художники собираются устроить ему овацию». Вскоре Валабрег писал Мариону из Парижа: «Несомненно, что Поля отвергнут. Один филистер из жюри, увидев мой портрет, заявил, что художник орудовал не только ножом, но еще и пистолетом. Разгорелось уже немало споров. Добиньи произнес несколько слов в защиту Поля и моего портрета. Он сказал, что предпочитает смелые холсты той ничтожной мазне, которую принимают в каждый Салон. Но он не смог одержать верх…» Марион переслал это письмо Морштатту. От себя он добавил: «Я успел узнать еще кое-что с тех пор. Отвергнуты все представители реалистической школы: Сезанн, Гийме и другие. Приняли только полотна Курбе, который, как говорят, стал писать гораздо хуже, и «Флейтиста» Мане, который явно выходит в первые ряды художников. (Ошибка, Мане был отвергнут. — Дж. Л.) (…) В действительности мы торжествуем, и этот массовый отказ, это великое изгнание — настоящая победа. Теперь мы должны устроить выставку своими силами и тем вызвать всех этих старых болванов на смертельное для них соревнование. Сейчас идет борьба, молодые сражаются со стариками, юность выступает против старости, полное надежд настоящее —против черного пирата — прошлого.
Потомство — это мы, а ведь говорят, что суд выносят потомки. Мы верим в будущее, а нашим противникам останется только уповать на смерть. Мы полны доверия. Мы хотим только одного — творить. Если мы будем работать — наш будущий успех обеспечен».
Поль, как глашатай непокорной и независимой молодежи, написал письмо протеста сюринтенданту изящных искусств графу Ньюверкерке. Ответа не последовало. Он написал снова, заявляя, что отказывается «принять незаконное решение моих коллег, которых я не уполномочил судить себя. Я пишу Вам, чтобы настоять на своем требовании. Я хочу обратиться к публике и быть выставленным, несмотря ни на что. Мое желание вовсе не является чем-то необыкновенным, и, если Вы спросите всех художников, находящихся в моем положении, они все Вам ответят, что не признают жюри и хотят любым способом участвовать в выставке, открытой для всякого серьезно работающего художника. Поэтому пусть будет восстановлен «Салон отверженных». Даже если я буду выставлен там один, я желаю, чтобы публика по крайней мере знала, что я не хочу больше иметь дела с этими господами из жюри, так же как и они не хотят, видимо, иметь дело со мной». К сожалению, Сезанн заявил, что «не считает нужным приводить те аргументы, что уже были в первом письме». На полях обращения Поля приписан ответ: «То, что он просит, — невозможно. Мы теперь поняли, сколь несовместима с величием искусства была «Выставка отверженных»; повторена она не будет».
Письма Поля графу Ньюверкерке, возможно, сочинил Золя с согласия других художников, чтобы подтолкнуть власти к открытию другого «Салона отверженных». Идея широко обсуждалась художниками. Ренуар отправился подкараулить жюри, когда оно будет выходить из Дворца. Он видел Коро и Добиньи, но, побоявшись представиться, назвался другом Ренуара. Добиньи помнил это имя. «Мы всем надоели, — сказал он, — защищая картину вашего друга, но ее все же отвергли. Мы сделали все, что могли, чтобы не допустить этого, но что ж поделаешь! Мы были вшестером против всех остальных. Скажите вашему другу, чтобы он не расстраивался, в его работе есть немалые достоинства. Ему стоит обратиться с прошением и добиваться «Выставки отверженных». Добиньи был также, насколько можно судить, единственным защитником портрета Валабрега Поля. Единственно, в чем ему удалось преуспеть, он отстоял пейзаж Писсарро. Граф Ньюверкерке смотрел на отвергнутых художников, как на умножившихся Милле, чьи работы «вызывают омерзение», — все они были демократы.
А вот Солари был принят. Так как он давно уже истратил все полученные в качестве премии деньги, Поль делил с ним свою наличность. Скульптор работал над бюстом Золя, большим, больше натуральной величины; Золя и Сезанн помогали его отливать. Солари был худощав, с болезненным цветом лица, довольно некрасивый; его яркие глаза сохранили детскую ясность. Он всегда был полон грандиозных идей, но в повседневной жизни ему приходилось туго. «Чарующе невозмутимый, мягкий и рассеянный, всегда ровный и спокойный, он был настоящим богемным художником, напрочь лишенный соображений о выгоде и застенчивый», — вспоминал очевидец. Золя списал с него Сильвера — героя «Карьеры Ру гонов», сделав там его благородным и наивным революционером; Мьетта, возлюбленная Сильвера, имела прообразом его сестру Луизу. Пажо встретил русского графа, асоторый сказал ему, что хотел бы иметь скульптуру для своего сада, сделанную по мотивам энгровского «Источника»; Пажо рекомендовал ему Солари, но чем кончилось дело, неизвестно.
Шум от находившегося поблизости стрельбища заставил Золя переехать с Монпарнаса в пятикомнатную квартиру с балконом на улице Вожирар, 10, рядом с Одеоном и Люксембургским садом. «Настоящий дворец», — писал он. Мать его жила теперь вместе с ним. По вторникам продолжались званые обеды, «ожидавшиеся нетерпеливо, как любовное свидание» («Творчество»), посещавшиеся старыми и новыми приятелями из Экса; Валабрег с марта жил в гостинице на улице Вавен. Вероятность того, что именно Золя написал от имени Поля письмо об устройстве нового «Салона отверженных», подтверждается тем, что он договорился с «Эвенман» о серии обозрений Салона и начал свои статьи Обращением к жюри. «Я не сомневаюсь, что вызову недовольство многих, взявшись говорить грубые и устрашающие истины, но я испытываю глубокое удовольствие, облегчив душу от всего скопившегося там недовольства». Второе письмо Поля, датированное 19 апреля, было написано в тот день, когда Золя начал свою атаку на жюри.
Золя собрал много сведений о членах жюри, о том, как они были избраны и каким образом осуществляют свою работу. У него также был материал о событиях 1863 года. Он пошел в атаку на тех, «кто отсекает настоящее искусство и подсовывает толпе обрубленный труп». «Эвенман» был популярным органом, который широко читали образованные люди, театралы и светская публика. Золя писал, что «Салон в наши дни не является более детищем художников, это работа жюри». Три четверти показанных работ были выбраны уже выставлявшимися и заслуженными художниками, оставшиеся — отобраны администрацией.
По поводу жюри Золя писал: «Есть добряки, которые принимают и отклоняют кандидатуры с полнейшим безразличием; есть преуспевающие художники — они стоят вне всякой борьбы; есть художники, которые сошли со сцены, но держатся своих убеждений и отвергают все новое; есть, наконец, модные художники, чьи малозначительные картины имеют временный успех, но они вцепились в него зубами и рычат, грозя тем из своих собратьев, кто пытается к нему приблизиться».
Золя упоминает о происшествии с одним учеником Курбе, который послал в Салон две работы, одну под своим именем, а другую под псевдонимом. Первую жюри отвергло, вторая была принята.
В конце цикла статей о выставке в Салоне Золя дает собственное определение искусства: «Определить произведение искусства можно только так: это кусок действительности, увиденный сквозь темперамент». В другом месте он говорит: «Произведение искусства есть выражение творческой индивидуальности, личности художника». В статье, посвященной Э. Мане, Золя возвещает: «Господин Мане, так же как и Курбе, как всякий самобытный и сильный талант, должен занять место в Лувре». В результате выступлений Золя получился большой скандал. Посыпались сотни писем читателей, в которых они выражали возмущение и грозились прервать подписку. Издатель газеты, испугавшись, поручил написать несколько статей на эту же тему критику Пеллоке. Золя, который к тому моменту написал уже пять статей и собирался дать еще десять с лишним, чтобы довести общее количество до шестнадцати или восемнадцати, вынужден был ограничиться еще тремя.
Приведем еще несколько выдержек из этих статей, которые он, несомненно, обсуждал с Полем и которые в известной степени могут считаться выражением настроений самого Сезанна.
«Да, я выступаю в защиту жизненной правды. Я откровенно признаюсь, что восхищен г-ном Мане, что и гроша ломаного не дам за рисовую пудру г-на Кабанеля и что я предпочитаю терпкие и здоровые запахи живой жизни. Впрочем, у меня еще будет случай высказать свои суждения. Здесь же я лишь отмечу — и никто не осмелится меня опровергнуть, — что движение, известное под названием «реализм», в Салоне не представлено. (…) Искусство здесь тщательно отлакировано и прилизано; оно обрело вид добропорядочного буржуа в домашних туфлях и белой рубашке».
«В этом году жюри особенно усердствовало в наведении глянца. Оно сочло, что в прошлом году его метла оставила на паркёте несколько соломинок. Для того чтобы порядок был безупречным, вышвырнули за дверь реалистов — им был брошен упрек, что они не моют руки. Салон же будут посещать великосветские дамы в богатых туалетах, а посему здесь должна царить идеальная чистота, все должно блестеть так, чтобы перед картинами, как перед зеркалом, можно было поправить прическу».
«И я требую от артиста не сладостных видений или устрашающих кошмаров, а того, чтобы он выявил всего себя, в единстве своего духовного и физического существа, энергично утвердил свою творческую силу и своеобразие, показал, что он может как бы единым махом отломить большой кусок природы и представить его нам в том виде, в каком он ее сам воспринимает. Короче говоря, я испытываю непреодолимое презрение ко всякому ловкому ремесленничеству, к корыстолюбивому угодничеству, ко всему, чему можно выучиться и чего можно добиться прилежанием, к театральным эффектам исторических сцен г-на Икса и надушенным грекам г-на Игрека. С другой стороны, я полон глубокого уважения ко всем произведениям искусства, отмеченным печатью индивидуальности, к творениям сильного и самобытного дарования. (…)
Я не являюсь сторонником той или иной школы, потому что я — сторонник человеческой правды, а это исключает принадлежность к какой бы то ни было касте, утверждение какой бы то ни было системы. Мне не нравится само слово «искусство»; это понятие содержит в себе некие обязательные, заранее предопределенные рамки, некий абсолютный идеал. Творить искусство — разве это не значит творить нечто внеположное и человеку, и природе? А я хочу, чтобы творили самую жизнь, чтобы человек оставался живым, чтобы он каждый раз создавал нечто совсем новое, не считаясь ни с чем, кроме собственного темперамента, собственного восприятия вещей. И в каждой картине я ищу прежде всего человека, а не картину. На мой взгляд, в каждом произведении искусства присутствуют два начала: объективное — то есть натура, и субъективное — то есть человек, художник».
Мы уже отмечали, как высоко ценил Золя Писсарро.
Когда он решил опубликовать все статьи в виде памфлета «Мой Салон», он посвятил эту работу Полю, написав ему Обращение от 20 мая 1866 года. Его слова показывают, насколько близки тогда были друзья, и в то же время в них сквозит нечто, позволяющее уловить тень предательства, фактически обнаружившего себя в словах «Моего Салона».
«Я очень рад, мой друг, что могу поговорить с тобой наедине. Ты не представляешь себе, сколько я выстрадал во время моей недавней схватки с чернью, с толпой чуждых мне людей, — я чувствовал себя настолько непонятым, окруженным такой ненавистью, что часто мужество покидало меня и перо падало из рук. Сегодня я могу позволить себе насладиться той полной внутренней близостью, которую мы ощущаем вот уже десять лет, общаясь друг с другом. Эти страницы я пишу для тебя одного: я знаю, ты прочтешь их не глазами, а сердцем и после этого полюбишь меня еще нежнее. <… >
Вот уже десять лет, как мы с тобой разговариваем о литературе и искусстве. Помнишь? Мы жили вместе, и часто рассвет заставал нас еще за спорами — мы рылись в прошлом, пытались понять настоящее, стремились найти истину и создать себе некую безукоризненную совершенную религию. Мы переворошили горы идей, рассмотрели и отвергли все существующие философские системы и, совершив этот тяжелый труд, решили наконец, что все, кроме бьющей через край полноты жизни и личной независимости, — глупость и ложь.
Счастливы те, кому есть что вспомнить! В моей жизни я вижу тебя всегда рядом с собой, как Мюссе того бледного юношу, о котором он рассказывает. Ты — вся моя молодость: в моих радостях, в моих горестях ты всегда принимал самое живое участие. Духовно мы с тобою развивались вместе, бок о бок, как родные братья. И ныне, когда мы впервые вступаем на избранное поприще, я верю в тебя, а ты — в меня, ибо мы понимаем и ощущаем друг друга всеми фибрами души, всем своим существом».
И так далее в таком же духе. Золя использует имя «Клод» для подписи под статьями; за себя — это имя героя «Исповеди», за Поля — это имя художника в «Чреве Парижа» и «Творчестве». Поль, как и Золя, мог искренне сказать: «Ты — вся моя юность», имея в виду, как и Эмиль, что процесс духовного возрастания у них был един. Интересно, что Золя недвусмысленно включает Поля в утверждение о том, что он отвергает все учения и системы и считает, что «внешняя сильная и индивидуальная жизнь — это только ложь и дурачество». Эти слова являются как эстетической, так и философской позицией, которую Золя приписывает и себе, и Полю. Вместе они размышляли о достойном образе жизни, о взгляде на мир. В письме, написанном когда ему было двадцать лет, Золя заявлял, что он бросил всякую официальную религию, хотя и сохранил смутную веру в Бога. Он был непримиримым антиклерикалом, считая, что истинная вера только ослабляется толкователями, подрывающими религиозные авторитеты, и монашеством, «этой новой породой жуликов, особей с обочины общества, невозможных и противоположных божественному духу». Настроение ранних писем Поля также выдержано в этом ключе. По мере того как Золя писал «Ругон-Маккаров», его антицерковный пафос все нарастал, особенно силен он в «Завоевании Плассана», где описывается Экс и семейство Муре — Сезанн. Муре — республиканец, решительно настроенный против церкви и религии; его дом располагается между лагерями бонапартистов и легитимистов, и его разрушение символизирует крушение радикальной и республиканской партий и высшую точку интриг аббата. (Луи-Опост баллотировался в 1848 году в городской совет, его имя значится двадцать вторым в списке из двадцати семи кандидатов, он выступал за «смешение классов и партий». Набрал он всего несколько голосов и потерпел поражение.) Но в «Завоевании Плассана» широкая политическая тема сужена столкновением свободомыслящего республиканца Муре с женой, которая, прежде послушная ему, стала под влиянием аббата чрезвычайно религиозной. Она фактически разрушила дом, позволив запереть мужа в сумасшедший дом, когда он был еще здоров, и тем самым вызвала его настоящее помешательство. Когда жена умерла, тронувшийся Муре поджег дом, убив себя и аббата. Здесь Золя, как и в других случаях, начал с лично знакомой ему ситуации и затем разрабатывал ее до крайнего разрушительного предела. (То же самое он проделал с Полем в «Творчестве».) Реальной основой «Завоевания Плассана» были неверующий республиканец-муж и покорная, но вместе с тем упорная жена, которая ударилась в религию. Здесь мы можем быть полностью уверены, что Золя описывал ту самую ситуацию, которую видел в семействе Сезанн. В этой напряженной ситуации Поль, боявшийся и тем не менее искавший авторитетов, занял сторону отца. Однако подход у него был другой, во многом чуждый Луи-Огюсту; интеллектуальной и моральной страстностью сына отец не отличался. Очень жаль, что не сохранились ранние письма Поля к Золя об этих первых романах. Но, впрочем, безусловно известно, что в то время он был в полной дружеской гармонии с Золя.
Этот год принес кризис в области моды. Портной Ворт бросил вызов царству кринолинов костюмом принцесс, со складками сзади на талии и опускавшимся книзу треном. Также он ввел фурро, или накидки, напоминавшие сутаны, расширявшиеся книзу. Изготовители кринолинов ответили кампанией, в которой пытались доказать, что их изделия не имеют с модой ничего общего, это, мол, просто современные научные приспособления, необходимые до тех пор, пока будут носить рубашки. Женщины оказались в трудном положении. Представить жизнь без кринолинов было невозможно. К тому же цвета приобрели политический характер. Принцесса Полина, пережив удар от поражения австрийской армии, помогла Ворту ввести цвет «Меттерни зеленый»; а обещание знатной мексиканской даме, мечте Ворта, наряду с беседой с княгиней Меттерних позволило породить «Бисмарк коричневый». Вскоре каждая модница имела свой бисмарковский наряд для прогулок, в который входили отделанные бронзой башмаки и бисмарковская шляпа с козырьком от солнца. Разновидности цвета назывались «Бисмарк болезненный», «Бисмарк довольный», «Бисмарк сердитый», «Бисмарк глянцевитый». Париж стал морем коричневого, некоторые женщины красили волосы в тон к наряду.
Расшатывание Мексиканской империи и приближающийся кризис в финансах дополняли происходившее. Принцесса Шарлотта, вернувшись из Мехико, вспомнила о гравюрах Дюрера к «Апокалипсису». Она решила повоображать, что она находится в Вавилоне, император Наполеон — это дьявол, а праздные, хорошо одетые толпы парижан на улицах — это служители зла. Художники не могли не сознавать, что происходит вокруг, но Писсарро, Моне и Ренуар были заняты в основном тем, что осветляли свои палитры, не обращая внимания на потемнение политической сцены.
Двадцать четвертого июня Золя писал Косту, что он с неделю жил вместе с Байлем за городом, где видел Сезанна. «Поля отвергли, кроме него — Солари и всех других, кого ты знаешь. Они снова принялись за работу, уверенные, что у них есть еще лет десять, чтобы дождаться признания». Можно полагать, что троица встретилась не случайно, так как 30 июня Поль писал Золя: «Я получил два твои письма с 60 франками, за которые я тебе очень благодарен, потому что мне еще грустнее, когда нет ни гроша. Значит, у вас не происходит ничего интересного, раз твое последнее письмо такое короткое. Невозможно отделаться от патрона. Я не знаю точно, когда я уеду, наверно, в понедельник или во вторник. Я мало работал, 24-го в воскресенье был день рождения Глотона, приезжал еще родственник патрона, вот еще идиоты. <… >
Картина продвигается неплохо, но днем время тянется очень медленно. Надо купить коробочку акварели, чтобы работать в то время, когда я не пишу картину. Я решил переменить в ней все фигуры и уже поставил в другую позу Дельфена — он стоит вот так. (Здесь в письме рисунок копающего человека. — Дж. Л.) Я думаю, что теперь будет лучше. Я изменю две другие фигуры. Рядом с табуретом я поставил небольшой натюрморт: корзину с синей тряпкой и несколько бутылок, черных и зеленых. Если бы я мог работать над картиной дольше, дело шло бы быстрее, но двух часов в день мало. К следующему дню краски уже высыхают, что очень мешает. Гораздо лучше было бы, если бы эти люди позировали мне в мастерской. Я начал на пленэре портрет старика, папаши Русселя, он продвигается неплохо, но над ним надо еще поработать. Особенно над фоном и одеждой. Это холст 40, несколько больше, чем 25.
Вечером во вторник и вчера я с Дельфеном ловили раков руками в ямах. Я поймал по крайней мере 20 штук в одной яме. Шесть я словилодного за другим, а один раз поймал сразу трех, одного правой и двух левой. Это занятие легче живописи, однако оно ни к чему не приведет.
До свидания, дорогой друг. Привет Габриэль и тебе самому. Поль Сезанн.
Поблагодари от меня Бай ля, он выручил меня деньгами. Пища становится все скуднее и все хуже. Скоро они совсем перестанут меня кормить. Чуть не забыл послать привет твоей матери».
Где был в это время Поль, неясно; ни одно из перечисленных имен больше не упоминается нигде. Но непохоже, чтобы дело было в Эксе. В июле Поль с друзьями собрались все вместе в Беннекуре — троица и еще Солари, Валабрег и Ру купались, удили рыбу, катались на лодках и бродили пешком. Они с наслаждением предавались отдохновению, напоминавшему им давние экские деньки. Позднее Золя описал эти сцены в «Творчестве» в качестве медового месяца, хотя фактически медовый месяц Клода был, скорее, его собственный, ибо вместе с ними была его Габриэль. Беннекур, стоявший на Сене между Парижем и Руаном, представлял собой скопление окрашенных в желтый цвет домиков, протянувшихся вдоль реки за аллеями тополей. Вокруг лежали поля и поросшие лесом холмы; на реке было немало тростниковых островов. Тишина нарушалась лишь старым паромом с его звякающими цепями. «Отравленные надеждой перевернуть вскоре все, что есть», как писал Золя, молодые люди отправлялись после обеда поваляться на охапках соломы во дворе постоялого двора мамаши Гигу, курили и разговаривали. «Это был час теорий, яростных несогласий, который затягивался за полночь и подчас заставлял просыпаться перепуганных крестьян. Мы покуривали трубки и созерцали луну. В качестве последнего аргумента мы обзывали друг друга идиотами». Поэты ратовали за романтизм, художники предпочитали реализм. 26 июля Золя писал Косту: «…три дня тому назад я был еще в Беннекуре, с Сезанном и Валабрегом. Они остались там и вернутся в начале следующего месяца. Как я Вам и говорил, это самая настоящая колония. Мы затащили туда Байля и Шайяна; и Вас мы туда тоже затащим. Сезанн работает. Он все больше утверждается на том своеобразном пути, куда его влечет его натура. Мы рассчитываем, что ему будут отказывать еще десять лет. Он стремится сейчас делать большие композиции, полотна по четыре-пять метров. Скоро он уедет в Экс, может быть, в августе, а может быть, только в конце сентября, и пробудет там самое большее два месяца…»
В августе Поль вернулся домой и прошелся по Бульвару со «своими редкими длиннющими волосами и с бородкой революционера», как писал Марион. Но «нас стали здорово уважать в Эксе, нам кланяются на улице». В этой группе был теперь Поль Алексис, сын богатого стряпчего, который томился, изучая право, и мечтал сбежать в Париж и в литературу. Что касается Поля, то он как будто имел некоторый успех в Эксе, ходили разговоры, правда, только среди его приверженцев, что ему предлагали директорство в музее. Какой-то местный поэт посвятил ему стихи, напечатанные в городской газете. «Какой-то идиот посвятил ему стихи, — комментировал Марион. — Что за сборище кретинов!» Сам Поль, почувствовав, что ему не удается картина с Розой, читающей своей кукле, решил написать Валабрега и Мариона на пленэре, но снова был не удовлетворен сделанным. «Сейчас ему позируем я и Марион, — писал Валабрег. — Мы идем, взявшись под руку, и вид у нас нелепейший. Поль ужасный художник в смысле поз, которые он придает своим моделям, и разгулом своих красок. Всегда, когда он пишет кого-нибудь из своих друзей, кажется, что он мстит за какую-то скрытую обиду» (письмо от 2 октября).
Внезапное ухудшение погоды усугубило депрессию Поля. Приехал Гийме со своей женой Альфонсиной. (Ранее он уже был с месяц в Эксе, ему нравилось там. Возможно, это тогда он вступался за Поля перед Луи-Огюстом и просил увеличить содержание. Впрочем, история недостоверна.) Вместе с Полем Гийме ходил писать на холмах около плотины. Их часто сопровождал Марион, занимавшийся там геологическими изысканиями.
В письме Поля к Золя от 19 октября обобщаются все события тех дней: «Вот уже несколько дней, как упрямо льет дождь, Гийме приехал вечером в субботу, сперва он жил у меня, а вчера — в среду — нашел себе небольшое, довольно приличное помещение за 50 франков в месяц с постельным бельем. Несмотря на ливень, пейзаж великолепен, мы сделали несколько этюдов. Как только погода исправится, он возьмется серьезно за работу. А я изнываю от безделья, вот уже четыре или пять дней, как я ничего не пишу. Я только что закончил одну маленькую картину, которая мне кажется лучше всех прежних; на ней моя сестра Роза читает вслух своей кукле. Размер картины только один метр; если хочешь, я тебе её подарю. Она величиной с портрет Валабрега. Я хочу послать ее в Салон.
В квартире Гийме на первом этаже помещается кухня и гостиная с окнами в сад при доме. У Гийме две комнаты и кабинет на втором этаже в правом крыле дома, который стоит в начале Итальянской дороги, как раз напротив домика, где вы жили, там еще растет сосна, ты должен помнить. Это рядом с кабачком матушки Констален.
Но, знаешь, все картины, сделанные дома, в мастерской, никогда не сравнятся с вещами, написанными на пленэре. В сценах на открытом воздухе удивительно сопоставление фигур с природой, а пейзаж здесь великолепен. Я вижу прекрасные вещи, и надо начать работать только на пленэре».
Именно в октябре 1866 года Поль определенно осознал ценность работы на открытом воздухе. Июль он провел вместе с Золя, но теперь он описывал свои взгляды так, будто они появились только что, или по крайней мере так, будто окончательное решение он принял лишь теперь.
«Я тебе уже говорил о картине, к которой собираюсь приступить. На ней Марион и Валабрег отправляются на мотив. (Я имею в виду писать пейзаж.) Я сделал с натуры эскиз (он понравился Гийме), по сравнению с ним все остальное кажется плохо. Я думаю, что в картинах старых мастеров изображения предметов на открытом воздухе сделаны по памяти, потому что в них нет того своеобразия и той правдивости, которые присущи природе. Папаша Жибер из музея пригласил меня посмотреть музей Бургиньона (коллекция Бургиньон де Фабрегуль, переданная музею Экса. — Дж. Л.), и я отправился с Байлем, Марионом и Валабрегом. Мне ничего не понравилось. Это очень утешительно. Я все хандрю, и только работа меня немного развлекает, и еще мне веселее, когда кто-нибудь рядом. Я встречаюсь только с Валабрегом и Марионом, а теперь и с Гийме. (Здесь в письме следует набросок сестры Сезанна. — Дж. Л.) Рисунок даст тебе какое-то представление о подарке, который я хочу тебе сделать. Посредине сидит моя сестра Роза и читает маленькую книжку, она сидит на кресле, кукла на стуле. Фон черный, голова светлая, сетка для волос голубая, детский фартучек голубой, платье темно-желтое; слева небольшой натюрморт, миска, детские игрушки».
Эскиз картины Мариона с Валабрегом сохранился, он очень близок к маленькому рисунку в письме. Это легкий набросок, но в нем заметен прогресс в передаче момента и точном схватывании формы.
«Передавай привет Габриэль, также Солари и Байлю, он должен быть в Париже со своим frater’oM. Надеюсь, что теперь, когда у тебя кончились неприятности с Виль-мессаном, ты чувствуешь себя лучше и работа тебя не очень тяготит. Я с радостью узнал, что ты поступаешь в редакцию большой газеты. Если ты увидишь Писсарро, кланяйся ему от меня. Повторяю, я в унынии, но без всякой причины. Ты знаешь, что на меня, неизвестно почему, каждый вечер находит тоска, когда садится солнце и начинается дождь.
Представь себе, я ничего не читаю. Я не знаю, согласишься ли ты со мной, но я все равно так думаю: мне начинает казаться, что искусство для искусства — страшная чушь. Это между нами. Вот набросок моей будущей картины на пленэре.
P. S. Четыре дня я уже ношу письмо в кармане и чувствую, что его пора уже послать,
Прощай, дружище, Поль Сезанн».
Инцидент с Вильмессаном касается публикаций статей о Салоне в газете «Эвенман»; упоминаемая «большая газета», по всей видимости, «Фигаро». Упоминания о живописи на пленэре связаны с возрастающей дружбой с Писсарро. Приветы, которые он передает через Золя, не помешали ему сразу же написать непосредственно самому Писсарро. Это письмо можно назвать знаком доверия и симпатии, ибо только близкому человеку мог Сезанн отправить письмо с резким поношением всего своего семейства, включая мать и сестер.
«Дорогой друг, я дома, среди самых отвратительных существ, какие только есть на свете; среди своей семьи, осточертевшей мне сверх всякой меры. Но не будем больше об этом. Я вижусь каждый день с Гийме и его супругой, они довольно хорошо устроились на бульваре Сент-Анн, 43. Гийме еще не приступил к большой работе, пока делает маленькие этюды, очень неплохие. Вы совершенно правы насчет серого цвета, только он и царит в природе, но уловить его здорово трудно. Пейзаж здесь очень красив, в нем много своеобразия, и Гийме сделал в пасмурную погоду, за вчерашний и сегодняшний день, очень хороший этюд. Его теперешние работы гораздо лучше тех, что он привез в прошлом году из Ипора. Меня они просто восхищают. Впрочем, увидите сами. Я больше ничего не скажу, только то, что он собирается приняться за большое полотно, как только исправится погода. Из следующего Письма, которое Вам будет написано, Вы, наверно, узнаете хорошие новости о его картине».
Как видно, Поль все еще выказывает много уважения такому посредственному живописцу, как Гийме. Посреди всех его меняющихся подходов к Делакруа, Курбе и Писсарро Поль не мог ясно представить, что, собственно, ему делать со своим мощным зовом к живописи, как освобождать чувство цвета и как строить мощную форму.
«Я только что отправил письмо Золя. Я понемногу работаю. Но здесь трудно доставать краски и они дороги. Маразм, маразм. Будем надеяться, будем надеяться, что продажа состоится. Тогда заколем золотого тельца.
Вы ничего не посылаете в Марсель, я тоже. Я не хочу больше посылать, тем более что у меня нет рам, и чем расходовать на них деньги, лучше истратить их на краски. Это я говорю о себе, а потом — будь проклято жюри.
Я надеюсь, что солнце нас еще побалует хорошей погодой. Очень жаль, если Ольер не сможет, как говорит Гийме, вернуться в Париж, боюсь, он очень-соскучится в Пуэрто-Рико, и потом, очень трудно заниматься живописью, не имея под рукой красок. Он говорил мне, что хотел бы поступить на торговое судно, которое отправляется прямиком во Францию. Если Вы будете нам писать, укажите, как ему послать письмо, то есть какой адрес написать на конверте и сколько наклеить марок, чтобы оплатить письмо полностью и не доставить ему лишних расходов».
В это письмо Гийме вложил записку, в которой заметил: «Сезанн сделал несколько очень хороших полотен. Он снова работает в светлой гамме, я уверен, Вы будете очень довольны теми тремя пли четырьмя картинами, что он пришлет. Что до меня, я не уверен, когда вернусь, возможно, когда мои картины будут закончены. Итак, Вы возвращаетесь в Париж, и я надеюсь, что Вашей жене там будет лучше, чем в Понту азе. Детки в порядке, я полагаю». 2 ноября Гийме написал Золя интересное письмо о Поле:
«Вот уже месяц, как я в Эксе, этих Афинах юга. Уверяю Вас, время не теряется даром. Прекрасная погода, живописная земля, люди, с которыми можно говорить о живописи и возводить теории, разрушаемые назавтра же, — все это помогает делать мое пребывание здесь чрезвычайно приятным. Поль в двух своих письмах писал Вам больше обо мне, чем о себе, я сделаю то же самое, то есть обратное, и напишу Вам о Маэстро. Он, можно сказать, похорошел; он носит длинные волосы, у него здоровый вид и на него оглядываются на Бульваре. С этой стороны все в порядке. Хотя он по-прежнему часто бывает в возбужденном состоянии, но время от времени тучи рассеиваются, и живопись собирается вознаградить его усилия, если его поддержат заказы, — одним словом, «небо будущего кажется иногда менее мрачным». По его приезде в Париж Вы увидите несколько картин, которые Вам очень понравятся. Среди них «Увертюра к «Тангейзеру», которую можно было бы посвятить Роберу, потому что пианино вышло очень удачно. Очень хорош портрет отца в большом кресле, колорит светлый и манера очень красива. Отец выглядел бы, как папа на троне, если бы не газета «Сьекль», которую он читает. Одним словом, дело идет, и будьте уверены, скоро мы увидим прекрасные вещи.
Жители Экса продолжают его изводить; они просят разрешения посмотреть его живопись и после бранят ее. Он придумал хороший способ: «На…ть я на вас хотел», — говорит он, и робкие люди в страхе убегают. Несмотря на это или именно поэтому, общественное мнение становится благосклоннее к нему, и близится время, когда ему предложат пост директора музея. Этого я очень хотел бы, так как, насколько я знаю Поля, в музее тогда появятся несколько пейзажей, довольно удачно написанных шпателем, которые иначе вряд ли могут попасть в какой-нибудь музей…
Холера, как Вам известно, уже покинула юг, но у нас остался Валабрег, который с умопомрачительной плодовитостью каждый день приносит по нескольку трупов (в стихах, конечно). Он покажет Вам довольно забавную подборку по возвращении в Париж. Те стихи, с которыми Вы уже знакомы, называвшиеся раньше «Два трупа», теперь переименованы в «Одиннадцать трупов»… Что касается молодого Мариона, которого Вы знаете, он лелеет надежду получить кафедру геологии. Он делает раскопки и старается нам доказать, что Бога никогда не существовало и что нелепо в него верить. Но мы мало этим интересуемся, это не живопись…»
Картина «Тангейзер» была написана в честь Вагнера, в память о его концертах, которые устраивал Морштатт. Набросок был сделан за одно утро, и Марион нашел его превосходным: «Он также принадлежит будущему, как и музыка Вагнера». Портрет Луи-Огюста, должно быть, имеется в виду тот, где он читает «Эвенман», странно, что Гийме назвал газету «Сьекль». Возможно, сначала была действительно «Сьекль», а потом Сезанн поменял название газеты на то, где был напечатан «Мой Салон» Золя.
Из писем мы знаем несколько точно датируемых произведений и можем заключить, что к 1866 году Поль сделал большой шаг в овладении техникой масла. В портрете его отца появилась уверенность формы и глубокое проникновение в характер, что является значительным развитием по*сравнению с портретом отца, выполненным вскоре после второй поездки в Париж. (Если Поль приезжал домой летом 1863 года, он мог тогда написать его.) Работа подписана 1864 годом, в портрете видна попытка написать обобщенный силуэт, на заднем плане написан натюрморт — нож, яйца, стакан и кувшин, показывающий растущее мастерство кисти. Похоже, что в 1866 году Сезанн в наибольшей степени подпал под самые разные влияния, бродившие в нем еще со времен его первой поездки в Париж. Он полностью порвал со своим ранним экским академизмом и тщательной мелочной пропиской. Он знал уже кое-что об идеях Писсарро, но как будто не очень был ими увлечен. По-прежнему Поль находился в душевном и эстетическом смятении, что было по-своему ценно, так как заставляло порождать его все новое, но оно же не давало ему утвердиться на одном каком-либо пути роста. В течение нескольких лет Сезанн колебался довольно широко между различными методами или стилями, каждый раз он пытался возобладать над трудностями путем яростной атаки на холст. Его место в сознании окружающих в то время неплохо видно из слов Мариона в письме к Золя: «Поль стал возбудителем эпидемии в Эксе. Сейчас все художники, даже расписывающие стекло, стараются писать пастозно». Гийме писал, что они с Полем часто ходят на плотину и собираются вернуться в Париж в декабре. Поль добавил короткую записку, что он не кончил свою большую картину с Вала[брегом] и Марионом и что «Семейный вечер» не удался. Но в то же время, пользуясь новыми достижениями, он писал теперь много и довольно успешно. Он усадил Валабрега позировать для этюда головы — «Лицо красного, как огонь, цвета с процарапанными полосами белого; это живопись каменщика». Но «к счастью, я позировал всего лишь один день». Напротив, послушливый дядюшка Доминик позировал день за днем, причем каждый раз рождался новый образ. Эти портреты преисполнены страстью и умением, краски часто наложены мастихином. Метод писания отдельных зон, которые в пределах черных контуров образуют невнятицу, применен здесь в раскованной композиции, с эффектным размещением масс и пространства. Наиболее выразительным примером является портрет Доминика в образе доминиканского монаха в белой рясе и со скрещенными руками. Возможно, это первая картина, в которой Поль сумел выразить свой внутренний конфликт подходящими художественными средствами. Формы складываются на полотне в строгие выверенные структуры; в них есть внутреннее напряжение между разными частями фигуры (голова и руки) и белой рясой. Это напряжение еще усилено цветовым контрастом между теплой земной плотью и белизной религиозного облачения. Черные волосы, обрамляющие лицо, дают колористическое основание для проведения густых черных контуров, разделяющих разные участки композиции. Синяя лента, на которой висит распятие, резко выделяется на фоне белого одеяния и вместе с тем объединяет все три фрагмента открытого тела. Полю удалось выразить тот конфликт между своей сильной чувственностью и тревожными страхами, которые лишали его возможности легко удовлетворять страсти и вместе с тем вовлекали его в чистое служение (искусству). Свои собственные проблемы Поль проецировал на позировавшего ему. Имя «Доминик», осмысленное как «доминиканец», послужило основой для каламбура, которые нравились Полю и возбуждали его воображение, как поэтическое, так и пластическое. Несомненно, он знал, что орден доминиканцев был возрожден проповедником Лакордером с целью внедрить республиканские идеи в церковь. (Лакордер был противником бонапартистского переворота; он также основал общество за возрождение религиозного искусства, он и его орден были хорошо известны поэтам и художникам. Похоже, что Поль придал этому образу многогранный смысл. Доминиканец, смиренно обращающийся внутрь себя, является в то же время борцом в сферах политики и искусства.)
Гонкуры в «Манетте Саломон» (1867) хорошо выразили то, что Делакруа называл послеромантическим расколом: «(Энгр) явился всего лишь основателем цветной фотографии XIX века для размножения Перуджино и Рафаэлей. Делакруа был на другом полюсе, другой человек. Образ упадка этого времени — смешение и неразбериха: литература в живописи, живопись в литературе, проза в поэзии, стихотворения в прозе, страсти и нервы нашего времени, современные муки. Упадок возвышенного во всем. (…) Его картины — шедевры в зародыше… По части движения — дикая жизнь, возбуждение и круговерть, но безумный рисунок, яростное движение, напряжение мускулов… моделировка треугольников и ромбов, которые не являются контурами тела, но обозначают экспрессию, рельеф его формы. Относительно колорита — несогласованная гармония, единства нет, тяжелые безжалостные краски, жестокие для глаза, который погружается в трагические тональности, искушающие глубины распятия, ужасы ада, как в его «Данте».
К этому надо добавить недостаток солнечного света, непрозрачность. Большая часть этого описания приложима к тому, что делал Сезанн. Он единственный из своего поколения продолжал и довел до крайности те тенденции, которые художники большой чувственности находили в Делакруа.
Десятого декабря Золя писал Валабрегу: «Скажите Полю, чтобы он возвращался поскорее. Он внесет немного бодрости в мою жизнь. Я жду его как спасителя. Если он не собирается приехать на днях, попросите его написать мне. Самое главное, пусть он привезет все свои этюды, чтобы доказать мне, что я тоже должен работать». Он много думал о романе, но был далек от того, чтобы решить, чем следует продолжить «Исповедь». В течение года в своих обзорах он восхвалял такие работы, где повествовалось о том, что он считал настоящей жизнью, — не о «куклах, набитых опилками, а о существах из плоти и костей, которые по-настоящему плачут и в ком течет настоящая кровь». Он готовил себя к тщательному изучению исторического развития романной формы. В конце 1866 года его пригласили участвовать в научном конгрессе, проходившем в Эксе. Не имея возможности присутствовать лично, Золя послал свой материал по почте — очерк романа, начиная от древних греков и до XIX века, кончая Бальзаком, которого он изучал и чье влияние явственно присутствует в «Ругон-Маккарах».
Глава 5
Сомнения и уверение
(1867–1879)

Из свидетельств о манерах и привычках Поля в первые годы становления его как художника следует, что он был мятежником и законченным представителем богемы. XIX столетие увидело приход нового типа художника — респектабельного и богатого делового человека, поломавшего статус простого ремесленника, который ранее преследовал его даже на вершине успеха. Давид, с его карьерой политика, организатора и градостроителя, положил начало слому старых представлений. В XIX веке повелось, что академический художник, который мог продавать свои картины за большие цены, был столь же уважаем, как и всякий другой деловой человек, делающий деньги. Но такая роль вряд ли могла удовлетворить тех, кто продолжал славить гений, как то было свойственно романтическому движению, или тех, кто, подобно Курбе, стремился связать искусство с борьбой за перестройку общества. Под чопорным и самодовольным академическим миром, делающим деньги, нарастал богемный бунт, в котором часто были перемешаны романтические идеи и социальный протест. Насколько высок был при Империи статус академии, показывает история про то, как Моне писал вокзал Сен-Лазар. Находившийся тогда в безнадежно нищем положении Моне оделся в лучший костюм и смело направился к суперинтенданту железных дорог и представился ему как «художник Клод Моне». Чиновник, который не мог представить, что перед ним отнюдь не прославленный маэстро, выставляющийся в Салоне, пообещал Моне сделать все, что тот просит. Все поезда были остановлены, платформы очищены, в паровозы было заправлено предельно много угля, чтобы обеспечить требовавшиеся художнику клубы дыма.
Многие инакомыслящие, подобно Мане или Дега, отказывались поддерживать статус художника — корректного господина и сознательно играли роли модных фланеров. Художники в мастерских на картинах Фантен-Латура и Базиля все обладают весьма модной и живописной наружностью. Мане, несмотря на его диссидентские взгляды, запросто давали солдат в качестве моделей для картины «Казнь императора Максимилиана». Люди, вышедшие из Школы изящных искусств и закончившие обучение в Римской Академии, были уверены, передает Золя, что «государство должно предоставить им все — уроки, чтобы сначала обучать, Салоны, чтобы потом выставлять, медали и деньги, чтобы в результате награждать».
Произведения, подобные «Жизни богемы» Мюрже, устанавливали антиреспектабельные нормы, провозглашали беззаботную жизнь в искусстве, любви и вине среди бедных художников, которые или не сумели достичь успеха, или полностью противопоставили себя господствующим порядкам. Поль, который, вне всякого сомнения, читал вместе с Золя в ранние экские дни Мюрже, был сильно им впечатлен. Теперь он мог узнать более правдоподобное описание жизни художников в мастерских из романа Гонкуров (1867), в коем, впрочем, была своя идеализация мятежников, которые, в частности, были сбиты с пути женщинами (натурщица Манетта). Приведем выдержку из романа, описывающую антибуржуазный подход художников к жизни с их сложно перемешанными мотивами и побуждениями.
«У каждого был свой анекдот, свое словечко, своя повадка; каждое новое высказывание встречалось криками «ура», смехом, ворчанием, насмешками, порождало шутки, которые все имели целью сожрать буржуазию. Можно было подумать, что сейчас слышится вся художническая ненависть, все презрение, вся затаенная злоба, все возмущение крови людей искусства, все их глубоко укорененное неприятие, которое вышло наконец наружу в ужасных воплях против этого комического чудовища — буржуазии, попавшей в яму к художникам, которые сокрушали сейчас ее нелепых представителей. И все вновь и вновь возвращались к рефрену: «Нет, они чрезвычайно глупы, эти буржуа».
В основе этого спектра эмоций лежали сильные социальные антагонизмы. Барбизонская школа возникла после революции 1848 года и была антиаристократической в своей основе. «На меня никогда не давило искусство парижских рисовальных Салонов, — говорил Милле, — крестьянином я родился, крестьянином и умру». Луи Блан и фурьеристы занимали позицию, защищавшую искусство действительности в противоположность такому, которое идеализировало ценности правящего класса. После того как Шарль Блан стал директором департамента изящных искусств, государственные заказы и предпочтения стали отдаваться Милле, Руссо, Добиньи, Дюпре. Никто не мог забыть, что социалист Прудон, защитник Курбе, начертал такую программу для реалистов: «Живописать человека со всей подлинностью его натуры и привычек, за его работой, в окружении его общественных и домашних обязанностей, с его действительной значительностью, но самое главное без идеализации. Удивлять людей, заинтересовывать их, обращаясь прямо к их неподготовленному сознанию с целью образования. Вот в чем я вижу истинную отправную точку современного искусства».
Защитники академического искусства от реализма прекрасно понимали, что они защищают прежде всего искусство для привилегированных классов. Граф Ньюверкерке, сюринтендант изящных искусств, который возглавлял официальный патронаж Империи, говорил о барбизонцах и близких им художниках: «Это живопись демократов, тех, кто не меняет свое белье, но хочет поставить себя выше людей света. Это искусство не нравится мне и беспокоит меня». Результатом такого подхода были мятежные характеры вроде Поля, которые и вправду почитали доблестью не менять белье…
Хотя личные взгляды импрессионистов весьма сильно различались между собой, колеблясь от сильно окрашенных социализмом воззрений Писсарро до элитарно настроенного Дега, все движение в целом имело под собой ясную общественную основу — частично она заключалась в протесте против аристократических ценностей Империи и псевдоэлегантности высшей буржуазии и частью — в утверждении демократических вкусов. Демократический элемент в свою очередь имел много оттенков и разновидностей, а также противоречий, расходясь веером от превозношения рабочих и крестьян до провозглашения незамысловатых удовольствий плебейских форм досуга. Об этом хорошо сказал Вентури: «Тот факт, что их интересы были в согласии с большинством, иллюстрирует то обстоятельство, что моральный и социальный контекст их искусства был новым. Красавицы Ренуара были не бульварными нимфами, а девушками из предместий; крестьянки у Писсарро выглядели еще более деревенскими, чем у Милле, — налицо связи между ними и персонажами «Отверженных»; паровозы Моне выбрасывали струи революционной энергии; Сезанн периода его десяти импрессионистических лет, как и Золя, был по духу своему анархист. Их живопись означала конец привилегированным, разрыв с элегантностью и роскошью, появление нового чувства собственного достоинства, присущего людям из народа. Ривьер мог сказать: «Разработка сюжета ради тонов, а не ради самого сюжета — вот отличительная черта импрессионистов, вот что выделяет их среди остальных художников». Но тона и оттенки были не чем иным, как их способом морального и социального подхода к жизни; это было катарсисом, моментом откровения нового, нарождающегося мира».
Весна 1867 года, несомненно, вдохновляла диссидентские настроения. Огромная международная выставка была открыта в Париже, чтобы поразить мир, поднять престиж Империи и перекрыть растущие общественные противоречия. Париж стал более чем всегда центром индустрии удовольствий; княгиня Меттерних назвала готовящееся событие «большим тра-ля-ля». Военные оркестры играли в саду Тюильри, в огромном количестве устраивались балы и всевозможные приемы; в общественных парках танцевали толпы народа. Все болтали о начале международного сотрудничества, в котором железные дороги и телеграфы должны были явиться спасителями человечества. О Марсовом поле, где собралось множество деловых людей из разных стран, беспрестанно говорили, что его должно переименовать в Мирное поле; никто не обращал внимания на мощные пушки Круппа, размещенные там же между плюшевыми шторами и ландышами. На бульварах продавали фотографии Александра Дюма-отца, прижимающего Аду Менкен к своему огромному животу. Три императора — русский, прусский и французский — принимали вместе 6 июня парад. Но когда Наполеон возвращался домой с царем в экипаже, в последнего из толпы стреляли. Спас Александра быстрый возница. А в день большого праздника на выставке пришла телеграмма из Мексики: «Император Максимилиан осужден и расстрелян».
Поль вернулся в Париж вместе с Гийме в начале 1867 года. Перед тем как уехать из Экса, он послал одну картину в Марсель, торговцу картинами, который устраивал выставки-продажи. Валабрег, который остался в Эксе, писал Золя: «Было много шума, на улице толпился народ, люди были ошарашены. Спрашивали имя художника, так что с этой стороны, можно сказать, был некоторый успех, по крайней мере любопытство было возбуждено. Вообще же, я думаю, если бы картина оставалась на витрине дольше, то стекло было бы разбито и картина порвана…»
Золя мечтал о группе, работающей и борющейся вместе. 10 февраля он писал Валабрегу: «Я не собираюсь скрывать, что хотел бы видеть Вас среди нас сражающимся, подобно нам, воюющим направо и налево, шагающим впереди». Через девять дней он писал: «Поль много работает, он уже написал несколько картин, мечтает об огромных полотнах, жму Вашу руку от его имени». Он добавляет: «Я здесь окружен одними художниками, нет никого из писателей, с кем бы можно было бы поболтать». 4 апреля Золя писал: «Полю отказано, Гийме отказано, всем отказано. Жюри, раздраженное «Моим Салоном», выставило за дверь всех, кто идет по новому пути». Из письма от 29 мая мы узнаем: «Сезанн возвращается со своей матерью через десять дней. Он говорит, что проведет месяца три в глуши и вернется в сентябре. Он чрезвычайно нуждается в работе и поддержке». То, что его мать присутствовала в Париже в то время, когда он посылал картины в Салон и получил отказ, должно быть, особенно обескуражило его.
Критики «Эуроп» и в «Фигаро» осмеивали Сезанна. Золя, не написав в этом году «Салон», обратился с письменным ответом в «Фигаро» 12 апреля: «Уважаемый коллега, будьте так любезны поместить несколько строк опровержения. Дело идет об одном из моих друзей детства, о молодом художнике, сильный и своеобразный талант которого я очень ценю.
Вы перепечатали из «Эуроп» небольшой текст, где говорится о некоем мсье Сезаме, который якобы выставил в «Салоне отверженных» 1863 года «две скрещенные свиные ножки», а что в этом году у него не приняли в Салон картину, названную «Пунш с ромом».
Должен сказать, что я не сразу узнал под личиной, которую ему надели, своего старого товарища по коллежу мсье Поля Сезанна, у которого, однако, среди его произведений никогда не было картины, изображающей свиные ножки, по крайней мере до сих пор. Я делаю эту оговорку, потому что не знаю, почему бы не писать свиных ножек, ведь пишут же тыкву и морковь. В этом году жюри действительно отклонило наряду с работами многих других прекрасных художников две картины мсье Поля Сезанна: «Пунш с ромом» и «Опьянение».
Мсье Арнольд Мортье решил поострить по поводу сюжета этих картин, и он напряг все силы своего воображения, чтобы их описать. Эти усилия делают ему честь. Я знаю, что это только милые шуточки, которые не надо было принимать всерьез. Но что Вы хотите? Я никогда не мог понять этот метод критики, заключающийся в насмешках и издевательствах над тем, чего не видел. Во всяком случае, должен сказать, что описания Арнольда Мортье не точны.
Даже если так, мой дорогой коллега, добавьте свое мнение: Вы «убеждены, что художник мог добавить философскую идею в свои картины». Это неверное убеждение. Если Вы хотите найти философствующих художников, поищите их среди немцев или даже среди приятных французских мечтателей. Но аналитические художники, молодая школа, чей курс я имею честь защищать, удовлетворяются самой великой реальностью природы».
Он добавляет далее, что многие художники обращались с просьбами устроить новый «Салон отверженных», так что Мортье сможет вскоре увидеть те работы, которые он столь решительно поносил.
Философская живопись объединяется у Золя с идеализацией, как у Шеффера, ныне еще более отвергаемым, поскольку в свое время Поль и Золя восхищались им. Но в глубинном смысле «войти в великую реальность природы» и означает быть философским, и в этом отношении Поль всегда пытался с разной степенью успеха быть философским художником. В то же время Золя, провозглашая натурализм, пытался найти новую философию романа. «Искусство» было отвергнуто, как в живописи, так и в литературе, во имя «Натуры», и в рамках ее могло быть достигнуто новое жизненное искусство.
Золя со своими расходами, удвоенными его женитьбой, вынужден был переехать в Батиньоль. Дишь полторы тысячи экземпляров «Исповеди» было распродано. Он был вынужден вернуться к журналистской работе. Работая над романом «Брак по любви» (позднее названным «Тереза Ракен»), он написал серию дешевых, по два су за строчку, очерков для «Мессаж де Прованс». Эта работа наскучила ему, но с помощью Ру он подготовил ее для сцены. Валабрегу, который укорял его за такую халтуру, он отвечал, что нуждается в деньгах и известности; «серия ничего не значит для меня, но я знаю, что делаю». Валабрет поблагодарил его за защиту Поля. «Поль — ребенок, не знающий жизни. Вы его руководитель и защитник. Вы его охраняете. Вы рядом с ним, и он уверен, что Вы его всегда защитите. Между вами заключен оборонительный союз, а когда нужно, Вы сумеете перейти в нападение. Вы его мыслящая душа. Его судьба писать картины, Ваша — устраивать его жизнь». К этому времени Поль уже покинул Париж, а Валабрег вскоре приехал, получив работу у Арсена Уссей в «Артист».
В августе Золя не имел известий от Поля целый месяц. М. Ру был в Марселе, договариваясь с местным театром Жимнас о постановке их пьесы, и Золя попросил его повидать Поля. Ру отправился, но общением с Полем был поставлен в тупик: «Я обещал написать сразу по приезде в Экс. Но это оказалось бы слишком поспешным, так как я не сразу смог ответить на Ваши вопросы. Даже и теперь не очень рано. Поль для меня — настоящий сфинкс. В первые же дни моего пребывания здесь я отправился проведать его. Я застал его дома, и мы поговорили довольно долго. Несколько дней назад мы вместе отправились за город и провели там вместе ночь, у нас было довольно времени поболтать. Но, однако, все, что я могу сказать, так это то, что он здоров. Не то чтобы я забыл наши разговоры. Я перескажу Вам их дословно, а Вы переведете их. Что касается меня, то я не в состоянии. Вы понимаете, что я имею в виду. Я не так уж хорошо знаю Поля, чтобы проникать в точный смысл его слов. Все же (я отваживаюсь гадать) он сохраняет святую увлеченность живописью. Он еще не сломлен; но я полагаю, что, не питая такого энтузиазма к жизни в Эксе, как к живописи, он тем не менее предпочитает Экс Парижу. Он подавляет в себе это существование, подобное Гомару (? — Дж. Л.), и питает почтение к папашиной вермишели. Верит ли он, что он был бит Гомаром, а не Ньюверкерке? Вот это я не могу сказать Вам, это Вы решите сами, когда я опишу подробно наши разговоры».
Ясно, что Ру ощущал, что при всей своей увлеченности живописью Поль жестоко страдал от мещанского Экса и в особенности от отца. (Вермишель служит жаргонным обозначением волос, также на воровском арго это кровеносные сосуды; сдается, что здесь это означает пищу или средства к пропитанию его папаши.) Однако некоторых приятелей впечатляли работы Поля. Марион писал около этого времени Морштатту: «Поль много работает и более чем когда-либо верен своей манере. Однако в этом году он полон твердой решимости как можно скорее добиться успеха. За последнее время он сделал несколько действительно хороших портретов, на этот раз не мастихином, но написаны они так же сильно, как прежние, причем с гораздо большим мастерством и приятнее на вид… Его акварели особенно замечательны, совершенно необычные по цвету и производящие такое удивительное впечатление, которого, как мне всегда казалось, нельзя ждать от акварели…»
Несколько позже он писал еще: «Я хотел бы, чтобы ты видел ту картину, что он сейчас делает. Он снова обратился к ранее трактованному сюжету, который ты уже знаешь, «Увертюра к «Тангейзеру», в совершенно других, более светлых тональностях; все фигуры очень законченны.
Головка светловолосой девушки и изящна, и в то же время очень сильно написана, мой собственный профиль весьма похож, все выполнено тщательно и без грубости цвета. Фортепьяно чрезвычайно хорошо, а драпировки необычайно жизненны. Возможно, картину отвергнут на выставке, но ее непременно надо показать где-нибудь. Такого полотна, как это, достаточно, чтобы создать репутацию».
Золя присутствовал на первом представлении «Марсельских тайн», и Поль собирался вернуться в Париж вместе с ним. 6 сентября он был с Марионом на спектакле. Не один автор полагал, что пьеса дурацкая, оказалось, что так же думали и зрители, занавес опустился среди шиканья и свиста. 11 сентября Золя и Поль отправились в Париж. Поль не остановился на улице Ботрелли, а некоторое время переезжал: с улицы Шеврез на улицу Вожирар, а потом на улицу Нотр-Дам-де-Шан.
По всей видимости, в конце 1867 года он написал «Похищение», работая в доме Золя. В этой работе можно видеть новое ответвление его техники. Он отказался от мастихина и стал писать длинными мазками, что несколько походило на его стиль 1865 года, но с новой осмысленностью; мазки закруглялись и охватывали формы с нежной силой. Из пространства мягкого зеленого, покрытого перекрещивающимися мазками, что создает впечатление волнующегося моря, вырастает фигура высокого обнаженного мужчины, бронзовый оттенок кожи которого контрастирует с белизной женщины, которую он держит в руках. Волосы ее черного цвета, а с бедер ее спадает темно-синяя драпировка. В отдалении, под белым облаком, виднеется гора, смутно напоминающая гору Сент-Виктуар. Слева изображены несколько маленьких изогнутых девичьих фигурок. Дерево справа в подножии также имеет подобную легкую зыбь. Поль подарил полотно Золя, который, конечно, одобрил его как выражение их юношеских мечтаний. Возможно, несколько позже (в начале 1868 года) Поль написал прекрасный этюд «Негр Сципион», того самого, который позировал для «Спящего негра» Солари; в любом случае — похититель в «Похищении» и «Сципион» тесно связаны.
В «Творчестве» Золя изобразил Клода бродящим по улицам и думающим о бесполезных стенах церквей, вокзалов, рынков, которые он мог бы покрыть своей живописью. Мучая свои модели требованиями, он кричал: «Когда я думаю об этом проклятом ремесле моих родителей, я могу убить отца и мать» — примерно так Поль писал Писсарро в октябре 1866 года.
В декабре Золя опубликовал «Терезу Ракен», в которой он наконец показал признаки своего растущего таланта. Главная тема романа — история двух любовников, пошедших на преступление и убивших мужа героини и затем погибающих самих. Золя использовал «законы физиологии», довольно грубо сформулированные в качестве механизма судьбы, что было его неудачной попыткой найти нечто твердое и объективное, систему определенных законов, которые бы освободили его от мира мечтаний и позволили бы войти в таинственное Другое окружающего мира.
Письмо Мариона позволяет нам уточнить то, о чем Поль думал в это время и как его друзья реагировали на это. После обсуждения достоинств Курбе и Мане Марион решает, что «Поль на самом деле гораздо сильнее их обоих. Он мог бы более тщательно исполнять детали, сохранив в то же время свою широту. Так он достиг бы своих целей, его работы стали бы более совершенными. Я думаю, что момент его успеха недалек. Это все только вопрос исполнения». Но вскоре после этого он изменил свой оптимизм относительно признания: «Реалистическая живопись, мой дорогой, более чем когда-либо далека от официального признания, и Сезанн, по-видимому, еще долго не сможет участвовать в выставках живописи, которая пользуется официальной поддержкой. Его имя уже слишком известно, и с ним связывается слишком много революционных понятий в искусстве, чтобы члены жюри проявили хотя бы минутную слабость. И я восхищаюсь хладнокровием и твердостью Поля, когда он пишет мне: «А мы еще упорнее будем стоять на своем и неотступно будем бить их по голове своими работами».
При всем этом ему следовало бы подумать о какой-нибудь другой и более широкой пропаганде своих вещей. Он в настоящее время достиг прямо-таки удивительной степени мастерства. Его чрезмерные крайности смягчились, и мне кажется, пора ему уже получить возможность и средства для плодотворной работы».
Из этого можно уловить идеалы Поля в то время: прорабатывать детали, сохраняя широту письма; продолжать работу Курбе и Мане с большой мягкостью и богатством.
А какова же была обстановка в семейном окружении, в мире отцовской вермишели и банка, который обеспечивал Полю вечно его пугавшую независимость. Прежний подход к хранению и вкладам был по-прежнему сильным, однако в 1863 году государство прекратило контролировать компании со смешанным капиталом. Было основано Лионское общество кредита, кредитная сеть росла, и постепенно все зажиточные граждане усвоили банковские обычаи. Империя вдохновлялась духом спекуляций, что, в частности, показало себя в железнодорожном буме. Ему сопутствовали банковские кризисы — в 1857 году и в 1867-м, сменившийся тяжелой депрессией. Мир Луи-Огюста терял незыблемость; Поль, как ни пытался он заткнуть уши при слове «деньги», вряд ли мог оставаться в неведении относительно отцовских дел. Экономический фактор должен был усилить его беспокойство и сыграл определенную роль в его антагонизме по отношению к Империи.
Примерно в эти годы Сезанн встретил торговца красками папашу Танги. Жюльен Танги родился в Пледране в Бретани в 1825 году в семье мелкого ткача. Он освоил ремесло штукатура, женился на владелице мясной лавки и какое-то время продавал колбасы.Затем он служил в железнодорожной компании. В 1860 году он перебрался с семьей в Париж, где стал работать растирщиком красок в магазине у Эдуарда на улице К лозе ль. Наконец он сам сделался торговцем красками, а жена его стала консьержкой на Монмартре. Он был слишком беден, чтобы открыть собственный магазин, и хранил краски дома, а торговал ими вразнос, предлагая художникам-пленэристам. Новые художники нуждались во множестве красок. Танги интересовался работами, которые получались при помощи его товара, смотрел на художников как на друзей и охотно предоставлял им кредит. Страстный социалист, он не любил делание денег. Так как его клиенты часто находились в стесненных обстоятельствах, в уплату он обычно брал полотна. Ему нравились их картины, но он никогда не думал, что они могут стать ценными. Поль и Танги были в весьма коротких отношениях, и в конце концов торговец красками сделался обладателем неплохой коллекции «Сезаннов». Любимой его поговоркой было: «Человек, который живет больше чем на 50 сантимов в день, это просто подлец!»
В начале 1868 года Золя написал эссе о Валабреге, у которого были литературные притязания, и поместил его в антибонапартистской газете «Трибюн». Туда же он рекомендовал стихотворение Алексиса, выдав его за произведение недавно умершего Бодлера. Когда стихотворение было одобрено, он раскрыл имя истинного автора. Поль Алексис, который был восемью годами младше Сезанна, поступил в Коллеж Бурбон в 1857 году, когда Поль кончил курс. Под влиянием Валабрега Алексис стал горячим приверженцем Золя. С «Трибюн» был еще связан Теодор Дюре, с которым Золя познакомился благодаря Мане. 23 января «Фигаро» опубликовала нападки на «Терезу Ракен» некоего Феррагуса (Л. Ульбаха), озаглавленные «Гнилая литература». Роман Золя описывался в статье как «смешение крови и грязи». Золя приписывалось видение женщин, подобное тому, как «мсье Мане пишет их: грязными цветами и с красными румянами». Критик признавал, однако, что «некоторые части этого анализа ощущений двух убийц описаны неплохо. Я не буду систематически попрекать автора за пронзительные ноты, за грубые и густо-лиловые мазки…». Примерно так в то время могли сказать и о работах Сезанна.
Поль много общался с Солари, этим доброжелательным малым, который никогда не пытался как-либо давить на Поля. Ресурсы их были объединены, и они обычно умудрялись уже в начале месяца все потратить. Однажды Полю прислали большой кувшин оливкового масла из Экса. Приятели обмакивали в масло хлеб и так питались. Они нашли этот способ роскошным, ибо то и дело «облизывали себя с пальцев и до локтей», как свидетельствует Гаске. Солари работал над большой статуей негра, обороняющегося от собак. Этот прозрачный символ показывает, что симпатии к рабам периода американской гражданской войны все еще жили в умах. Золя приводил Мане посмотреть скульптуру. Погода была холодная, и Солари разжег огонь в честь посетителя. Оттаявшая глина стала в результате сползать с каркаса и лопаться. В итоге скульптура превратилась в поверженного негра, одолеваемого собаками. Поль говорил, что такие вещи обычны для реалистов, а Золя вставил этот эпизод в «Творчество». Жюри Салона было в этом году более терпимым и статую приняли, так же как, впрочем, и работы Мане, Моне, Писсарро, Сислея, Базиля и Ренуара. А Поль был снова отвергнут. Солари, который отправился во Дворец промышленности узнать новости о решении жюри, встретил там «Писсарро, Гийме и, короче, всех батиньольцев», как он рассказывал Золя. «Все они нашли картину Сезанна очень хорошей». Критик Кастаньяри, один из завсегдатаев кафе Гербуа, восклицал: «Двери Салона были открыты почти для всех. Граф Ньюверкерке не одобрял этот «Салон выскочек», Мане выставил там портрет Золя».
Успех свободомыслящих привел к тому, что журнал «Эвенман иллюстре» попросил Золя осветить выставку, оставив за собой право напечатать потом отзыв более традиционного критика. Золя просили отозваться об официальной школе лишь в самом общем плане; пользуясь этим, он «постарался избежать упоминания имен тех, чьи картины ненавистны ему». Он провозгласил успех Мане уже совершенно состоявшимся и превознес Солари.
«Классический пейзаж мертв, его убили жизнь и правда. Никто сегодня уже не скажет, что природа нуждается в идеализации, что небо и вода вульгарны и что необходимо вносить гармонию и исправлять горизонт, чтобы сделать приличную вещь… Наши пейзажисты отправляются на заре с ящиками за спиной, счастливые, как охотники, которые обожают свежий воздух. Они бродят и останавливаются везде — там на опушке леса, здесь на берегу реки, практически не ища специально свои мотивы, находя везде для себя подходящие горизонты».
В статье Золя было несколько несообразностей. Несмотря на то, что он усиленно защищает непосредственное копирование всего подряд, далее он настаивает на подвижном единстве художника и природы, на очеловечивании трактуемой сцены. К тому же он говорит так, будто все почитаемые им художники писали на пленэре, хотя и Делакруа, и Добиньи, и Руссо, и Курбе, и Коро кончали свои работы всегда в мастерских.
За статьей Золя скоро последовала статья Поля Дельмаса, в которой перечислялся список наиболее значительных работ Салона, начиная с Кабанеля и Бугро, этих ведущих академиков.
Пятнадцатого мая Поль написал письмо Косту, который проходил в то время военную службу в Париже, и предложил встретиться и пообедать на прощание, так как вскоре он собирался уезжать в Экс. В записке отразилось слабое знакомство Поля с миром действительности. «Я надеюсь, что, если я напишу просто «площадь Дюплекс», ты все-таки получишь эту записку». Поль назначил свидание на «21/2 минуты пятого или около того близ Пон-Рояля, рядом с тем местом, где он выходит на площадь Конкорд». После семилетнего знакомства с Парижем топография Сезанна остается довольно смутной. Уехать Поль собирался в субботу, 16 мая.
Должно быть, он так и сделал, так как 24 мая он уже писал из Экса Морштатту, рассказывая, что был на концерте Вагнера. В июле он снова писал Косту; это письмо говорит многое о его общительности и простоте, о теплоте и внутренней изоляции.
«Дорогой Кост,
вот уже несколько дней, как я получил от тебя письмо, но не знаю, что рассказать тебе нового о твоей родине, с которой ты разлучен.
Как только я приехал, я отправился на «травку», в деревню. Я несколько раз вырывался в город вечером, заходил к твоему отцу и не заставал его, но на днях попытаюсь застать его днем.
Алексис, узнав от большого Валабрега, что я вернулся из Парижа, был так любезен, что приехал сюда со мной повидаться. Он даже одолжил мне маленький журнал Бальзака 1840 года, он спрашивал о тебе, продолжаешь ли ты писать и т. д., в общем, все, что полагается спрашивать. Он обещал мне еще раз приехать, но прошел уже целый месяц, а я его не вижу. Я же, особенно после твоего письма, вечером несколько раз направлял свои стопы на Бульвар, что вообще не в моих привычках, но его не встретил. Подталкиваемый страстным желанием исполнить свой долг, я пойду к нему на дом; в этот день я предварительно переобуюсь и переменю рубашку. Я ничего больше не слышал о Рошфоре, но слава «Лантерна» докатилась и до нас».
Как видно, Поль горячо интересуется политикой и выказывает республиканские взгляды. Рошфор был страстным и бесстрашным защитником Республики; «Лантерн» — это его газета. В ней он начал сильную кампанию против Наполеона. В 1869 году газета подверглась новой порции поношений, она была запрещена и проникала в страну из соседней Бельгии — по распространенной легенде — внутри гипсовых бюстов императора. Поль продолжает:
«Я видел Офана, но все остальные куда-то попрятались. Вокруг тебя всегда образуется какая-то пустота, когда приезжаешь домой после долгого отсутствия. Не знаю, наяву ли я вижу или вспоминаю, но мне приходят в голову странные мысли. Я бродил один и дошел до плотины и до Сент-Антонена, я переночевал на мельнице на соломе — приятные хозяева, хорошее вино. Я вспомнил, как мы пытались взобраться на гору. Возобновим ли мы эти попытки? Мешают превратности жизни, перемены судьбы, и сейчас, когда я пишу, каким далеким кажется время, когда нас было трое и собака, а прошло всего несколько лет.
Я никого не вижу, только свою семью, и у меня никаких развлечений, кроме нескольких номеров «Сьекль», откуда черпаю безобидные новости. В кафе мне не хочется ходить одному. Но несмотря на все, я по-прежнему не теряю надежды.
Пено в Марселе. Нам не повезло. Я был в Сент-Антонене, когда он приезжал в Экс повидаться со мной. Я постараюсь как-нибудь съездить в Марсель, и мы вспомним отсутствующих и выпьем за их здоровье. В одном письме он мне написал: «Ну и выпьем же мы».
P.S. Я еще не кончил письмо, как нагрянули Детес (потомок торговца шерстью, в чьем деле служил Луи-Огюст в начале своей карьеры. — Дж. Л.) и Алексис. Ты сам понимаешь, что мы поговорили о литературе и потом промочили горло, потому что было очень жарко. Алексис был так мил, что прочел свое стихотворение, по-моему, очень хорошее, потом он прочел несколько строф из «Симфонии ля-минор». Эти стихи показались мне очень интересными, очень оригинальными, и я их очень хвалил. Я прочел ему твое письмо. Он обещал написать тебе. А пока я передаю тебе привет от него и от моей семьи, которой я рассказал о твоем письме. Я тебе за него очень благодарен, оно было как глоток воды в зной. Я видел Комба, он сюда приезжал. Крепко жму тебе руку, от всего сердца твой, Поль Сезанн».
Как обычно, Поль обратился к воспоминаниям ясных дней, проведенных совместно с Золя, что было для него необходимым контрастом по сравнению с растущим одиночеством, которое он ощущал вокруг себя. Пейзаж, который он живописал в письме, был утраченным пейзажем далеких дней юности, гора, на которую он мечтал взобраться, была горой тех давних мечтаний. Чувства его были столь сильны, что у него возникала потребность ограничивать и направлять их, то есть находить формы, в коих они не могли бы взорваться от преисполнявшей Поля мятежной энергии. Осенью Марион писал Морштатту: «Сезанн работает с прежним упорством и беспощадно укрощает свой темперамент, подчиняя его законам обдуманного мастерства. И вот увидишь, друг мой, если он добьется своего, он даст нам действительно сильные завершенные вещи». Но это было не так легко.
В другом письме Марион писал: «Сезанн собирается писать картину, для которой он хочет использовать наши портреты. Мы будем изображены на фоне пейзажа, один из нас будет что-то рассказывать, другие его слушать. У меня есть твоя фотография, так что там будешь и ты… Если картина удастся, Поль думает преподнести ее в хорошей раме в дар марсельскому музею, который, таким образом, будет вынужден пропагандировать реалистическую живопись, а заодно и всех нас». Об этой идее больше ничего неизвестно. Возможно, картина эта пропала во время одного из приступов депрессии Сезанна. «Что за поколение страдальцев, друг мой: и Золя, и мы с тобой, и столько других. При этой даже те из нас, кто избавлен от повседневных затруднений, страдают не меньше остальных: вот Сезанн, например, хоть и обеспечен материально, но все так же подвержен приступам мрачного отчаяния и ожесточенности. Нам остается только смириться с неизбежным». По утрам Марион, чье письмо мы цитируем, занимался геологией, а время с обеда проводил с Полем. «Мы обедаем. Слегка выпиваем, но не пьянствуем. Все это очень печально».
Примерно в конце ноября Поль снова писал Косту. Он собирался уехать в Париж в декабре, около пятнадцатого.
Письмо Коста «пробудило его от летаргии, в которую он окончательно погрузился». Предполагаемый и вожделенный поход к горе Сент-Виктуар отложила сначала жара, потом начались дожди.
«Ты видишь, как ослабла воля друзей детства. Но что ты хочешь, это так. Оказывается, не всегда можно быть деятельным, как говорят по-латыни, semper virens, полным бодрости или, правильнее сказать, легким на подъем.
Новостей никаких, кроме создания «Галубе» в «Марселе». Жибер pater, дурной pictor, отказал Ламберу в разрешении сфотографировать несколько полотен музея Бургиньона и, таким образом, не дал ему заработать; не разрешил Виктору Комбу делать копии. Норе — неуч, говорят, он готовит картину в Салон.
Это все идиоты. Папаша Ливе делает метровый барельеф уже 58 месяцев и застрял на глазу XXX святого. Еще говорят, что сир д’Агай, этот молодой fashionable (модник. — — Англ.), ты его знаешь, однажды зашел в музей Бургиньона, и матушка Комб ему говорит: «Оставьте вашу трость, папаша Жибер не велел пропускать с палками».
«Плевать я на него хотел», — отвечал тот и идет с палкой. Является Жибер pater, хочет устроить скандал. «Нас… ь мне на тебя», — кричит д’Агай. Так прямо и сказал.
Мсье Поль Алексис, очень неплохой малый и не гордец, живет поэзией. Я видел его несколько раз летом и недавно опять его встретил и рассказал о твоем письме. Он рвется в Париж и хочет уехать без родительского разрешения, хочет занять денег под заклад родительского черепа и улететь в другие края, куда его зовет большой Валабрег, который, кстати, не подает признаков жизни. Алексис благодарит тебя за память, он тоже тебя помнит. Я упрекал его в лености, и он сказал, что ты извинил бы его, если бы знал его затруднительное положение (поэт всегда вынашивает какую-нибудь «Илиаду» или, вернее, собственную Одиссею). Ты не должен поощрять его лень и забывчивость, но я стою за то, чтобы ты его простил, — он прочел мне несколько стихотворений, видно, что он талантлив. Он уже овладел мастерством стиха».
Мы можем прерваться здесь, чтобы остановиться на отношении Поля к музыке. Мы уже знаем, что он брал уроки музыки и участвовал в школьном оркестре, мы видели его интерес к Вагнеру, выраженный как в живописи, так и в письмах к Морштатту. В мае этого (1868) года он писал Морштатту: «Дорогой Морштатт, значит, мы свидимся еще с Вами на этом свете, раз Вы пишете, что возвращаетесь к своему ремеслу. Я очень рад за Вас, мы все стремимся заниматься искусством и желаем, чтобы материальные заботы не мешали нашей работе художника. С искренним сочувствием жму Вашу руку, которая больше не унижает себя торгашеством. Я с удовольствием прослушал недавно увертюры к «Тангейзеру», «Лоэнгрину» и «Летучему Голландцу». Привет, искренне Ваш Поль Сезанн».
Возможно, в 1865 году вместе с Ренуаром Поль ходил слушать Вагнера на концерты Паделу. Он и его окружение знали, что «Тангейзер» был снят со сцены после трех представлений, поэтому Вагнер виделся им одним из их товарищеской группировки «Отверженных».
«Вагнер! Это бог — в нем воссоединилась музыка всех веков! Его творения — огромный ковчег, в котором соединены все искусства, отразившие наконец истинную вселенную; оркестр живет вне драмы, опрокидывая все установленные правила, все нелепые ограничения! Какое революционное раскрепощение, рвущееся в бесконечность… «Увертюра к «Тангейзеру» — разве это не возвышенная хвала новому веку: сперва хор пилигримов — спокойный, глубокий, религиозный мотив звучит медленным трепетным биением; голоса сирен мало-помалу его заглушают, и тут вступает страстная песнь Венеры, полная обессиливающей сладостной неги, усыпляющей истомы; постепенно повышаясь, она владычествует надо всем; но мало-помалу возвращается священная тема, подобная дыханию необозримых пространств, и, овладевая всеми другими мотивами, сливая их в высшей гармонии, уносит на крыльях торжествующего гимна» («Творчество»).
Вот таким образом почитали Вагнера в окружении Сезанна и Золя; так интерпретированная музыка не могла не усилить бурные, экстатические элементы живописи Поля и прозы Золя. То, что Поль воспринял от Вагнера, было восприятием его свободного и освобождающего духа, а не того или иного конкретного метода или идеи. Появление искусства, которое взяло от жизни все, что можно, и максимально позаимствовало у других видов искусства, чтобы создать далеко проникающий синтез, — появление такого искусства носилось в воздухе. И хотя определенно можно говорить лишь об общем стимуле, который музыка Вагнера дала эмоциям Поля — полнотой цвета, сильными созвучиями, нельзя игнорировать также возможность отклика Поля на хроматическую тонкость и отшлифованные полутона, которые могли углубить его чувство цвета или, скорее, подтолкнуть его уже сформированное чувство и попытаться найти новые гармонии и связи. Гоген писал о зрелом творчестве Сезанна: «Можно говорить уверенно, что цвет в его живописи достиг музыкальной фазы. Сезанн, если говорить о ветеранах, кажется учеником Цезаря Франка. Он словно постоянно играет на большом органе».
Из более поздних воспоминаний известно, что Поль сохранял интерес к оперной музыке до конца жизни. Мари Гаске рассказывала, что временами он просил ее поиграть на фортепьяно, предпочитая отрывки из «Оберона» или «Волшебного стрелка» Вебера. Однако он обычно при этом засыпал, и она играла фортиссимо несколько последних аккордов, чтобы избавить его от неудобств сидячей позы. (Должно помнить, что в это время он был уже стар, болен и чрезвычайно уставал каждый день за мольбертом.) Оранш рассказывал:
«Однажды, когда он стал вспоминать свои молодые годы в Париже, самое начало 1860-х годов, и был он при этом несколько возбужден прекрасным вином, он вспомнил оперы, какие слушал тогда, — ибо у него была огромная любовь к музыке — и начал напевать кантилену: «Траля-ля-ля, тра-ля-ля-ля»..
Каково же было его удивление, когда он услышал, что я подпеваю вместе с ним, а я часто слышал эту мелодию от моей дорогой матушки в детстве. Итак, мы вместе затянули куплеты. В этот момент звуки нашей гармонии донеслись через открытое окно столовой до мадам Бремон и совершенно потрясли ее. Мы часто пели известные арии из старых опер, которые знали наизусть: из «Белой дамы», «Луга писцов», «Роберта-Дьявола». Должен добавить, что это пение случалось, только когда мы были вдвоем. В тот вечер, когда с нами обедал Лео Ларгье, мастер потерял голос. Высокое положение и величественность солдата сильно впечатлили его. К тому же Сезанн питал сильное почтение к поэтам и глубоко уважал стихи в духе Гюго, которые сочинял Лео. Он не хотел произвести на поэта дурное впечатление своими ребяческими выходками».
Поль приехал в Париж в середине декабря 1868 года. Он обнаружил Золя по-прежнему обеспокоенным денежными проблемами, хотя тот уже успел опубликовать свой второй большой роман, «Мадлен Фера». В глубине романа лежала идея, основанная на надуманном утверждении Мишле, о неизбывном отпечатке, который оставляет в женщине ее первый любовник. Золя по-прежнему неуклюже сражался со своими проблемами в сексе, и можно предположить, что роман явился фантазией на тему отношений между Полем, Золя и Габриэль. Может быть, это так и есть на самом деле, если действительно Поль познакомил Золя с Габриэль и если Золя подозревал, что между ними до этого могла быть связь. Все это довольно сомнительно, но так или иначе роман обнажил какие-то страхи Золя относительно женского характера — о потрясениях, глубоко спрятанных в ее добрачные годы. И снова его работа вызвала скандал во время ее публикации по частям, которая была приостановлена общественным обвинителем.
Впрочем, Золя уже перерос этот грубый физиологический механицизм своих первых двух романов. В предисловии ко второму изданию «Терезы Ракен» (датированном 15 апреля 1868 года), он пошел дальше. «То, что сейчас нужно писателю, — это написать новый роман, в котором бы он рассмотрел общество с более широких позиций, со множеством разных аспектов и, особенно, который был бы написан ясно и естественно». Золя подбирался к идее, которая обрела конкретность в замысле серии о Ругон-Маккарах.
1869 год в жизни Поля не очень хорошо документирован, хотя, возможно, для него это был весьма значащий год, так как именно тогда он повстречал Мари-Ортанс Фике. Она родилась в деревне Салиньи в департаменте Юра 22 апреля 1850 года. Мать ее к этому времени уже скончалась, а отец служил в банке каким-то клерком. Позже она преувеличивала значительность его положения, будучи напичкана дешевыми романтическими историями. Ребенком ее привезли в Париж, и она получила домашнее воспитание в семье с не слишком большим достатком, хотя к 1866 году ее отец имел какую-то собственность в Лантенне. Она немного зарабатывала, переплетая вручную книги и, как можно полагать, занималась позированием. В этой своей роли она и обратила на себя внимание Поля, который жил исключительно в мире искусства. Она была крупной хорошенькой девицей, брюнеткой с большими темными глазами, которые контрастировали с ее довольно грубой кожей. С возрастом у нее сделался тяжелый подбородок. Она казалась живой, легко возбудимой и переменчивой болтушкой, поверхностно интересовавшейся людьми и разными вещами, но не блиставшей интеллектом и не чувствовавшей искусства. В свете того, что мы знаем о Поле, можно заключить, что она со своим легким отношением к жизни произвела на него впечатление, сумела как-то разрушить его вечные страхи по отношению к женщинам и его непереносимость прикосновений. Активную роль в их сближении сыграла, по всей видимости, она. В какой-то момент Поль не вынес давления и позволил себя совратить. О легкости и теплоте Ортанс сохранилось много свидетельств, по крайней мере применительно ко временам ее молодости. Вероятно, ей не составило труда преодолеть бессознательные защитные реакции Поля. Знала ли она, что Поль происходит из богатой фамилии, нам неизвестно. Дюре утверждал, что Сезанн был женат уже в 1867 году, но подкрепляется ли это какой-то информацией, мы не знаем.
Итак, отныне в определенном смысле он достиг нового равновесия и самоуважения, но сохранившиеся у него мечты об идиллической и романтической любви снова возвращали его к самому себе и его искусству, увеличивали его одиночество, его раздражительность, чувство поражения и бессилия. В результате он по-прежнему стремился к общению с другими. Все это, конечно, сложилось не за одну ночь. Но его союз с Ортанс, неполный и неудовлетворительный в душевном плане, так или иначе оказал важное влияние на перемены в нем самом и в его искусстве 1870-х годов и последующих десятилетий.
Неизвестно, была ли какая-либо реальная подоплека у описанного в «Творчестве» знакомства Клода — Сезанна и Кристины — Ортанс во время ливня с грозой, когда художник привел ее к себе в мастерскую. В ранних картинах Ортанс предстает молоденькой девушкой с красивым овалом лица; с годами она стала внушительной и плотной, с обвисшими щеками. Она ненавидела позировать в неподвижных и неудобных позах, но пыталась пересилить себя под давлением своего медленно работающего супруга. Поэтому в его картинах она выглядит глуповато-застывшей, хотя такая наружность не была ее истинным обликом. Она смотрит на зрителей не то чтобы с враждебностью, но с какой-то туповатой отчужденностью, без намека на сближение. Лишь в одном из ее портретов 1880-х годов видна явно одолженная ей Полем застенчивость и некая абстрактная печаль, что можно трактовать как прорвавшуюся грусть художника по ее поводу. Но даже тогда мы чувствуем некую грань, непроходимый барьер, который разделял Сезанна и его жену.
Ортанс ни во что не вникала. Она, конечно, стала обузой в экономическом и социальном смысле, но, похоже, она не слишком докучала ему требованиями, по крайней мере в первые годы, что могло бы сразу парализовать Поля с его боязнью быть «закрюченным» (grappin). Возможно, что как раз нехватка глубокого чувства и неспособность вызвать это чувство в нем и позволили их отношениям как-то продолжаться. Незамысловатые и не возбуждающие дух свойства их союза дали возможность Полю сохранять эти отношения.
Тем не менее он был весь в проблемах, возникших от жизни с женщиной, доверившейся ему. По крайней мере это справедливо по отношению к периоду до рождения сына. Трудности с датированием его работ не дают нам возможности восстановить с точностью весь путь трансформации его эмоциональных переживаний в живописи, но самую общую идею, тем не менее, можно предположить. Вероятно, в 1868 году, то есть еще до того, как появилась Ортанс, Поль написал портрет Ашиля Ампрера в том же самом кресле, в каком сидит Луи-Огюст на более раннем портрете. Ампрер, странного вида маленький уродец, родившийся в 1829 году, ревностно посвятил себя искусству, несмотря на крайнюю бедность. Он уехал в Париж в 1857 году, но был уже снова в Эксе в момент написания Полем портрета. В Париже Сезанн и Ампрер вместе бродили по музеям, восхищаясь мастерами цвета — Рубенсом и венецианцами. Не сошлись они только в оценке Делакруа, которого Поль глубоко почитал, в то время как Ашиль отдавал предпочтение Тинторетто. «Карлик, — описывал Гаске Ампрера, — но с величественной рыцарственной головой, как у Ван Дейка, страстная душа, стальные нервы, железная гордость в тщедушном теле, искры гениальности, помесь Дон Кихота с Прометеем». На портрете он изображен в халате с большой головой и маленькими искривленными ножками, пышной гривой волос и маленькой бородкой. Стиль живописи грубый и в то же время привлекательный, с широкими пастозными мазками, передающими ощущение фактуры. Эту вещь можно назвать вершиной ранней живописи Поля. Она продолжает страстную манеру «Негра Сципиона» и «Похищения», преодолевая их грубоватую тональность и сильные контрасты. Неизвестно, была ли картина «Вскрытие» выполнена до или после портрета Ашиля и в каком отношении она стоит к стилю «Сципиона». Если в качестве вех мы будем опираться на натюрморты Сезанна, то можно заметить, что в эти годы он двигался к более свободной трактовке объектов и к более тонкому чувству композиции, основательно размещая предметы и заботясь об их взаимосвязи. От Курбе и Домье он научился усиливать чувство солидности и веса вещей, от Делакруа — углубил чувство цвета и научился мягче сглаживать границы.
Золя так описывал эксперименты Клода: «У него были свои особые секреты мастерства, которые он скрывал от всех, — растворы янтаря, камеди и других смол, быстро сохнущие и предохраняющие полотно от трещин. Но тогда ему приходилось бороться с выцветанием красок, потому что пористый грунт сразу поглощал всю небольшую долю содержащегося в красках масла. Непрестанно заботил его также вопрос о выборе кистей. Ему нужен был для них специальный материал: куница ему не нравилась, он требовал конского волоса, высушенного в печи. Не менее важен был выбор шпателя, потому что он пользовался им для грунта, как Курбе; у него составилась целая коллекция: длинные и гнущиеся, широкие и твердые шпатели, а один, треугольный, похожий на те, какими работают стекольщики, был сделан по его специальному заказу — ни дать ни взять шпатель Делакруа. Считая унизительным пользоваться скребком или бритвой, он к ним никогда не прибегал, но пускался на всевозможные таинственные ухищрения для создания нужного тона, сам фабриковал рецепты, менял их каждый месяц».
Мы можем точно датировать одну работу — набросок Алексиса, читающего Золя (сентябрь 1869 года и июль 1870-го). Характер изображенных хорошо передан. Но компоновка и манера письма сильно уступают «Ампреру», «Похищению» и «Сципиону». В эскизе видна попытка дальше развивать широкий стиль.
Золя в это время носился с идеей «Ругон-Маккаров», для этой цели он изучал психологию и историю в Библиотеке Империи и вновь обратился к Эксу. Он пытался понять, что произошло там в 1848 году и в последующее время. Несомненно, что ощущение углубляющегося кризиса Империи, проявившегося скоро в франко-прусской войне, помогло ему основательнее заняться социальными истоками происходившего. Хотя писатель по-прежнему не оставлял идей о важном влиянии наследственности или физической неполноценности на развитие человека, фактически он уже в значительной степени сосредоточил свое внимание на диалектической взаимосвязи личности и общества. Он советовался с Полем относительно деталей, а также, конечно, обсуждал и общую идею эпопеи. 5 апреля 1869 года Мари написала брату письмо с описанием одежды крестьянок, которое сохранилось в примечаниях к «Завоеванию Плассана».
«Мой дорогой Поль, крестьянки, когда они работают в поле, носят юбку, обычно синюю, когда из шерсти, она темнее и называется cotonnade, а когда из en fil, то бледнее. В этом случае крестьяне называют ее cotillon».
Далее следует подробное описание всей прочей одежды.
В сентябре Алексис наконец выбрался в Париж. Валабрег привел его к Золя, который ласково принял юношу, а Поль запечатлел сцену их разговора.
Алексис оставил описание своего визита к Золя на улицу Кондамин. «Он обитает в маленьком домике в саду, в узкой столовой, настолько узкой, что когда он купил пианино, пришлось прорубить нишу в стене, чтобы его установить. Я сидел перед круглым столом, за которым мать романиста и его жена тут же чинили одежду… Потом подали чай… Незабываемый вечер… Интерьер был не так уж хорош. В павильоне этом жить можно было с трудом, но садик с одним большим деревом и несколькими поменьше был им хорошо ухожен, вскопан, полит и расчищен. Иногда в летние вечера стол выносили на узкую террасу и обедали там. Приходили близкие друзья — М. Ру, Дюранти, художники Бельяр и Кост, а также я. Мы разговаривали до полуночи, сидя под звездами».
Теперь стоит оглянуться, чтобы посмотреть на работы, выполненные за три-четыре года. Пейзажи берегов Арка или виды сада Жа де Буффан показывают, что Сезанн стал уже работать на пленэре, используя широкую палитру красок — белую, синюю, черно-зеленую, которые он любил противопоставлять, например черно-зеленые листья — бело-голубому небу. Писсарро говорил ему о серых тонах, но тогда Поль еще не знал, как работать с ними. В фигурных композициях он все никак не мог найти удовлетворительный метод, колеблясь между системой черных обводов контура и попытками найти ритмические силы в атаках couillarde. Глубина все еще серьезно не давалась ему, и временами он строил композиции словно при виде сверху, чтобы не давать глубокого пространства дальнего плана. От Курбе он перенял многие приемы работы с моделью, особенно в передаче ощущения огромности, от Мане — кое-что из способов организации пространственных зон на плоскости холста, от Делакруа — импульсивную энергию и усиленное чувство цвета (использование зеленого веронеза, пурпура, прусской синей). При своей медлительности он испытывал опасность заморозить фигуры, сделать их неподвижными, отсюда его потребность в организующем ритме. У Писсарро за это время он научился немногому, но сделал некоторый прогресс в равновесии форм на полотне. В «Христе и грешнице», хотя это была копия с Себастьяно дель Пьомбо, он не сумел достичь пространственной глубины. Тяжелые складки штор и сложные до неестественности положения фигур в «Ромовом пунше» также вносили дисгармонию в композицию.
Рассмотрим теперь «Чтение в доме Золя» (перекликающееся с «Читающим Алексисом»). Здесь две мужские фигуры расположены в замкнутом пространстве, каждый из персонажей трактован как замкнутый в себе объем, четко очерченный и независимый, в то же время фигуры открыты для воздушной среды. Объем должен взаимодействовать с пространством, которое накладывает на него рефлексы, должен вступить в борьбу с пространством утверждением своего присутствия и должен, таким образом, это пространство расширить и предположить глубину. Но по большей части это пока было не в силах Поля. Поэтому он покуда использовал то, что можно назвать «игрой экранов». То, как Поль умножал эти экраны (или шторы), опишем словами Герри: «Темный экран образован большим занавесом у задней стены комнаты. Даже на этой стене есть противопоставление прозрачного стекла и темной рамы, черных часов и их белого циферблата. Жгучий контраст между увеличенной тенью темно-красной фигурой Золя и светлой голубовато-серой одеждой читающего (видимо, Алексиса) подчеркнут в трактовке. Пол разделен яркими тенями на полосы, которые останавливают глаз и не дают ему плавно скользить дальше… В комнате, где сидят Алексис и Золя, удачно передан объем пространства. Но в этом объеме сами люди и предметы не выглядят объемными. Конечно, они находятся в разных планах, так как их различную глубину обозначают разные планы, но сами они в пространстве не взаимодействуют. Фигуры кажутся силуэтами, которые, как на карточных рисунках, красуются друг против друга в квадратной плоскости. Можно представить, что они двигаются чуть влево или вправо, но не в глубину или на зрителя, ибо они совершенно плоскостны, а не объемны».
Это обстоятельство заслуживает более подробного рассмотрения. Нужно понять, что особые трудности Поль испытывал в трактовке объемов, двигающихся внутри других объемов. Долгое время он тщетно пытался достичь эффекта реальности путем преувеличения контрастов разных объемов. Но он осознал, что обязан впечатлению разорванности объемов рефлексам, и думал избежать этого, подчеркивая целостность формы. В «Читающем Алексисе» в противоположность «Чтению…» он сумел показать каждого из героев замкнутыми не только друг для друга, но и для окружающего их пространства. Никакие рефлексы, никакая игра цвета не затрагивают поверхности фигур. А в «Девушке у пианино» («Увертюра к «Тангейзеру») он пошел еще дальше — то, что фигуры не живут в пространстве, Сезанн скрывает использованием ширм.
Попытки нарушить его уединение в начале 1870-х годов он яростно отвергал. Дюре в мае писал Золя: «Дорогой Золя, я слышал о живописце, которого зовут Сезанн или что-то в этом роде, он из Экса; работы его отвергнуты жюри. Мне помнится, Вы говорили о каком-то очень эксцентрическом художнике из Экса. Может быть, именно ему жюри отказало в этом году? Если это так, то, пожалуйста, дайте мне его адрес и напишите несколько рекомендательных слов, чтобы я мог познакомиться с живописцем и его живописью». 30 мая Золя отвечал: «Дорогой Дюре, я не могу дать Вам адреса художника, о котором Вы говорите. Он живет очень замкнуто и сейчас только нащупывает пути своей живописи. И, по-моему, он прав, что не хочет никого пускать в свою мастерскую. Подождите, пока он найдет себя». На следующий день состоялась свадьба Золя и Габриэль, свидетелями выступали четыре друга из Экса: Поль, Солари, Ру, Алексис.
Работами, отвергнутыми жюри, были «Ампрер» и одна «Обнаженная». Они были представлены в последний день, 20 марта. Присутствовавший там журналист обратился к Полю с вопросами, и тот заявил: «Да, мой дорогой Сток, я пишу так, как вижу, как чувствую, — а у меня очень сильные чувства. Другие видят так же, как и я, но они не отваживаются так писать. Они следуют салонной живописи. Но я осмеливаюсь, мсье Сток, я осмеливаюсь. Я имею смелость, и смеется тот, кто смеется последним». Возможно, именно об этом и слышал Дюре.
Седьмого июня Поль написал письмо Жюстену Габе, столяру-краснодеревщику и резчику по дереву, мастерская которого находилась неподалеку от улицы Бульгон, где жили Сезанны. Из письма еще раз явствует, как нежно Поль относился к друзьям детства. Он извиняется за медлительность в ответе и сообщает, что Ампрер и дядя Доминик расскажут Габе обо всех новостях. «Итак, мне было отказано, как и в прошлые разы, но я чувствую себя от этого не хуже. Само собой разумеется, я по-прежнему работаю и вполне здоров. Могу тебе сказать, что на выставке много красивых вещей, но много и безобразных. Картина мсье Оноре очень хорошо выглядит и повешена на хорошем месте. Солари сделал тоже очень красивую скульптуру. Я прошу тебя передать поклон мадам Габе и поцеловать от меня маленького Титина. Передай привет отцу и тестю. Не забудь Готье и Антуана Роша. Твой старый приятель П. С.».
В июле Золя осведомлялся у Гийме о Поле. «Сумел ли он закончить свою картину? Настало время для него творить в соответствии с его собственными представлениями, я жажду увидеть его на том месте, какое по праву ему принадлежит. Какая странная штука эта живопись! Недостаточно быть просто умным, чтобы хорошо заниматься ею. Через какое-то время он достигнет своего, я уверен». Золя задавал подобные вопросы и себе. Действительно, сам он еще не достиг своего, но он взял уже неплохой старт и ощутимо развивал свои способности выразительности и опробовал себя в начале широкой завоевательной кампании. В это время Поль, несмотря на отдельные блестящие удачи, был значительно менее стабилен и неуверен в себе и своем будущем. Он не знал толком, чего именно хочет и как этого добиться. Золя, видимо, говорил еще что-то Гийме, потому что тот отвечал: «То, что ты рассказывал мне о Поле, очень опечалило меня. Этот славный парень должен страдать как проклятый из-за всех своих попыток в живописи, в которую он погрузился с головой и в которой лишь изредка делает что-либо успешное. Увы! Но там, где есть хорошие задатки, не должно отчаиваться. Что касается меня, то я всегда предполагал, что он сможет писать великолепные вещи, которые доставят наслаждение всем нам, его друзьям, которые любят его и посылают к черту всех скептиков и клеветников».
Через несколько дней была объявлена война между Францией и Германией.
Часть третья
Прорыв
Глава 1
Конец империи
(1870–1873)

В январе 1870 года на похоронах журналиста Виктора Нуара, убитого Пьером Бонапартом, люди на бульварах кричали: «Да здравствует Республика!» Наполеон, введенный в заблуждение коварным Бисмарком, ввязался в войну, которая должна была, как ожидалось, укрепить его трон. Несмотря на официальные обещания, ничего не было толком организовано — ни припасы, ни солдатское обмундирование, ни вооружение. В общей неразберихе многие солдаты даже не могли найти свои части; мобилизованные ополченцы маршировали с палками от щеток. Если Поль был в это время в Париже, на улице Нотр-Дам-де-Шан, 53, то он сразу же уехал на юг. Он уже жил тогда с Ортанс; возможно, одним из оснований отказа Золя дать Дюре адрес Сезанна были возросшие в связи с браком робость и застенчивость Поля. Сердечный, дружеский тон письма к Габе может отражать временное расслабление в домашних радостях. Сезанн отправил Ортанс в Эстак, пока работал в Жа де Буффан.
Первые призванные в армию формирования состояли в основном из резервистов, служивших ранее, или из молодежи, подлежавшей призыву. Поль не принадлежал ни к одной из этих категорий, а к тому же участвовать в войне, которая в случае победы привела бы к усилению ненавидимого им государства, он не хотел. Золя в Париже начал в июне печатать выпусками «Карьеру Ругонов» в «Сьекль». Он приступил уже к продолжению серии, роману «Добыча», когда вторжение положило всему этому конец. 5 августа писатель смело опубликовал в «Трибюн» статью «Да здравствует Франция!», в которой декларировал свои решительные разногласия с Империей; общественный прокурор возбудил процесс против него. Золя спасло бегство императорских войск; Габриэль была напугана приближающимися пруссаками. Золя решил вывезти ее на юг и вскоре присоединился к Сезаннам в Эстаке. Сам он собирался оставить жену и вернуться в Париж, но 17 сентября Париж был осажден. Тогда он перебрался в Марсель и строил планы с Ру, который тоже оказался на юге, выпускать ежедневную газету «Марсельеза». Арно, редактор «Вестника Прованса», одолжил им все необходимое, а Валабрег, как и они, оказавшийся беженцем на юге, взялся помогать.
Телеграмма о падении Империи пришла в Экс около десяти часов вечера в воскресенье 4 сентября. Республиканцы тотчас собрались в муниципалитете; мэр и его помощник, которые пытались протестовать, были вынуждены удалиться. Городские советники были смещены, а новый состав, встреченный полным одобрением, состоял из демократов, проваленных на последних выборах, и нескольких кооптированных ими друзей. После выборов чугунный бюст Наполеона был свержен с пьедестала, его выволокли из комнаты и утопили в близлежащем фонтане; портрет императора был изодран в клочья. 5 сентября в 10 часов утра была провозглашена Республика. Аптекарь Алексис был выбран мэром, среди членов городского совета были Луи-Огюст, Байль, Валабрег и Виктор Лей-де (в то время торговец маслом). Факт избрания в совет семидесятидвухлетнего Луи-Огюста свидетельствовал о его репутации стойкого республиканца. Вокруг Парижа, на Луаре и в других местах еще шли бои. Совет Экса выпустил воззвание:
«Поднимемся, граждане, все как один! Городской совет Экса призывает вас к защите Родины. Он возьмет на себя ответственность за обеспечение семей тех, кто добровольно с оружием в руках отправится спасать Францию и защитит нашу славу и чистоту Республики».
Ру цинически писал об энтузиастах, Байле и Валабреге: «Я чуть не умер здесь от скуки, наблюдал революцию со стороны. В шайке участвуют наши сердечные друзья — Байль и Валабрег. Они заставили меня вволю посмеяться. Видели ль вы этих парижских бездельников, которые явились совать нос в местное правительство и призывают к сопротивлению. Давайте пойдем все как один, взывают прокламации. Вперед! О, это забавная парочка». На самом деле двое бездельников отнеслись к своей новой роли со всей серьезностью. Байль участвовал в комитете общественных работ, Валабрег и Лейде также принимали участие в многообразных делах. Оба они были одержимы идеей организовать Национальную гвардию.
Временный совет закончил свою работу весной 1871 года. Луи-Огюст работал в комитете финансов. В отчетах совета он неизменно значится «отсутствующим по неизвестным причинам» — скорее всего, причиной был его почтенный возраст, хотя и предусмотрительная осторожность могла играть какую-то роль. Его супруга была патронессой Международного общества помощи раненым воинам. 18 ноября Поль был извещен, что в городском совете его избрали — пятнадцатью голосами из двадцати, то есть самым значительным большинством — в комитет Рисовальной школы, но Поль не ходил на заседания.
Можно с уверенностью сказать, что он боялся вступать в сражения. Золя в Марселе бился со своей газетой и подумывал занять какой-нибудь административный пост, чтобы свести концы с концами, а возможно, чтобы посмотреть, как он будет выглядеть в этой роли. Он пытался стать супрефектом Экса, но нашел систему столь разлаженной, что никто не мог ему сказать, кто назначал нынешнего начальника. Поскольку нехватка денег стала еще более острой, он оставил жену и мать в Марселе и переехал в Бордо, где находилось правительство Национальной обороны. Наконец, с отчаяния, он занял место секретаря министра Глэ-Бизуа, которого он знал по газете «Трибюн». 22 декабря он писал Ру:«Если мы поведем себя умно, нас ждет триумфальное возвращение». Через пять дней пруссаки начали бомбардировку Парижа. Мобилизация продолжалась, призывные повестки пришли и Полю. Он их игнорировал. В Жа де Буффан явились жандармы, и его мать сказала, что он уехал два дня назад, и обещала дать властям знать, если узнает его местонахождение. (Если верить Конилю, который потом стал мужем Розы, Поль был тогда в доме, но он слишком хорошо знал все закоулки и укромные местечки, чтобы дать себя обнаружить.) Собирались призвать и Золя, не зная, что он уже уехал из Эстака. 2 января отец Ру слышал в кафе, как четыре гвардейца во главе с капралом пытались выведать что-либо об исчезнувших. Ру сразу написал Золя: «В связи с мобилизацией гвардии я могу сообщить тебе две новости, досадную и ошеломительную.
Досадная заключается в том, что Поль С. усиленно разыскивается, и я ужасно боюсь, что он не избежит облавы, если в действительности, как говорит его мать, он все время остается в Эстаке. Поль, который всегда вначале не может предвидеть, что произойдет потом, постоянно маячил в Эксе. Он приезжал в город на день, на два, на три и даже больше. Говорят также, что видели его пьянствующим в компании некоего господина. Он, конечно, должен знать, где обитает Поль, потому что этот господин (который, вкратце, должен испытывать к нему сильную ревность за то, что Поль никогда не положил ни одного мазка ради денег) не терял времени, чтобы заложить его и выложить все, что знает.
Этот самый господин (вот уже ошеломительная новость), которому Поль говорил, что находился в Эстаке вместе с тобой — не зная, что ты покинул эту дыру, — объявил тебя (не ведая при этом, женат ты или холостяк) уклоняющимся от призыва. Вечером 2 января мой отец отвел меня в сторонку и сказал: «Я только что слышал приказ, в котором, в частности, говорилось, что четверо солдат с капралом отправляются в Марсель вернуть уклонистов». Среди названных имен, сказал мой отец, были имена Поля Сезанна и Золя. Эти двое, добавлялось в приказе, прячутся в Сент-Анри (деревне около Эстака. — Дж. Л.).
Я посоветовал отцу не слушать подобные разговоры и не встревать в них, я сам-де сделаю что надо. На следующий день я отправился в мэрию и посмотрел списки уклонистов. Твоего имени там не было. Я поговорил с Фераном, серьезным и преданным человеком, и он сказал: «Золя попал в это дело только из-за Сезанна, которого действительно усиленно ищут. Если все же имя Вашего друга и было упомянуто, то это до того, как навели справки о том, что Золя нет в Эксе и что он женат».
Возможно, после этого и произошел обыск в Жа де Буффан. Маловероятно, чтобы поиски проводились в Эстаке, так как там Поль легко мог быть обнаружен. Как передавал Воллар, Поль говорил позже: «Во время войны я много работал на мотиве в Эстаке… Я проводил все время между мастерской и домом». Из этого следует, что он попросту занимался все время живописью, будучи глух и слеп ко всем событиям вокруг. То, что он тяжко работал, — это достаточно правильно, но следует заключить, что этим способом он хотел отвлечься, насколько возможно, от снедавших его опасений и неуверенности. Такой легковозбудимый ум не мог не беспокоиться в ситуации, когда его жизнь могла круто повернуться в самые разные стороны. Даже источник его доходов мог иссякнуть или по крайней мере резко перемениться. Луи-Огюст к этому времени, устав от почтенного возраста и крутых событий, отошел от банковского дела. И все картины, которые мы можем отнести к этому времени, выражают глубокие внутренние переживания.
«Доминирует черное, а плоское красное и коричневые охры создают печальную и впечатляющую гармонию. Во всем заметны вызывающая трактовка и открытое намерение ошарашить зрителя силой воображаемой атаки и поставить перед ним сразу и неприкрыто эмоциональный подход художника. В «Красных крышах» господствует настроение меланхолии и тягостности и общее исполнение, почти мелодраматическая реальность сцены, гармонирует с унылым поэтическим настроением», — писал Р. Фрай.
Настроение художника также раскрывается в картине «Эстак, тающий снег». Здесь, по словам М. Шапиро, «цвет и мазок передают ураганную силу происходящего. В пейзаже господствуют черные тона и даже снег, который местами дан чистыми, несмешанными красками, кажется вполне подходящим этой черноте. Написанная в резких контрастах, с ошеломляющей, почти на одной ноте пронзительной силой картина выполнена в нескольких неярких красках: разные оттенки белого в снеге и множество серых тонов, включая теплые полутона земли между красными крышами. Вкус к холодному черному цвету, холодному белому и серому кажется естественным для настроения Сезанна, но он здесь предполагает элегантное и бесстрастное искусство Мане, краски и непосредственность наблюдения которого превратились здесь в нужные для выражения эмоционального состояния средства и странным образом трансформировались».
Зима 1870–1871 годов была суровой, эта картина была написана в течение января и февраля.
Развитие искусства Сезанна часто напоминает качели, но не простое возвращение назад, а подбирание и использование частиц старого метода в формах, обусловленных постоянными новыми экспериментами. Уже в 1869 году он пришел к грубоватому упрощению цвета и формы в ходе безуспешных попыток найти глубину объемов. «Овраг с горой Сент-Виктуар», написанный у железной дороги около Жа де Буффан, и «Натюрморт с черными часами», с их простыми, ясными формами, могут быть датированы 1869 годом, хотя «Часы» с их монументальной трактовкой можно отнести и к следующему, 1870-му. Тяга к ясности все усиливалась. (Сравнение пейзажей Сезанна с фотографиями этих же ландшафтов показывает, что он убирал все, что не мог выразить точно и целиком.) Поль не хотел использовать в качестве связок смутные, ничего не обозначающие элементы, какие можно найти почти в каждом пейзаже; следствием его непрестанной тяги к полноте без каких бы то ни было неясностей и смешений форм было то, что он отказался от использования постоянно меняющегося фокуса, который подходил к каждому из пространственных планов в отдельности. Вследствие этого он не мог использовать обычную дымку, размывающую контуры предметов на расстоянии. С одной стороны, он давал фокус для глаза на предметах фона в глубине картины, с другой — он так трактовал фон, будто его острота и ясность были его самой главной задачей. Но в то же время он каким-то образом справлялся с задачей дать впечатление глубины и большого расстояния. В этом его чувство цвета, связанное с тем, что он непосредственно видит в духе импрессионизма, пришло ему на помощь. Он достиг своих целей посредством колористической трактовки граней и плоскостей — совершил то, что мы могли бы назвать приданием полной пластичности пространству. Таким образом, его окончательное решение явилось результатом неспособности или нежелания принять и последовать условным приемам решения пространства. Слабости и натяжки его ранних работ привели его к особой силе в зрелом творчестве. О Сезанне говорят, что он нашел законы воплощения научной перспективы в пластике цвета, но это всего лишь означает, что он открыл другую область науки. Считать, что пространство, которое он писал, «не является пространством, в котором предмет может жить» (Новотный), что это не «иллюзорное пространство», дающее имитацию картины обычного мира, — нелепо. Защитник этой точки зрения (Бадт) описывает пространство Сезанна как такое, где «вещи имеют свое собственное бытие, где они существуют совместно в пространстве, которое они сами творят своим совместным бытием. Это пространство одновременно и возможность, и результат их объединения. Таким образом, оно не является чем-то особым по отношению к ним, но предстает неотъемлемой частью самих изображенных предметов». Как может такое пространство быть «не таким, где предметы могут жить»? Напротив, оно таково, что в нем предмет живет с особой полнотой жизни, это пространство преодолевает механические ограничения правил перспективы, берущих начало в ренессансной математике и геометрии. Поэтому она принадлежит к области истинно органических концепций, в которых время и пространство не абстрактны, но являются самой сущностью жизни.
Но в этих рассуждениях мы далеко забежали вперед. В 1870–1871 годах Поль был все еще довольно далек от решения своих трудностей, хотя новая попытка достичь весомости предметного мира была вехой на его пути к решению проблем пространства. В эти годы композиции с фигурами также показывают глубокое внутреннее беспокойство. Недостаток точных дат делает тесное сближение картин и конкретных событий довольно затруднительным. Похоже, тем не менее, что его отношения с Ортанс были ознаменованы и дополнены мотивом «Искушения» в его работах. Интересно, что первая его попытка обращения к этому мотиву приходится на 1869–1870 годы и лишь наполовину отличается от сцены «Суд Париса». Большую часть картины, написанной широкими мазками в черной гамме, занимают три тяжеловесные обнаженные девы, размещенные в пирамидальной композиции, что предвосхищает его будущих многочисленных «Купальщиц». В левом верхнем углу четвертая обнаженная расположена перед святым, который входит в эту сцену. Обнаженная поднимает левую руку в жесте, который был весьма значим для Поля, его смысл мы обсудим несколько позже. Тема выбора дамы резко повернута в этой картине другим углом. Мужчина не выбирает женщину, а подвергается ее чарам. Он сам, играющий роль одинокого затворника, держит испытание на искус. То, что эта перемена в подходе к теме выбора в сценах с обнаженными женщинами приходится на то время, когда Ортанс вошла в жизнь Поля, вряд ли случайно.
Популярность темы «искушение» возросла в середине столетия параллельно с ростом интереса к религиозной живописи и с попытками возродить религиозное искусство. Художники стали читать жития святых, которые в обществе были довольно популярны. Бодлер использовал тему искушения в своих «Цветах зла». В моде также были египетские темы и аксессуары, восходящие еще к временам египетского похода Наполеона. Достаточно силен был сюжет искушения и в народной культуре, что видно в книге Флобера «Искушение святого Антония». Ее первый вариант много заимствовал из ярмарочных представлений с ежегодной Руанской ярмарки, с диалогами, основанными отчасти на старинных песенках о нечестии монахов и об их неблаговидных проделках. Некоторые из этих песенок были обработаны в виде сюиты Седеном и напечатаны в 1840-х годах с литографиями Добиньи. Так, у Флобера в его романе переплелись народная сатира и чертовщина с несколько извращенной чувственностью романтиков. Художники подхватили эту тему примерно с 1840-х годов. Существовало немало версий Делароша, Коро и других. Милле написал «Искушение святого Иеронима» в 1846 году, чтобы выразить свои чувства, вызываемые дьявольским. блеском Парижа.
В Салоне 1869 года были три картины на эту тему: Э. Изабе, A.-Л. Лелуа и А. Веля. Картина Изабе была переложением эпизода с царицей Савской из второго варианта Флоберова романа (1856), что можно сказать и о стихотворении Верлена «Кортеж» из «Галантных празднеств», написанных в то же время. Готье раскритиковал картину Изабе за преизобилие дьяволиц, нимф, вакханок и ангелов: «Вся суть искушения — в одиночестве». В «Мадлене Фера» (1868) у старой домовладелицы Женевьевы есть гравюра «Искушения», она воображает, что женская фигура на ней напоминает ей героиню, которая таким образом связывается с Роковой Женщиной. Золя, впрочем, мог и не увлекаться Флобером, а Поль, скорее всего, должен был читать его роман. Флобер, как и Поль, использовал эту тему для самораскрытия. «В «Святом Антонии» я сам был святым». Первый вариант начинался восклицанием: «О моя фантазия, унеси меня на твоих крыльях, чтобы рассеялась моя скорбь». Луи Бертран даже говорил о Флобере, что галлюцинации, которыми он наделил героя-от-шельника, посещали его самого, они деморализовали его и делали несчастным. Он также утверждал: «Флобер искал утешения, странным видом сладострастия было для него окружить себя теми воображаемыми искушениями, которые он сам проклинал как лживые и заслуживающие порицания». В этом отношении писатель и художник были близки.
«Искушение» 1869 года слегка напоминало картину Джорджоне «Сельский концерт» в рисунке двух центральных фигур. Поль, несомненно, думал об этой картине, к которой он обращался через «Завтрак на траве» Мане, восходящий, как известно, к Джорджоне. Две левые фигуры несколько напоминают испанскую живопись; возможно, Ольер заинтересовал Сезанна испанцами, хотя следует заметить, что еще в 1865 году Ру называл его поклонником Риберы и Сурбарана. Степень изучения классиков можно видеть в том, как трактована четвертая фигура, которая восходит к Минерве в «Суде Париса» Рафаэля. Она же, кстати, вдохновила фигуру Порока в «Выборе Геракла» Карраччи. Далее, большая фигура погруженной в размышление женщины в правом углу повторяет фигуру художника в «Микеланджело в своей мастерской» Делакруа (показана на выставке в 1864 году). Поль имел гравюру Лоренса с этой картины — фигура перевернута зеркально по отношению к живописному оригиналу. Сама поза — одна рука подпирает голову, другая, со сжатым кулаком, покоится на коленях — восходит к ренессансному типу Меланхолии (что иногда использовалось для темы искушения), но непосредственно Поль повторил фигуру из картины Делакруа. Остаточные признаки того, что прообразом служил мужской персонаж, видны в короткой стрижке, тяжелых конечностях, угловатом лице. Эта женская фигура, погруженная в глубокие размышления, таким образом, является воплощением художника, раздираемого между вожделением и отвращением к страсти. Голова фигуры напоминает голову Золя, ранее позировавшего Полю. Рука на коленях приобретает новое значение, которое мы полностью разберем, когда подойдем к серии купальщиков с простертыми по диагонали руками. Здесь будет уместно заметить, что более поздняя картина Поля, «Юноша с черепом», основана на картине Делакруа «Тассо в сумасшедшем доме»: художник, окончательно сошедший с ума и полностью отчужденный. (Череп продолжал оставаться для Поля эмблемой мертвенности, семейной грызни, полной дегуманизации. В то же время он служил идеальным объектом для моделирования объема.) Бодлер примерно в это время написал сонет о «Тассо…» Делакруа:
«Поэт в тюрьме, больной, небритый, изможденный,
Топча ногой листки поэмы нерожденной,
Следит в отчаяньи, как в бездну, вся дрожа,
По страшной лестнице скользит его душа.
Кругом дразнящие, хохочущие лица,
В сознаньи дикое, нелепое роится,
Сверлит Сомненье мозг, и беспричинный Страх,
Уродлив, многолик, его гнетет впотьмах».
(Перевод В. Левика)
(Бодлер заметил также, что Флобер воплотил себя в образе мадам Бовари, этой странной женщины-мужчины.)
Итак, в «Искушении» мы видим в левом верхнем углу прямое противостояние, вызов женщины, который нельзя избежать; в правом нижнем, напротив, представлены муки размышления на эту тему, которые могут привести к сумасшествию. В этой фигуре символически представлено внутреннее противоборство — рука, поднятая вверх, тяготеет к голове, то есть к рассудку; опущенная вниз, с напряженным кулаком, — связана с гениталиями. Подобный конфликт рассудка и чувственности, воплощенной в гениталиях, проходит через многие работы Сезанна.
Однако он хотел переменить свои настроения. Об этом свидетельствует связанная с «Искушением» по стилю «Пастораль», в которой наряду с аллюзиями на Тинторетто и испанцев есть также связи с Джорджоне и Мане. В этой композиции все спокойно, она по настроению как бы предваряет сцены купания. Мужчины одеты, женщины обнажены; один из мужчин — это сам Поль, глубоко погруженный в размышления, напоминающий позой фигуру царя из «Смерти Сарданапала» Делакруа. Вновь мы видим образ обуреваемого мучительными размышлениями художника, который связан с Делакруа. Композиция представляет собой строгую окружность. Главной точкой является остров на дальнем плане, отражающийся в воде. Вокруг расходятся две округлые зоны: одна вокруг фигуры Поля и женщины над ним, а другая проходит через три ближние фигуры. Обе зоны соприкасаются с фигурой мужчины в лодке. В том углу круглящиеся линии почвы собирают все движение вместе. Настроение «Пасторали», как видно, признает мир плоти, поставленный под мучительное сомнение в «Искушении».
Монах в «Искушении» производит впечатление равнодушного к миру плотских вожделений, в который он попал. Но в других работах он чувствует сильную погруженность в происходящее. Картина «Убийство», с ее чрезвычайно жестокими насилием и убийством, возможно, принадлежит к раннему периоду отношений Поля с Ортанс. Он мог написать ее в период перед рождением ребенка, в конце 1871 года. Картина эта написана экспрессивно и яростно, что в точности соответствует теме. С другой стороны, «Современная Олимпия» датирована этим же годом, хотя более вероятным представляется 1872 год. Здесь Поль продемонстрировал смесь иронии и удовлетворения своей ролью и обожателя женской плоти. Он восседает наподобие распутного паши, созерцающего обнаженную женщину, предназначенную для его объятий. Прислужница-негритянка, вино, цветы и корзина фруктов завершают сцену оргии. Сидит он в тени, а свернувшаяся на ложе женщина освещена широким лучом света так, чтобы создавался эффект внезапно раскрытого занавеса, драматически представившего ее для обозрения. Работа является пародией на «Олимпию» Мане, но если у Мане обнаженная бесстыдно и холодно выставляет себя на обозрение свету, то у Сезанна поза выражает мольбу и застенчивость. (Мы знаем, что Поль обсуждал Мане с доктором Гаше и заметил: «Что «Олимпия», я тоже могу сделать нечто подобное». Гаше ответил: «Ну так сделайте». То, что Поль в итоге создал, оказалось весьма грубым в сравнении с выдержанностью тона и рисунка у Мане, но дикая энергия картины может означать новые творческие силы Поля или по крайней мере приоткрывает его глубинные переживания.)
* * *
Друзья-художники Поля были призваны в армию. Ренуар, в полку кирасиров, ухаживал за лошадьми в Бордо. Базиль, записанный в зуавы, был убит в бою в ноябре. Гийомен сумел избежать службы, но Мане, как и Дега, был записан артиллеристом и стал штабным офицером. В Париже он служил под началом у Мейсонье, который подло посылал его в самые опасные места. Моне сбежал из оккупированной зоны в Аржантейле в Голландию, в Амстердам, где писал каналы и ветряные мельницы; в начале 1871 года он перебрался в Англию, там он повстречал торговца картинами Дюран-Рюэля. Писсарро, которого война застала около Парижа в Лувесьене, скрылся от захватчиков, оставив все свои картины, написанные за три или четыре года. Его дом был превращен в бойню, холсты служили фартуками, а по мере использования сжигались. Два полотна были найдены позже, все залитые кровью. Сам Писсарро сначала поселился в департаменте Марны, потом переехал в Англию, где обосновался в Норвуде до 1872 года. Добиньи также оказался в Англии. Курбе, оставшись в Париже, играл видную роль в правительстве Коммуны, его поддерживали Коро, Домье и Мане, которые были избраны в федерацию художников Парижа. Зарисовки Мане на баррикадах запечатлели жестокость армии, подавившей Коммуну; он также помогал бегству коммунара Рошфора на лодке из уголовной тюрьмы. Алексис служил капралом в армии.
Будучи в Эстаке, Поль хорошо знал о событиях в Марселе, где были сильны революционные настроения, разжигавшиеся Бакуниным и префектом Эскиросом. В октябре 1870 года произошли беспорядки, когда Эскирос объявил 31 числа город перешедшим под управление Парижской коммуны. Через два дня в город прибыл посланец Гамбетты, чтобы ликвидировать это выступление. (Говорят, что Золя в «Марсельезе» выступил на стороне Гамбетты, но, поскольку никаких номеров газеты не осталось, это утверждение невозможно проверить.) 19 февраля 1871 года Золя вернулся к журналистике, и позднее он очень стыдился этого обращения к политике. «Я вообразил, что мир подошел к концу и что книги не будут больше писаться», — говорил он Алексису, утверждая, что в то время он не видел другого пути заработать на жизнь себе и матери с женой, поэтому-де он и «погрузился с головой и слепо в политическую жизнь, которую всего несколько месяцев до того сам же от всего сердца всячески поносил». (Если он чувствовал крушение всего знакомого ему мира, то что тогда, интересно, мог ощущать куда менее разбирающийся в политике Поль?)
Париж был окружен пруссаками 28 января. 9 февраля Мане писал Золя: «Я ужасно рад получить добрые вести от Вас. Вы времени не теряли. Нас в Париже недавно постигла большая скорбь. Только вчера я узнал о смерти бедного Базиля. Я совершенно разбит — увы, мы видели смерть столь многих людей. Ваш дом одно время был занят семейством беженцев. Точнее, только первый этаж, а вся мебель была перетащена наверх. Я полагаю, что никакого ущерба Вашим вещам не произошло. Я скоро собираюсь уехать к жене и матери в Олорон в Нижних Пиренеях. Жажду их вновь увидеть. Я поеду через Бордо и, возможно, увижу Вас. Тогда я расскажу то, о чем нельзя прочитать в газетах».
Четырнадцатого марта Золя вернулся в свой дом в Батиньоле; уже через четыре дня возобновилась публикация выпусков «Карьеры Ругонов» и была провозглашена Коммуна. Ему пришлось пережить трудные моменты, так как его арестовали сначала повстанцы, а потом сторонники правительства; не дожидаясь третьего ареста, он перебрался в Боньер. 28 мая Коммуна была потоплена в крови, и Золя вернулся в Париж. В Марселе реакционеры пытались при поддержке Национальной гвардии устроить манифестации в одобрение Тьеру, но рядовые солдаты примкнули к населению, выступавшему в защиту префектуры. Радикал Кремье провозгласил Коммуну. Но регулярные войска с генералами и городскими авторитетами ушли из города и однажды утром атаковали Марсель и обстреляли префектуру с холмов. Матросы, верные генералитету, ворвались в опустевшее здание. Начались жестокие репрессии, около ста пятидесяти человек было убито и более пятисот арестовано. Главнокомандующий округом вошел в город, приветствуемый богачами и проклинаемый бедняками. Национальная гвардия была разоружена, и три деятеля Коммуны приговорены к смерти, хотя Кремье через шесть месяцев все еще не был расстрелян. Симпатии к коммунарам, которые позже выражал Поль, возможно, возросли именно под влиянием этих событий, более близких, чем подобные им в Париже.
Золя проявлял беспокойство, не зная, что случилось с Полем: 2 марта он писал Алексису: «У меня нет никаких новостей о Сезанне, он, наверно, где-нибудь в деревне около Экса». Через некоторое время, в мае или июне, Алексис отвечал: «Сезанна нет. Я долго беседовал с М. Жиро, по прозвищу Лонгус, владельцем дома, который Сезанны снимали в Эстаке. Обе птички упорхнули с с месяц назад. Гнездышко свободно и заперто на ключ. Они перебрались в Лион. Лонгус заявил мне: «Подождите, пока Париж не кончит дымиться. Я удивлюсь, если через месяц мы не увидим его в Париже» Но Золя знал Поля лучше, чем Алексис. 30 июня он отвечал: «То, что Вы говорите о бегстве Сезанна в Лион, — это все старушечьи сплетни. Наш друг просто хотел сбить со следа сьера Жиро. Он спрятался где-то в Марселе или в какой-нибудь укромной долине. Мне бы хотелось разыскать его как можно быстрее, так как я ужасно беспокоюсь. Вообрази. Я писал ему за день до того, как Вы отправились к нему. Мое письмо, адресованное в Эстак, должно быть, затерялось — не велика потеря, но я боюсь, что в результате непредвиденных обстоятельств оно могло попасть в Экс прямо в руки его отцу. А там есть кое-какие детали, компрометирующие в его глазах сына. Вы понимаете, о чем я говорю. Я бы хотел разыскать Поля, чтобы попросить у него это письмо обратно. Поэтому я возложу на Вас следующее поручение. Сходите в Жа де Буффан, где Вы сможете разведать новости о Сезанне. Постарайтесь улучить момент, чтобы поговорить с матерью наедине, и попросите ее точный адрес сына для меня».
Далее Золя писал об Ортанс. Он знал, как Поль был запуган своим отцом и что последний вскрывал корреспонденцию сына. Алексис предпринял разыскания, неясно в Жа или где-либо еще, но, похоже, что место пребывания Поля он в конце концов узнал. За несколько дней до отъезда Сезанна в Париж, 4 июля, Золя писал:
«Мой дорогой Поль, твое письмо доставило мне большую радость, так как я уже начал волноваться о тебе. Прошло ведь уже четыре месяца с тех пор, как мы не имели известий друг о друге. Примерно в середине прошлого месяца я писал тебе в Эстак. Потом я узнал, что ты оттуда уже уехал и письмо мое пропало. Я совершенно отчаялся тебя разыскать, и вот ты сам разрешил эту проблему.
Ты спрашиваешь о новостях. Вот моя история в нескольких словах. Я писал тебе, помнится, перед моим отъездом из Бордо и обещал написать вскоре по приезде в Париж. Я приехал 14 марта, через четыре дня, 18 марта, разразилось восстание, почтовые отделения были закрыты, и я не мог уже связаться с тобой. Около двух месяцев я жил в самом пекле, день и ночь шла канонада, ближе к концу снаряды постоянно летали со свистом над моим садом. Наконец 10 мая, устрашенный возможностью ареста в качестве заложника, я бежал с помощью прусского паспорта в Боньер и переждал там самые критические дни. Теперь я вновь в своем доме в квартале Батиньоль и чувствую, словно я проснулся от дурного сна. Мой домик в саду такой же, как прежде, садик совсем не тронут, ни одна вещь не испорчена, ни одно растение не сломано, я почти начал думать, что две осады были просто дурными шутками, могущими запугать разве что детей».
Золя был настроен оптимистично. «Как я всегда говорил тебе, наше царство у нас в руках». «Карьера Ругонов» находилась в печати, и Золя с удовольствием работал над корректурой. «Мне жаль, что не все слабоумные померли, но меня утешает то, что мы живы. Мы можем вновь вступить в борьбу».
Постепенно художники стали возвращаться в Париж. Поль, приехав в столицу в конце 1871 года, встретил там Солари, Валабрега и Ру. Моне вернулся в Аржантейль, Сислей был в Вуазене, Писсарро в Понтуазе. Старые сборища у Гербуа не возобновились, встречи переместились в кафе «Новые Афины». Первое время художники надеялись, что республиканское правительство уничтожит засилье академических консерваторов, но вскоре эти иллюзии рассеялись. Деньги по-прежнему правили в обществе, процветала та же самая система покровительства искусству. Сезанн, погруженный в личные проблемы, в Салоне 1872 года не участвовал. Не выставлялись также Моне, Писсарро и Сислей, чьи картины покупал Дюран-Рюэль. Золя убедился, что продолжает действовать все та же система цензуры. От него требовали прекращения публикации «Добычи», обвиняя роман в аморальности, в случае отказа газете «Клош» грозило закрытие. Жюри в Салоне было еще более реакционное, чем когда-либо ранее; в интересных работах мерещилось пугало Курбе, который во время Коммуны, будучи президентом федерации художников, закрыл Школу и Академию изящных искусств. Просьбы об открытии «Салона отверженных» были отвергнуты.
Тем временем Поль жил на улице Шеврез, 5, там же, где и Солари. 14 декабря 1871 года Солари писал Золя: «Привет Полю Сезанну, который исчез. Я слышал, как на лестнице двигали мебель, но я не осмелился вылезти, чтобы не потревожить переезжающих». Поль, видимо, был в чрезвычайно нервном состоянии, если такой дружелюбный и общительный парень, как Солари, счел за лучшее не участвовать в переезде. Поль переехал в маленькую квартирку на третьем этаже на улице Жюссе, 45, окнами на винный базарчик. Он писал его виды в серых и коричневых тонах грубой экспрессивной кистью; эта манера напоминала его снежную сцену в Эстаке, но без драматической напряженности того пейзажа. Здесь тяжеловесность близкого к натуре рисунка сочеталась с ясностью композиции.
4 января 1872 года Ортанс родила сына, которого назвали Полем и зарегистрировали в мэрии пятого округа. 18 февраля из Экса приехал Ампрер; он решил предпринять еще одну попытку завоевать Париж. Поль согласился показать ему свою «хибарку».
Обиталище не произвело успешного впечатления. Ампрер нашел, что «Поль очень плохо устроен» и что шум, производимый катящимися бочками на рынке, «способен поднять мертвого». Можно вообразить раздражение Поля, разрывавшегося между женой и ребенком, который требовал внимания, и жильцом, который жаждал болтать, как в старые беззаботные дни. Ампрер громко заявлял о своих планах сокрушить этого монстра, буржуазное искусство, и триумфально явить искусство, «величайшее на земле». Он был готов вовлечь кого угодно в свою битву, вместе с тем он готов был просиживать часами в приемных министров. Он называл В. Гюго «великим поэтом Революции» и показывал ему свои наброски и спрашивал совета, что лучше представить в Салон. «Лицезрение гигантов не пугает меня», — говорил он. К концу месяца ситуация стала невыносимой. «Я покидаю квартиру Сезанна, — объявил Ампрер. — Я должен это сделать. Обстоятельства повернулись так, что я не могу избегнуть участи других. Его все оставили, у него нет больше ни одного умного и чувствительного друга. Золя, Солари и все остальные теперь совсем не видят его». Поль, замечал Ампрер, был «самым необычайным созданием, которые лишь можно вообразить; он был настоящим монстром, если только такие бывают вообще (с научной точки зрения)».
Поль вовсе не был покинутым и заброшенным; ой сам оставил всех друзей, не желая встречаться с ними в новом своем положении. Однако был один достойный человек, к которому Поль обратился в мыслях. Он отправился с женой и сыном в Понтуаз, чтобы быть около Писсарро, и остановился в гостинице «Гран Серф», около старого моста Сен-Уэн-Омон. Там Поль обрел место, где он мог успокоиться и вернуться к искусству.
Следующие три года были решающими для развития Сезанна как художника. В это время закрепились его предыдущие находки, кроме того, с помощью Писсарро он полностью освоил живопись на пленэре. Он сумел понять, какие уроки ему следует извлечь из опыта импрессионистов, перенять некоторые важные аспекты их метода и двинуться к осуществлению своего собственного стиля и взгляда. Поль вряд ли смог бы все это понять и выучить без постоянной поддержки Писсарро — с его искренней теплотой и всегдашней мягкостью, с его благородством характера и поведения, с его глубоко проникновенной симпатией.
Писсарро было уже за сорок, в то время как Полю в его тридцать три во многих случаях крайне недоставало зрелости. Писсарро понял его характер и догадался, как можно уничтожить его страхи и сомнения. Кроме Сезанна на улицу Эрмитаж к Писсарро приходили Бельяр, Виктор Виньон и Гийомен, который, отчаявшись справиться с крайней нуждой, снова поступил на службу. И компания, и мягкие свежие пейзажи понравились Полю. Он работал рядом с Писсарро и прислушивался к замечаниям последнего о необходимости осветлить палитру. «Никогда не пишите ничем иным, кроме трех основных цветов и их ближайшими производными». (Добиньи иногда говорил: «Мы никогда не пишем слишком светло».) Писсарро работал маленькими мазками, чтобы добиться эффекта вибрации света и воздуха и чтобы дать своим краскам всевозможные оттенки. Поль копировал его виды Лувесьена, чтобы освоить живописную технику, но сразу ему было нелегко избавиться от своих привычек яростной атаки на холст. Писсарро, тем не менее, был им доволен и писал, что он должен «ошеломить многих художников, которые, осмеивая его, были так далеки от истины».
Поль позже скажет, что Камиль был «словно добрый Бог», однажды он подпишется как «ученик Писсарро». «Он был словно отец для меня», — говорил Сезанн. В одной из записей Гаске, которой можно безусловно доверять, говорится: «Мы, пожалуй, все вышли из Писсарро. Уже в 1865 году он полностью отказался от черного, битумов, жженой сьены и охр». Бернар записал высказывание Поля о том, что тот попусту терял время до сорока лет, пока не повстречал Писсарро. Если Сезанн действительно сказал именно так, то это следует понимать как то, что в сорок лет он стал себя ощущать через Писсарро; познакомились же они несколькими годами ранее.
Еще один человек помог ему в это время своей симпатией, хотя и в меньшей степени, — это был доктор Поль-Фердинанд Гаше. Он входил в свое время в батиньольскую группу, а теперь у него был собственный дом в Овере-на-Уазе, неподалеку от Понтуаза. Это был большой дом с садом, который возвышался над окружающей местностью, на улице Вессино. Гаше родился в Лилле в 1828 году. У него была практика в Париже на улице Фабур в Сен-Дени. В 1868 году он женился на молодой женщине, страдавшей туберкулезом. Когда она вскоре стала ждать ребенка, Гаше купил в Овере дом (бывшую школу для девочек) и стал жить то в Париже, то в Овере. С ранних лет он был приверженцем искусства, утверждая, что происходит от Яна Мабюзе; он восхищался Курбе, часто бывал в артистических кафе и познакомился с Мане, Моне, Ренуаром, Дега, Писсарро. Всегда он был готов защищать молодых и мятежных художников с каких бы то ни было позиций — эстетических, психологических или социологических. Будучи эксцентриком, он с 1870 года носил синюю шинель армейского хирурга, летом ходил в белой полотняной фуражке, зимой — в меховой. Он красил волосы в светлый цвет, взял себе имя Доктор Саффрон и ходил с белым зонтиком от солнца. Социалист и гомеопат, он увлекался хиромантией и френологией. Он подружился с Добиньи, который также жил в Овере, и с Домье, к этому времени уже наполовину ослепшим и вернувшимся в Вальмондуа, недалеко от Овера. Мягкосердечный, энергичный, полный энтузиазма, Гаше лечил бедняков со всего района бесплатно и не распространялся об этом. Он не мог спокойно глядеть на бродячих или заблудившихся животных, его дом всегда был полон потерявшимися кошками и собаками. Поль, когда встретил Гаше, почувствовал, что это тот человек, которому можно полностью доверять. Он решил снять небольшой домик в Овере и переехать туда осенью. Этот дом находился поблизости от жилища Гаше. Доктор купил за небольшую сумму пару полотен Поля и стал, таким образом, его первым покупателем. В результате Поль продал еще несколько картин местному коллекционеру Руло, школьному учителю, а также у него принял картины в качестве платы по счетам бакалейщик в Понтуазе. Несомненно, последнего надоумил так поступить Писсарро.
Другие приятели также потянулись в этот район. Кроме Гийомена там поселились Корде и Виньон. Поль под руководством Писсарро стал узнавать и любить Иль-де-Франс с его влажной зеленью и туманной синыо. Единственное письмо от того времени, написанное 11 декабря 1872 года, показывает, как естественно он чувствовал себя рядом с Писсарро.
«Мсье Писсарро, я взял перо у Люсьена и вот пишу Вам сейчас, хотя поезд должен был уже везти меня к моим пенатам. Я хочу дать Вам понять этими словами, что я опоздал на поезд, — и можно не прибавлять, что до завтра, до вторника, я Ваш гость. Так вот. Мадам Писсарро просит Вас привезти из Парижа муки для маленького Жоржа и потом — рубашки Люсьена от его тетушки Фе-лиси. Шлю Вам привет. Поль Сезанн».
Маленький Люсьен добавил там же с ошибками:
«Дорогой папа. Мама говорит, чтоб ты знал, что дверь у нас сломалась, поэтому приезжай быстрей, потому что могут прийти грабители. Прошу тебя привезти мне коробку с красками, Минетта просит купальный костюм. Я пишу не хорошо, потому что без наклона. Люсьен Писсарро, 1872».
Как видно из писем Золя, пропустить поезд было обычным делом для Поля. К тому году, а может быть, к 1873-му или 1874-му относится черновик письма, набросанный на обороте рисунка двух крестьян. Оно может быть написано в любой из этих трех годов, когда он не был на юге, хотя мы можем предположить, что давление уехать в Экс возросло на него к концу его пребывания в районе Понтуаза и Овера. Нет сомнений в том, что он не возвращался в Экс столь долго потому, что он был поглощен своими успехами, которые делал при помощи Писсарро, но следует иметь в виду и то, что свое положение женатого мужчины ему легче было утверждать вдали от отца.
«В вашем последнем письме вы спрашиваете, почему я не возвращаюсь в Экс. Я уже вам говорил, и можете мне поверить, что это так, — мне приятно жить с вами, но, когда я попадаю в Экс, я теряю свободу, и всякий раз, как я хочу вернуться в Париж, я должен выдерживать борьбу. И хотя вы не запрещаете мне категорически поездку в Париж, но меня очень расстраивает противодействие, которое я чувствую с вашей стороны. Я бы хотел, чтобы свобода моих действий не была ограничена, и тогда я с большей радостью поспешу вернуться. Я прошу папу давать мне 200 франков в месяц, это позволит мне продлить пребывание в Эксе, я с удовольствием поработаю на юге, природа которого так много дает моей живописи. Поверьте, я очень прошу папу исполнить мою просьбу, тогда я смогу писать на юге и продолжать свои поиски. Вот две последние квитанции».
Доктор Гаше увлекался офортом и устроил мастерскую у себя в сарае. Поль увлекся этой техникой; он сделал копию с картины Гийомена, которая была у Гаше, и нарисовал сцену из «Гамлета» по Делакруа (но не отпечатал ее). Отпечатал он тогда голову девушки (возможно, Ортанс). Писсарро рисовал Поля, а также гравировал и писал его.
В ряде технических приемов Поль следовал за Писсарро, в частности он использовал длинные, прямые и гибкие мастихины, как у Писсарро. Он начал постигать, как предметы отражают друг друга и как можно показать глубину пространства путем тщательного изучения планов и углов. Ему еще трудно было отказаться от темных красок, но он уже начал ощущать очарование ярких чистых тонов. С радостью и удовольствием Сезанн писал цветы, которые мадам Гаше выращивала в своем саду. Он научился усмирять свою бурную силу и стал писать маленькими мазками, которые в конце концов покрывали холст толстым слоем. Позже Дени спросил Сезанна, почему он пишет такими мелкими отдельными мазками, и тот ответил: «Это потому, что я не могу выразить свои чувства одним ударом. Поэтому я накладываю краски постепенно и продолжаю делать это, пока не получится наилучший результат. Однако когда я начинаю, мне хочется работать широко, подобно Мане, и лепить форму кистью». Как обычно, у Поля бывали моменты мучительного отчаяния, когда он бился над более тщательным воплощением замысла. Гаше иногда восклицал: «Хватит, Сезанн, оставьте эту картину, она уже хороша, не надо больше ее трогать». Поль, ворча и сопротивляясь, подчинялся.
В «Доме повешенного» (1872–1873) виден уже новый стиль художника. Он избавился от черного контура и от грубой изоляции предметов и планов, но наряду с возросшей привлекательностью мазка и четким различием цветов еще заметны связи с прошлым — в пастозных округлых мазках-точках. Это помогало ему передавать массивную солидность форм, богатство фактуры, что уже отделяло его от импрессионистов. Он перенял от Писсарро любовь к изображению домов большими закрытыми плоскостями, которые оживлялись узором ветвей перед ними. Но структура композиции была всецело его собственной. Большие участки земли по обеим сторонам картины направляли глаз между ними и заставляли его переходить дальше по крышам и к горизонту. Вздымающиеся скалистые холмы справа, вокруг которых в затруднении блуждает взгляд, создает впечатление трудного, но неостановимого движения вглубь. Можно почувствовать, что между холмами и домом есть и сходство, и противоположность, что отдается в чередовании свободного и затрудненного движения. Эмоциональное настроение усиливает название «Дом повешенного».
В это время Поль во второй раз подступил к теме Олимпии, и на сей раз он сумел отказаться от грубого и экспрессивного подхода и построил цветовую гармонию с нотой лирической иронии. Девушка, с которой негритянка стягивает покрывало, плавает в облаке неясных тусклозеленых оттенков, а наблюдатель (сам Сезанн), одетый, как денди из высшего света, созерцает эту сцену.
В начале 1873 года Поль переехал в Овер и снял домик поблизости от семейства Гаше. Овер, где крыши домов крыли соломой, походил на деревню в значительно большей степени, чем Понтуаз, и Поль мог работать там с большей свободой. Добиньи, который жил там, однажды увидел его во время этюда. «Я только что видел на берегу Уазы выдающуюся работу, — рассказывал он, — ее написал молодой и неизвестный человек, некий Сезанн».
Поль ходил в грубых башмаках, в плаще, как у возчика, и в старой фуражке или желтой соломенной шляпе. Голову он держал высоко и шагал легко, глаза его ярко сверкали, а нечесаная борода топорщилась торчком. Однажды, когда он работал вместе с Писсарро, кавалькада элегантно одетых всадников остановилась поблизости и стала бросать высокомерные взгляды на неопрятных художников; Поль громко сказал: «Что за турнюр!» Крестьянин, который видел за работой Писсарро и Сезанна, заметил: «Там, где мсье Писсарро слегка клюнет, мсье Сезанн вовсю малюет». Поль никогда не принимал тщательной системы импрессионистической живописи, допуская разве что лишь формулы пуантилизма. Покончив с наложением краски мастихином и с широкими мазками, он стал в дальнейшем писать прозрачными слоями. Сначала он придерживался приблизительно одного направления мазков на всей поверхности холста (преимущественно из правого верхнего угла в левый нижний), затем, овладев разработкой пространственных планов, он каждый из них трактовал по-разному — мазки в каждом участке были параллельны, но по отношению к другим пространственным зонам располагались под иным углом. Отсюда проистекает его способность изображать богатое разнообразие планов и движений в пространстве, не теряя звучности цвета и его отражений. Но основные достижения были еще далеко впереди, Поль лишь вступил на дорогу, ведущую к ним.
Теперь он проводил много времени без общения с Золя. Если бы мы располагали его письмами за этот период, можно было бы предположить, что между ними по-прежнему сохранялись контакты. Однако, вероятнее всего, что, поглощенный своим новым отношением к пейзажу и углубляющейся дружбой с Писсарро, Поль впервые перестал постоянно думать о Золя. У последнего, в свою очередь, появился ряд новых интересов. В 1871 году «Карьера Ругонов» положила начало его огромной серии романов. Роль, которую играло семейство Сезанн в замысле этого романа и всего цикла, показана в набросках к «Карьере».
В 1872 году вышла «Добыча», которая продолжила рассказ о спекуляциях и безумной жажде денег во времена Империи. Обе книги не снискали никакого успеха и даже не оправдали расходов. Издатель былразорен. В 1873 году новый издатель, Шарпантье, издал «Чрево Парижа» с его впечатляющим изображением рынков, где Золя выказал глубокую поэтическую силу и умение по-новому связать описание индивидуальных судеб и общественных явлений. Но снова это ни на кого не произвело впечатления. Так как он регулярно посылал все свои книги Полю вплоть до 1886 года, а Поль неизменно отвечал благодарственными письмами, то можно лишь пожалеть, что у нас нет отзывов Сезанна о картинах Экса — Плассана и о живой образности «Чрева Парижа». Но представляется интересным, что в то время, как Поль обращался к земле в столь качественных работах, как «Дом повешенного», Золя достиг в «Чреве» мощного оживления и очеловечивания сцен, связанных с фруктами, овощами и рыбой.
Золя прямо заявлял, что он хотел создать в этом романе «огромный натюрморт». Он сравнивал красоту фруктов с девическими лицами: «Роскошные фрукты на витрине в изящно убранных корзинках, казалось, прятались в зелени — словно круглые щечки, хорошенькие детские личики притаились за лиственным пологом; особенно хороши были персики: румяные монтрейльские, с тонкой прозрачной кожей, как у северянок, и южные — желтовато-смуглые, как загорелые девушки Прованса».
В этом описании есть нечто похожее на отношение Поля к его фруктам и овощам. Но у Сезанна по природе его формального языка связь форм девушек и фруктов менее очевидна, чем у Золя.
Художник Л. Лe Байль оставил описание взглядов Писсарро и его советов. Запись относится к 1866–1867 годам, но Писсарро был весьма цельный человек, и его воззрения были в высшей степени стабильны, даже когда он на недолгое время примкнул к пуантилистам. «Ищите тот тип природы, который подходит вашему темпераменту. В мотиве нужно искать скорее формы и цвет, нежели рисунок. Подчеркивать формы необязательно. Их можно передать и без этого. Тщательный рисунок сушит и разрушает ощущение целого, он уничтожает непосредственное впечатление. Не делайте контурную линию слишком определенной; мазок при нужном оттенке цвета и соответствующей яркости сам создаст рисунок. В передаче объема главная трудность заключается не в том, чтобы правильно его очертить, а в том, чтобы изобразить то, что внутри. Изображайте сущностный характер вещей, пытайтесь выразить это всеми доступными вам средствами и не беспокойтесь особенно о технике.
Когда пишете, смотрите, чтобы объект выглядел четко и ясно, смотрите, что лежит справа, а что слева, и работайте во всех частях одновременно. Не выписывайте по отдельности маленькие кусочки, а старайтесь написать все сразу, покрывая краской сразу все детали; следите за тем, какие цвета лежат непосредственно рядом с объектом. Используйте маленькие мазки и старайтесь непосредственно воплощать ваши наблюдения. Глаз не должен застывать на одной точке, но должен обозревать все, и в первую очередь замечать рефлексы, отбрасываемые цветами на их окружение. Работайте одновременно над небом, водой, кустами и землей, уделяйте всему равное внимание и прописывайте все не останавливаясь еще и еще, пока не достигнете всего, чего хотели. Пишите картину за один сеанс, но работайте до тех пор, пока не почувствуете, что ничего уже нельзя прибавить. Тщательно следите за воздушной перспективой, от переднего плана к горизонту. Обращайте внимание на отражения облаков и рефлексы в листве. Не бойтесь добавлять краски, пусть ваша работа становится постепенно все совершенней.
Не стоит действовать в соответствии с правилами и принципами, пишите просто то, что вы видите и чувствуете. Пишите крепко и без колебаний. Самое лучшее — это не потерять первого впечатления… Должно иметь только одного учителя — природу. Всегда следует спрашивать ее совета».
Хотя Поль пришел к подобным идеям своим собственным путем, эти мысли Писсарро имели для него очень важное освобождающее значение. Особенно это касалось идеи о всеобщем единстве, динамически схваченном и запечатленном, и положения о том, что краски взаимодействуют при их соседстве и что цвет способен творить глубину. В это время Поль близко подошел к методам Писсарро. В письме от 22 ноября 1895 года Писсарро в связи с неверным подходом Камиля Моклера к работам Поля (да выставке у Воллара) заметил: «Сезанн, как и мы, был под влиянием Делакруа, Курбе, Мане и даже Легро. В Понтуазе я влиял на него, а он на меня». На этой выставке «видна близость некоторых его пейзажей Овера и Понтуза с моими. Что же тут удивительного, мы были тогда всегда вместе. Но так же верно, и это легко доказать, что у каждого было «свое ощущение», — а это самое ценное». Золя и Бельяр замечали близость двух художников. Писсарро писал в этом же письме, что было бы ошибкой считать, что «живопись изобретают каждый раз заново и что только тот оригинал, кто ни на кого не похож».
Когда Поль начал писать в Понтуазе, ему было еще не вполне ясно, что именно он хочет найти в пейзаже. Первый его подход был связан преимущественно с ближайшими планами, работая с ними он чувствовал необходимость применения экспрессивных методов трактовки деталей. Тогда вместе со странным скачком, который был связан с кризисом 1870 года, ему удалось схватить полностью всю сцену. Он сумел взглянуть на пейзаж широко, организуя пространство массами объемов, хорошо между собой связанных и уравновешенных, но передача глубины открытого пространства долго ему не давалась. Писсарро пытался разрешить эту проблему, следуя традиции Коро, и в то же время он находился под впечатлением фотографического отражения реальности. Фотообъектив дал возможность по-новому взглянуть на расстояния, сведя близкие и дальние планы вместе и охватывая пространство прямо от ног фотографа. Подобные, ранее неизвестные сцены «охватывали за одну экспозицию такое пространство, которое человеческий глаз мог окинуть лишь в два приема, переводя взгляд от переднего плана, то есть снизу, к заднему, поднимаясь к горизонту», — писал Бадт. Когда впервые были получены пейзажные фотографии, художники подумали, что это трюк и подделка. В одной книге, вышедшей в 1865 году, приводится высказывание Делакруа о том, что «самые отъявленные реалисты должны исправлять жесткую перспективу объектива, которая именно потому, что правильна, искажает на самом деле впечатление от предметов». Но в течение 1870-х годов художники постепенно приняли новую перспективу из объектива. Поль, однако, не стал перенимать систему сочетания Коро с объективом, которой следовал Писсарро. Поэтому когда он писал, находясь на дороге и вглядываясь в даль, то, в отличие от Писсарро, выдвигал мотив на дальнее расстояние, подавляя при этом фон у себя под ногами и изображая из него лишь меньшую часть. Он искал пути, как можно открыть систему Коро и Писсарро для новой свободы и нового единства. Хотя он еще сам не осознавал этого, Поль открыл способ, изучая Писсарро, увеличить яркость красок, очистить их, но в то же время подчеркнуть ощутимую материальность предметов. Постепенно массы объемов избавились от непрозрачности (все еще ощутимой в работах 1870–1871 годов) и сумели достичь мягкого взаимодействия красок, а также обозначения планов углубляющегося пространства, но объемы пока еще не стали смутными или неоднозначными. Характер каждого предмета стал более определенным, увеличилась степень их соответствия натуре, и одновременно возросла роль каждого в модулировании целостной композиции.
Развиваясь в этом направлении, Поль воспринял то, что было наиболее оригинальным и творческим у Писсарро. Люсьен замечал, что «разработка оттенков соседних цветов» была «самой яркой характеристикой работ моего отца». Но, настаивая на связи этого подхода с усилением формы и одновременной разработкой пространства, Поль развил метод Писсарро дальше и достиг нового единства выразительности уже на свой особый лад.
Теперь мы можем выдвинуть несколько основных соображений об импрессионизме. Любознательность в областях науки, имеющих отношение к проблемам художественной выразительности, всегда была присуща большинству художников. Те аспекты современной науки, которые обычно связывают с импрессионизмом, восходят на самом деле к началу XVIII века — к исследованиям Ньютона и других ученых в области оптических явлений, и в частности разложения света. Ньютон положил начало культурному кризису, определенно заявив о механистичности вселенной и в то же время стимулировал интерес к свету и цвету. Результатом конфликтов между миром науки и искусства явилось возвеличивание цвета и света как активных принципов, противостоящих области механицизма. Поэты первыми обратились к этой теме, которая сильно проявилась уже у Томсона. С Тёрнером традиции романтической поэзии пришли в живопись. Импрессионисты принадлежали, таким образом, к тёрнеровской линии, даже если его влияние пришло к ним непрямым путем (исключая Моне после 1871 года). Можно сказать поэтому, несколько огрубляя, что романтическая традиция создания образа цветом была оппозиционной по отношению к механистической интерпретации вселенной и опыта, хотя эта традиция получила стимул от самой науки — ньютоновской механики. В середине XIX века анализ света продвинулся значительно дальше, чем в дни молодости Тёрнера, хотя он старался вплоть до своей смерти в 1851 году идти в ногу с этими открытиями, равно как и с открытиями, стимулированными фотообъективом. Шарль Блан в «Газет де Бозар» в 1865 году опубликовал серию статей о цвете; в то время мать и сестра Поля были подписчицами этой газеты. Бунзен и Кирхгоф работали над спектральным анализом. Уже в 1828 году Джеймс Никол изобрел свою призму, и стала известна поляризация света путем рефракции. Араго и де Френель между 1854 и 1862 годами опубликовали работу о полярископе, который был основан на использовании аппарата с взаимоотражающимися зеркалами. Химик Э. Шеврёйль, назначенный директором красильного отдела на фабрике гобеленов в Париже, занимался нахождением гармонии цветов и в 1839 году опубликовал работу «Принципы гармонии и контраста цветов применительно к искусству». Он показал, как соседние цвета влияют один на другой и изменяют друг друга, и заметил, что любой цвет, взятый сам по себе, кажется окруженным неясным ореолом дополнительного цвета: например, красное на белом выглядит на границе зеленоватым. Шеврёйль также обнаружил, что две нити, окрашенные по-разному, кажутся одного цвета с далекого расстояния. Делакруа был, несомненно, под сильным впечатлением этих идей, хотя он и не дал их систематического приложения. Моне, Писсарро и позже Сёра знали работы Шеврёйля очень хорошо. Импрессионисты писали fени дополнительными цветами по отношению к цвету объекта, отбрасывающего тень. Они ставили рядом те краски, которые глаз видит слившимися на расстоянии. Писсарро, следуя Сёра, изучал также труды физиков Гельмгольца, Максвелла, О.-Н. Руда. Он знал, как достичь на холсте эффекта сияния света, придав глазу зрителя функцию сотворения его из компонентов — призматических цветов.
В то же время художники не могли не заинтересоваться эффектами, получаемыми с помощью фотокамеры, чему положил начало еще Тёрнер в свои поздние годы. Фотографы, работавшие в Аррасе и лесу Фонтенбло, были связаны с художниками-барбизонцами. Искусство Коро конца 1840-х годов немало вдохновлялось фотографией — особенно в эффекте света, называвшемся галакцией (световые круги или пятна). Этот эффект размывал контуры и давал впечатление проникновения света внутрь, что производило ощущение движения. Многие импрессионисты использовали в своей работе фотографии, Поль, например, в картине «Тающий снег в Фонтенбло». Обобщающий эффект фотографии, сказывающийся на дальних фигурах, появлялся в работах Моне, например в «Бульваре капуцинок».
Развитие фотографии сопровождалось развитием разного рода эффектов и приемов, связанных со светом. Идея о необходимости работать на открытом воздухе стимулировалась даже самим названием фотографии: светопись. Солнце и свет расценивались как породители способности видеть. Бодлер, испытывая отвращение к тому, что «целые скопища мерзких обывателей ринулись, подобно Нарциссу, разглядывать свои заурядные физиономии», замечал, что «новоявленными солнцепоклонниками овладело форменное безумие и неслыханный фанатизм». Все жаждали чистого света. Первым человеком, который запечатлел туманную сцену, был как будто В. Мак-Лейш, который, выставив в 1882 году «Туманное утро на запруде», произвел сенсацию. Первым человеком, использовавшим искусственный свет, был Надар (Ф. Турнашон), который провел электричество в парижские катакомбы около 1860 года. Надар был другом Бодлера и написал о нем книгу. Он принимал участие в революции 1848 года, лишился тогда всяческих средств и обратился к фотографии, Флобер в 1849 году путешествовал по Египту со своим другом, занимавшимся фотографией, Максимом дю Каном, и заинтересовался дагерротипией. «Мельницы, верблюды, кусты, струящиеся воды, земля под ногами и дальние виды — законченная композиция получалась в один момент». Доступная цветная фотография, по поводу которой Рёскин говорил, что надеется не дожить до дня ее появления, была изобретена лишь в 1907 году. Однако некоторые эффекты взаимодействия света с определенными материалами, проводившиеся в то время (например, К. Максвеллом в 1875 году), послужили необходимой прелюдией для этого открытия.
Поль находился под большим впечатлением от всех этих новых явлений, причем в большей степени он знакомился с ними через посредство других художников, например Писсарро, чем непосредственно путем изучения научных трудов. Он, однако, не мог не слышать об открытиях Шеврёйля, широко обсуждавшихся в кафе и других местах, где собирались художники. При всем своем упорстве перед мольбертом он мог легко поддаваться влияниям других, особенно если он чувствовал себя на их стороне. При этом общие теории как бы обходили его стороной, практически не затрагивая его. Но один из аспектов импрессионизма, который определенно развивался с 1869 года в работах Моне и Ренуара в «Лягушатнике» — впечатление от мира как от радости, был полностью воспринят Сезанном. Г. Жеффруа писал, что импрессионизм родился от экзальтации чувств. Убежденность в существовании некой новой формы свободы и одновременно тщательное постижение природы, достижимое через освобождение света и. обнаружение бесконечно богатых оттенков цвета, — все это носило обновляющий характер: окончательное избавление от мира застывших и жестких условностей и свобода вольно следовать самой природе в духе обсуждавшихся нами ранее романтических игр и блужданий троицы друзей в 1850-е годы. Как художник Поль находился в основном русле романтизма, увлеченный представлениями о роке и трагических конфликтах. Его можно назвать учеником Делакруа, о котором Бодлер писал в «Маяках»:
«Крови озеро в сумраке чащи зеленой,
Милый ангелам падшим безрадостный дол —
Странный мир, где Делакруа исступленный
Звуки Вебера в музыке красок нашел».
(Перевод В. В. Левика)
Импрессионизм, обеспечив возможность овладеть своими приемами, дал также Сезанну силу разрешать его глубочайшие личные конфликты. Он подхватил сущностную гармоничность или идилличность мира, присущую импрессионизму, но пошел дальше в своей потребности придать земле солидность и прочность, тогда как импрессионисты в своих логических крайностях увязали в рефлексах света или сводили изображаемое к схематичной системе разложения цвета. Поэтому Поль мог сказать в старости Журдену: «Импрессионизм больше не нужен, это вздор», — и тут же без малейшего ощущения противоречия он пускался расточать похвалы Писсарро. Та гармония, которую он черпал в своем внутреннем мире, отнюдь не была лирическим всплеском или восхвалением неких особенностей пейзажа. Это была гармония, основанная на схватывании полноты всех деталей и элементов, насколько это было возможно; такая гармония, которая включала постоянство мира вместе с его непостоянством, его прочные основы и структуру, равно как и изменчивые колебания, асимметрии и напряженность, чреватую переменами.
Глава 2
Вперед вместе с Писсарро
(1873–1876)

В 1860-е годы свободомыслящие художники понемногу проникали в Салон. При этом было много неясного: иногда снисходительное жюри своими уступками провоцировало скандал, и следующее оказывалось намного консервативней. Но так или иначе все больше оригинальных работ, терявшихся между огромным количеством посредственной живописи, довольно незаметно проходило через выставку, подвергаясь нападкам лишь в каких-то особых случаях, например из-за слишком ярких красок. Только Сезанн и Гийомен никогда не допускались в Салон. После установления Республики академики стали еще более придирчивы в своем стремлении не допустить ничего нового; ни один из торговцев картинами не осмеливался выступать в противовес великим мужам. Поэтому в 1874 году передовые художники решили организовать свою собственную выставку при помощи некоторых критиков и сторонников. Экономическая ситуация была неважной. Кратковременный подъем после войны сменился чем-то близким кризису. Более чем когда-либо ранее мятежные художники испытывали нужду. Они устраивали дискуссии о наилучшей тактике, высказывались разного рода опасения. Дега предложил для выставки название «Капуцин», исходя из того, что фотограф Надар обещал предоставить им свою мастерскую, располагавшуюся на Бульваре Капуцинок, в доме № 35, Ренуар отверг это предложение. В итоге было выбрано бесцветное имя: «Анонимное общество содружества художников — живописцев, скульпторов, граверов и др.».
Все те, кто мог носить звание импрессионистов, приняли в выставке участие. Сезанн и Гийомен впервые предстали на суд парижской публики. Мане решил ничего не выставлять. Он в это время боролся со своего рода неохотным официальным признанием, хотя молодежь считала, что в этом году Мане «разбавил свое пиво водой», сделав слабое подражание Хальсу для Салона. Более того, было известно, что он недолюбливает многих из молодых художников; Ренуара он называл «заблудшим добрым малым», а относительно Сезанна, как многие передавали, объявил, что не намерен где-либо появляться вместе с этаким мазилой. Экспоненты на свой страх и риск адресовались «к простой публике, которая пусть судит, отвергает или поддерживает», — писала «Пти Паризьен» 17 апреля. 29 художников выставили 169 работ. Среди них были Писсарро, Моне, Ренуар, Сислей, Моризо, Гийомен, Сезанн, Дега, Де Ниттис, Буден, Бракмон, Кальс, Левер и Руар. Единственным скульптором был Оттен. Многие экспоненты хотели отвергнуть Поля, чтобы не навлекать на выставку чрезмерно много поношений, но Писсарро эти разговоры пресек. Гийме выставляться отказался, он удостоился поощрительного отзыва в Салоне 1872 года.
Выставка была открыта с десяти утра до шести вечера, затем с восьми и до десяти. Расположена она была на оживленной улице, входная плата составляла один франк. Огромные толпы валили, чтобы посмеяться, позубоскалить и позлословить; повторялись сцены времен «Салона отверженных». Поль выставил «Новую Олимпию» и пару недавних пейзажей. Выбор первой картины показывает, сколь он был предан роли своего рода «Делакруа после Курбе». По предложению Писсарро картины развесили сообразно размерам, поэтому их расположение было случайным. Пессимистичный Дега оказался прав, предрекая оценку выставки публикой. Художников приравняли к коммунарам. «Они все окосели», «их живопись лишена всякого смысла». О Поле Жан Прувель из «Рапеля» писал: «Что можно сказать о мсье Сезанне? Из всех возможных жюри нельзя представить такое, что может принять любую работу этого художника, который обычно является в Салон, таща свои картины на спине, словно Христос свой крест. Такая выходящая за рамки любовь к желтому цвету подвергает опасности будущее мсье Сезанна». В «Артисте» Марк де Монтифо (под этим именем выступала женщина) писал: «В воскресенье публика нашла над чем посмеяться в фантастической фигуре, которая выставила себя напоказ (имеется в виду «Новая Олимпия». — Дж. Л.) курильщику опиума, окруженному тошнотворными облаками. Это явление розовой обнаженной плоти подталкивает вперед некий демон в клубы дыма, в уголок воссозданного рая, в котором ночной кошмар предстает сладострастным видением, — все это было слишком даже для наиболее отважных зрителей. Мсье Сезанн должен быть не иначе как сумасшедшим, страдавшим во время работы над этой картиной delirium tremens (белой горячкой. — Латин.)… На самом деле это один из загадочных образов, порожденных гашишем, извлеченных из гущи абсурдных грез… Никакая смелость, граничащая с наглостью, не может смутить нас. Но когда мы подходим к пейзажам мсье Сезанна, нам остается лишь молча пройти мимо его «Дома повешенного» и «Этюда в Анвере» (sic! — Дж. Л.). Мы сознаемся, что это больше того, что мы способны проглотить».
Эти слова принадлежат сравнительно либеральному критику, который дружественно отнесся к Дега, Ренуару и Моне, не посмеялся над Гийоменом и даже усмотрел некие надежды в (кислее и Писсарро. (Можно заметить, впрочем, что связь Сезанна с Бодлером и его искусственным раем была достаточно точно найдена.) Несколько молодых радикальных критиков попытались сказать несколько слов в защиту выставки, но успеха не имели. У Поля, однако, была причина, чтобы счесть себя довольным: его «Дом повешенного» купил граф Дориа. Писсарро по этому поводу писал радостно Дюре 5 мая: «Наша выставка проходит неплохо, это успех. Критика нападает на нас и обвиняет в отсутствии школы… У них ничему не научишься».
Движение обрело имя. JI. Леруа в «Шаривари» озаглавил свою статью «Выставка импрессионистов» и застолбил название на долгое время вперед. Он рассказывал, как пошел смотреть выставку со знающим пейзажистом Жозефом Венсаном (его собственное изобретение): «Мягко, с наивозможно наивным видом я подвел его к «Вспаханному полю» мсье Писсарро. При виде этого чудовищного пейзажа добрый малый подумал, что его очки запотели. Он тщательно протер их и снова водрузил на нос. «О Боже, — возопил он, — что это такое?» — «Вы видите, это белый иней на глубоко вспаханных бороздах». — «Как? Это борозды? Это иней? Но ведь это ошметки краски с палитры, когда ее чистят мастихином и вытирают о кусок холста». — «Возможно, но здесь есть некое впечатление». — «А, ну что ж, довольно странная штука, это впечатление».
«Бульвар капуцинок» Моне вызвал его глубокое возмущение своими обобщенно трактованными фигурами пешеходов. «А что это за бесчисленные черные загогулины внизу картины?.. Стало быть, именно так я выгляжу, когда прогуливаюсь по бульвару». «Дом повешенного» с его «чудовищной мазней» дополнил впечатление от картины Моне. После «Новой Олимпии» мозг Венсана полностью сдвинулся. Неверной походкой он двинулся вон, бормоча: «Ох, значит, я шагающее впечатление, мстительный мастихин, «Бульвар капуцинок» Моне и «Дом повешенного» вместе с «Новой Олимпией» Сезанна. Ох, ох, ох».
Это, впрочем, не было первым употреблением термина «impression» — «впечатление». Готье писал о Добиньи, что-де очень жаль, когда художник передает «впечатление» и пренебрегает деталями. Кастаньяри писал в 1863 году о Йонкинде, что «все лежит во впечатлении»; также он применял этот термин относительно Коро. Вступительная статья каталога выставки Мане в 1867 году утверждает, что «художник думает лишь о передаче своего впечатления» (Димье). На следующий год Редон говорил о Добиньи, что это «художник момента, впечатления». Некоторые даже называли его «главой импрессионистической школы». Моне выставил картину под названием «Впечатление» в 1874 году. И лишь тогда критики заметили этот термин и связали его с новыми живописцами, которые приняли его. Точно так же термин «реализм» был употреблен, чтобы унизить Курбе, но в 1850-е годы он вместе с друзьями подхватил его и обратил против хулителей. Шанфлери приложил термин к литературе в своем манифесте «Реализм» в 1857 году. Золя предложил термин «натурализм» как обозначение крайней степени реализма, отчасти потому, что он хотел этим передать присутствие научности в своем подходе, а отчасти потому, что ему нужен был новый термин для обозначения развития бальзаковских методов. И. Тэн сравнивал работу социальных историков и историков идей с работой натуралистов, уче-ных-естественников; его книгу Золя рецензировал в 1866 году. В предисловии ко второму изданию «Терезы Ракен» в апреле 1868 года он упоминал о «группе писателей-натуралистов, к которым он имеет честь принадлежать». Можно сравнить это с тем, как научные представления о свете и оптике влияли на искусство и сделали возможным импрессионистический подход.
В то время как готовилась выставка на Бульваре капуцинок, Поль вернулся в Париж, в трехэтажный дом на улице Вожирар, 120. Возможно, именно в это время он отослал родителям письмо, черновик которого мы приводили ранее. Он собирался поехать в Понту аз попрощаться с Писсарро, но жестокие отзывы на выставке сломили его дух. Поль сбежал в Экс, оставив Ортанс и сына. Испуганный возможностью вскрытия отцом писем от жены, он всецело зависел от того, что сообщали ему друзья о его семье. Возможно, Поль отправился домой, обуреваемый опасениями, что продолжение его отсутствия повлечет за собой прекращение выплаты содержания, возможно, он надеялся несколько его увеличить. То, что хватало ему самому, было совершенно недостаточно для его семейства. 24 июня он писал из Экса Писсарро, говоря, что приехал в конце мая в субботу вечером и сразу же приступил к живописи. Маленький Жорж Писсарро был болен; Поль предполагал, что юг окажется более полезным для здоровья, чем север, и лучше подойдет самому Писсарро для его живописи. В течение нескольких недель Поль не имел никаких известий о своем сыне и об Ортанс, но вот из Парижа приехал Валабрег и «вчера, во вторник, он принес мне письмо от Ортанс, она пишет, что мальчик здоров». Далее в нескольких фразах он вспоминает образ Геракла на распутье: «Я узнал из газет о великом успехе Гийме и о счастливом происшествии с Грозейе, у которого администрация купила картину, после того как он получил медаль. Вот доказательство, что тот, кто следует путем добродетели, всегда бывает награжден людьми, но не живописью. Я был бы рад узнать от Вас, как себя чувствует мадам Писсарро после родов и появились ли новые члены в пашем объединении. Напишите мне, если это не помешает Вашей работе».
«Объединение» (кооператив) было новой организацией художников, в которой импрессионисты играли большую, но не исключительную роль.
«Поближе к моему отъезду я напишу Вам точно дату и о том, чего мне удалось добиться от моего отца. Во всяком случае, он разрешил мне вернуться в Париж, а это уже хорошо. На этих днях я видел директора музея Экса; под влиянием любопытства, которое в нем возбудили парижские газеты, говорившие об объединении, он захотел своими глазами увидеть, как далеко зашел упадок живописи. Я уверял его, что по моим работам он не может составить себе представление о полных размерах зла и что надо увидеть работы больших преступников Парижа, но он мне сказал: «Я сумею представить себе опасности, которые грозят искусству, увидя ваши покушения на него». Итак, он пришел ко мне, но когда я ему стал объяснять, что Вы, например, заменяете изображение модели этюдом тонов, и старался это показать на натуре, он закрывал глаза и отворачивался. Однако он уверял, что все понял, и мы расстались довольные друг другом. Он славный малый и советовал мне продолжать работать, так как терпение — мать таланта, и т. д.
Я чуть не забыл, что мама и папа просили передать Вам наилучшие пожелания. Целую Люсьена и Жоржа. Поклон мадам Писсарро и благодарность за всю ее доброту ко мне во время нашего пребывания в Овере. Крепко жму Вам руку, и если бы можно было бы одним желанием заставить дела идти хорошо, будьте уверены, что я бы уже постарался их наладить.
Искренне Ваш Поль Сезанн».
К сентябрю Поль вернулся в Париж. Похоже на то, что Луи-Огюст на этот раз постарался относиться к сыну с возможной снисходительностью, спрятав свои авторитарно-иронические манеры. Впрочем, на просьбы Поля он ответил лишь в самый последний момент. Он хотел держать сына в напряжении, и, вне сомнения, это ему удавалось. Поль никогда не был уверен в том, насколько безопасно его положение. Но следует признать тот факт, что Луи-Огюст, этот буржуа до мозга костей, чьей единственной целью и единственным критерием было делание денег, предоставлял Полю столь большую свободу и возможности идти по неверному, на его взгляд, пути при полном отсутствии надежды вернуть потраченное. Это показывает, что под своей маской желчного и нетерпимого деспота он был добрее и чувствительнее, чем Поль себе представлял. 24 сентября Поль писал из Парижа матери в очень бодром тоне, хотя мы не можем в точности знать, насколько стабильным было это настроение и насколько оно соответствовало действительному. Во все периоды он менее всего хотел пугать мать, его единственную опору в семействе:
«Дорогая мама, сначала хочу поблагодарить Вас за то, что Вы меня не забываете. Вот уже несколько дней стоит мерзкая погода и очень холодно. Но я ни в чем не нуждаюсь, и в доме тепло. Буду очень рад посылке, о которой Вы пишете; адресуйте ее по-прежнему на улицу Вожирар, 120. Я остаюсь здесь до конца января.
Писсарро уже полтора месяца нет в Париже, он в Бретани, но я знаю его высокое мнение обо мне, а я-то о себе даже и очень высокого мнения. Я считаю, что стал сильнее всех окружающих меня, и Вы знаете, что у меня достаточно оснований, чтобы прийти к такому выводу. Мне надо еще много работать, но не для того, чтобы добиться той законченности, которая восхищает глупцов. Эта столь высоко ценимая законченность — результат только ремесленного мастерства и делает произведение нехудожественным и пошлым. Я должен совершенствоваться, чтобы писать все более правдиво и умело. Поверьте, что для каждого художника приходит час признания, а его приверженцы будут более искренни и более ревностны, чем те, которых привлекает только пустая видимость.
Сейчас очень неудачное время для продажи, буржуа зажимают свои денежки. Но это ненадолго…
Дорогая матушка, привет моим сестрам. Наилучшие пожелания мсье и мадам Жирар,
Ваш сын Поль Сезанн».
Про отца нет никаких упоминаний. Создается впечатление, что он имел привычку облегчать душу в письмах или разговорах с матерью, высказывая прямо свои честолюбивые стремления — «Вы знаете, я-то о себе даже очень высокого мнения»…
Как замечал Поль, условия были трудными, многим художникам приходилось туго. Они пригласили в свой круг Кайботта, богатого человека, унаследовавшего состояние от отца. Он незадолго до этого поступил в Школу изящных искусств в мастерскую Бонна, но быстро разочаровался в академической системе преподавания. Он познакомился с Моне и Ренуаром, а через них и со всеми остальными импрессионистами. Бледный и стройный, со скорбными серыми глазами, он был преданным и скромным. Часто он покупал картины, чтобы просто помочь художникам.
24 марта 1875 года Моне, Ренуар, Сислей, Писсарро и Моризо попытались устроить аукцион своих работ в Отеле Друо. Хотя некоторые журналы дали дружественные объявления, они собрали очень мало денег и куда больше насмешек. Альбер Вольф из «Фигаро» писал: «Впечатление, производимое импрессионистами, похоже на то, какое производит кошка, прохаживаясь по клавиатуре рояля, или обезьяна, вымазавшая лапы в ящике с красками». Зрители покатывались со смеху при каждой новой картине, а давка и шум достигли такой степени, что аукционист был вынужден послать за полицией. Однако это событие свело с импрессионистами умного коллекционера, Виктора Шоке, почитателя Делакруа. Таможенный чиновник, не столь богатый, как Кайботт, он был высоким человеком средних лет, с поседевшими волосами, аскетичным лицом и маленькой бородой. На распродаже он говорил с одобрением об импрессионистах, но, впрочем, довольно сдержанно. Шоке собирался пойти на выставку на Бульваре капуцинок в свое время, но тогда его отговорили друзья. Теперь, на следующий день после аукциона, он написал Ренуару письмо, в котором хвалил его работы и просил его написать портрет мадам Шоке. Он набил свою квартиру на улице Риволи произведениями искусства; у него было около двадцати полотен Делакруа и множество рисунков и акварелей последнего, произведения Курбе, Мане и Коро, а также редкие образцы антикварной мебели и фарфора. Он мог бы пойти вверх но службе, если бы согласился оставить Париж, но он не мог расстаться со столичными книжными магазинами и антикварными лавками. Чтобы пополнять свою коллекцию, он подчас экономил на одежде и на еде. Ренуар вскоре понял, что Шоке такой человек, который сможет понять Сезанна, и привел коллекционера к папаше Танги. Там Шоке купил «Купальщиц». «Как великолепно это будет смотреться между Делакруа и Курбе!» Однако на лестнице перед дверью Шоке запнулся и подумал, что скажет об этом приобретении жена. «Послушайте, Ренуар, — сказал он, — окажите мне услугу. Скажите жене, что этот Сезанн принадлежит Вам, а уходя, Вы забудете его взять. В таком случае у Мари будет время несколько освоиться с ней, прежде чем я объявлю, что картина принадлежит мне». Ренуар позже представил Шоке Полю, и у них установились хорошие отношения. Их сближала общая любовь к Делакруа. Как-то Поль и Шоке разложили работы мастера на ковре, а сами склонились над ними, коленопреклоненные. Неожиданно, в порыве восторженного согласия, они разразились слезами. После этого Поль часто обедал у Шоке. Он ввел Виктора в свой этюд к «Апофеозу Делакруа» вместе с фигурами Писсарро, Моне и своей собственной.
Подробности жизни Поля в 1875 году утеряны. Известно, что он тщетно посылал акварель с видом Жа де Буффан в Салон. Он переехал с улицы Вожирар на Иль-Сен-Луи, где Гийомен снимал старую мастерскую Добиньи в Ки-д’Анжу, 13. Оба художника вместе писали на пристани. Маленький Поль, которому уже исполнилось три года, играл с холстами отца и рвал их. Сезанн блаженствовал. «Мой сынишка делает окна и трубы. Маленькая бестия прекрасно знает, что такое дом». По преимуществу Поль жил отшельником, изредка заходя к Танги и еще реже, повстречав приятеля, навещал «Новые Афины», не оставаясь там никогда подолгу.
У Танги настали с началом семидесятых годов тяжелые времена. Страстный коммунар, он сражался при защите Парижа и попал в плен к правительственным войскам с оружием в руках. Его судили и приговорили к каторжным работам. Его жене грозило увольнение с работы, но в конце концов ее оставили в покое. Через два года один влиятельный друг выхлопотал Танги освобождение, но с условием двухгодичной ссылки вне Парижа. Танги остановился у брата в Сен-Брие, пока в 1875 году ему наконец не удалось вернуться к жене и дочери в Париж. То место, где его жена работала консьержкой, не понравилось ему, и семейство переехало в маленькую квартирку на улице Корто. Вскоре закрытие магазина Эдуарда дало Танги возможность открыть собственную лавочку на той же улице, в доме № 14. Визит Ренуара вместе с Шоке показал ему, что старые покупатели вернулись к нему сразу, как только Танги появился снова в Париже.
В этом году Золя опубликовал «Проступок аббата Муре», в котором Параду описан с Галисского замка, хорошо известного троице по их совместным прогулкам. Было бы полезным знать, что Поль писал Золя по поводу этой книги, которая сыграла такую же роль в мире поэтических замыслов последнего, что и серии «Купальщиков» и «Купальщиц» в искусстве Поля. В романе Золя была описана земля их юношеских блужданий, выжженные скалистые холмы и плодородная, насыщенная соками почва. Золя подчеркивал значение прямого контакта с землей как с существом, чувствующим и боль, и экстаз зачатия и оплодотворения, подобно человеку. И Золя, и Поль разделяли пантеистическое мировидение в духе Гюго, который делал предмет и окружение символическим воплощением жизни человека. Поль очистил оргиастическое буйство пантеизма Гюго более тонким символизмом Бодлера; у Золя оргиастические элементы стали сильнее, хотя и он многому научился у Бодлера. Следующий отрывок из «Проступка аббата Муре» основан на сонете последнего: «Прямо перед ним простиралась обширная равнина, казавшаяся под бледными косыми лучами луны еще мрачнее, чем обычно. Тощие оливковые и миндальные деревья серели пятнами среди нагромождения высоких утесов, вплоть до темной линии холмов на горизонте. Из тьмы выступали неясные тени — изломанные грани гор, ржавые болота, в которых отражались казавшиеся красными звезды, белые меловые склоны, походившие на сброшенные женщиной одежды, открывавшие ее тело, погруженное во мрак и дремавшее в углублениях почвы. Ночью эта пылающая земля казалась охваченной какой-то странной страстью. Он спала, разметавшись, изогнувшись, обнажившись, широко раскинув свои члены. Во тьме слышались тяжелые жаркие вздохи, доносились крепкие запахи вспотевшей во сне женщины. Казалось, мощная Кибела, запрокинувшись на спину и подставив живот и грудь лунным лучам, спит, опьяненная жаром дня, и все еще грезит об оплодотворении. В стороне, вдоль ее огромного тела, шла дорога в Оливет, и она представлялась аббату Муре бледной ленточкой, которая вилась, точно развязавшийся шнурок от корсета».
Цветы там описываются так, словно бы это были девушки: «…они показывали свою прелесть, которая обычно скромно прячется, все изгибы, которые не демонстрируют, изгибы тела, гладкого как шелк и с синими прожилками тончайших просвечивающих сквозь кожу капилляров».
В 1876 году работы Поля были снова отвергнуты жюри Салона. Он не принял также участия в выставке, которая была устроена его друзьями в галерее Дюран-Рюэля на улице Леплетье, 11. Возможно, он был в подавленном состоянии после плохого приема его работ на прошлогодней выставке и не хотел обременять своих коллег. На этой выставке было представлено только девятнадцать художников. В целом импрессионистический метод был виден более отчетливо, чем раньше, хотя выставка включала Дега, Оттена и других. Кайботт также выставился. Альберт Вольф из «Фигаро» высказался и на этот раз: «У улицы Леплетье злосчастная судьба. После пожара Оперы (28 октября 1873 года. — Дж. Л.) новое бедствие обрушилось на нее. Пять или шесть безумцев, из которых одна женщина, группа несчастных, обуреваемых амбициозными вожделениями, показывают там свои работы. Находятся люди, которые покатываются со смеху, глядя на эту мазню. Что касается меня, то я нахожу это печальным… Это отталкивающее зрелище убогой человеческой тщеты».
Поль писал об этом Писсарро, находись в Эксе и показывая хорошую осведомленность в критической прессе:
«Дорогой Писсарро,
два дня назад я получил целую кипу каталогов и газет со статьями о Вашей выставке у Дюран-Рюэля. Вы, конечно, их читали. Среди них я нашел и длиннейший разнос господина Вольфа. Все эти новости я узнал благодаря любезности мсье Шоке. От него я узнал также, что «Японка» Моне продана за две тысячи франков. Судя по газетам, отказ Салона принять картины Мане наделал много шума, и он выставил свои работы у себя в мастерской. Еще будучи в Париже, я встретил некоего Отье, о котором Вам говорил, он подписывается под статьями о живописи как Жан-Любен. Я ему указал на те места его статьи, о которых Вы говорили, о Вас, о Моне и т. д. Но (Вы, наверно, это уже знаете) он хотел поставить слово «инициатор», а не «имитатор», что совершенно меняет смысл. Что касается остального, он сказал мне, что считает себя обязанным или, во всяком случае, считает приличным не говорить слишком плохо об остальных художниках у Дюрана. Вы его поймете.
Статья Блемона в «Рапель» мне кажется лучше, несмотря на множество умолчаний и слишком длинное вступление, в котором автор немного запутался. Мне кажется, что упрек в «синеве» вызван Вашим пейзажем с туманом».
«Погода вот уже две недели дождливая, — продолжает Сезанн, — и жестокий мороз поразил урожай фруктов и винограда. Я чуть не забыл сообщить Вам, что получил письмо с отказом, что не ново и не удивительно». В этом письме не содержится никаких намеков на причины отказа выставляться с товарищами. Хотя Дега и Поль недолюбливали друг друга, объяснение не может заключаться в каких бы то ни было препятствиях, возникших потому, что кое-кто из экспонентов считал его чересчур крайним. Предположение о том, что Сезанн хотел выставляться только в Салоне или какой-то другой независимой организации, неубедительно.
Открытие выставки совпало с публикацией романа Золя «Его превосходительство Эжен Ругон». Несмотря на то, что его романы по-прежнему плохо расходились и критика обращала на них мало внимания, Вольф, тот самый, который поносил художников, заметил, что Золя прирожденный писатель, «которому недостает такта, я признаю, но его работа заслуживает безусловного интереса и обладает бесспорными достоинствами». Почему Золя ни слова не написал в поддержку выставок 1875 и 1876 годов, остается неясным. Может быть, он был чрезвычайно занят своими романами, а возможно, он почувствовал, что не вполне компетентен как художественный критик. О своих принципах он уже заявил в статье «Мой Салон» и в других ранних публикациях, и может статься, ему пришлось столкнуться с тем, что найти журнал, готовый предоставить ему страницы для художественных обзоров, после этого оказалось нелегко. К тому же, по всей видимости, в годы тесного сближения с Писсарро Поль отошел от Золя. Мир Золя все более становился чисто литературным, Поль также все более замыкался в чисто художественном мире. Поэтому Золя вполне мог считать более естественным оставить защиту новых художников профессиональным критикам вроде Дюранти или Дюре. Может возникнуть вопрос, почему, если он столь пламенно защищал Мане, он не делал этого для Поля, но следует помнить, что Мане был тогда уже зрелым художником, чье имя и работы были хорошо известны публике, тогда как Поль был практически неизвестен, если не считать трех показанных в 1874 году работ.
Дюранти выпустил брошюру «Новая живопись», в которой писал, что новые люди «осознали, что сильный свет изменяет цвет предметов, что солнце, отражаясь во всем, сводит посредством своего сияния все зримое в светящееся единство, единство, которое основано на семи основных призматических цветах, проистекающих из одного бесцветного луча — света». (За несколько лет до этого Дюранти был вызван на дуэльМане, секуцдантом которого был Золя. Золя и сам был однажды вызван за свою художественную критику, однако Гийме и Поль, его секунданты, сумели разрешить дело миром.) В мае 1878 года Дюре также опубликовал памфлет «Художники-импрессионисты», в котором Поль был упомянут в качестве одного из живописцев, «которые близко подошли к первым импрессионистам и которые являются их учениками».
В начале июня Поль отправился в Эстак и провел там лето. 2 июля он написал письмо Писсарро. Он много думал о выставке, замечания относительно Моне вертятся вокруг того факта, что последний сумел попасть в Салон 1875 года. Из письма видно также, что Поль не оставил надежды заманить Писсарро на юг.
«Я принужден отвечать на Ваш приязненный карандаш металлическим острием, то есть пером. Осмелюсь ли я сказать, что Ваше письмо полно печали? Дела нашей живописи плохи: боюсь, что Вы поддадитесь меланхолии, но я уверен, что скоро все изменится. Я не хочу говорить о невозможном, но я всегда строю проекты, которые нельзя осуществить. Я вообразил себе, что места, где я живу, Вам прекрасно подойдут. Здесь сейчас плохая погода, но я считаю, это случайно. В этом году два дня в неделю идет дождь. Неслыханно на юге; никогда этого не бывало.
Ваше письмо застало меня в Эстаке, на берегу моря. Уже месяц, как я уехал из Экса. Я начал писать два маленьких морских мотива для мсье Шоке. Они похожи на игральные карты — красные крыши и голубое море. Если наступит хорошая погода, может быть, я их успею закончить. Пока я еще ничего не сделал. Но здесь есть мотивы, над которыми можно было бы работать три или четыре месяца, так как их растительность не меняется. Это маслины и вечнозеленые сосны. Солнце здесь такое пугающе яркое, что видишь предметы силуэтами, и не только черно-белыми, но синими, красными, коричневыми, лиловыми. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что это противоположно объему. Как были бы счастливы здесь наши милые пейзажисты из Овера и этот засранец Гийме. Как только смогу, я постараюсь приехать сюда по крайней мере на месяц, потому что здесь надо писать большие полотна, не меньше двух метров, как то, что Вы продали Фору».
Из этого текста следует, что Поль смотрел на пейзажи Прованса свежим взглядом, в котором сказывалось пребывание его на севере вместе с Писсарро. В предыдущих работах под влиянием Курбе и Домье он имел обыкновение делать сильные противопоставления цветов без градаций между светом и тенью. Тени не были для него пространством, куда проникало меньше света, или пространством вовсе без света, он воспринимал тень как стихию темноты, выраженную черным цветом. В Овере Поль научился очерчивать объем моделированием тонов, он начал тогда вырабатывать систему, которая была основана не на противопоставлении света и тени и даже не на градациях тени-полутени-света, а строилась на модуляциях цвета как такового. Изучение видов Прованса с точки зрения этих принципов укрепило Сезанна в его новом подходе к цвету. В письме к Писсарро он писал далее:
«Если мы будем выставляться с Моне, то, я думаю, что выставка нашего объединения будет неудачной. Вы скажете, наверно, что я каналья, но своя рубашка ближе к телу. Мейер, которому не везет с объединениями, по-моему, совсем изгадился и старается упредить выставку импрессионистов и тем самым ей повредить. Он может утомить внимание публики и запутать ее. Во-первых, мне кажется, что не следует делать слишком много выставок подряд, во-вторых, люди, которые думают, что идут смотреть импрессионистов, увидят только объединение самых разных художников. В результате — охлаждение. Но Мейер наверняка хочет повредить Моне; а заработал ли Мейер когда-нибудь что-нибудь? Другой вопрос: получив за картину деньги, пойдет ли Моне в западню другой выставки, после того как первая удалась? Раз он имеет успех, он прав. Я говорю, Моне, а подразумеваю всех импрессионистов.
Между прочим, мне нравится джентльменство мсье Герена, простофили, ввязавшегося в компанию отверженных художников. Может быть, я излагаю свои мысли немного грубо, но мягкость не в моем характере. Не сердитесь на меня; когда я вернусь в Париж, мы обо всем поговорим и постараемся, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. И поскольку окружение импрессионистов может мне помочь, я выставлю у них свои лучшие вещи, а более нейтральные отдам другим».
Замечания Поля о правильной тактике для него самого и для других художников не вполне ясны, но, похоже, что это довольно низменные соображения в том духе, что целью каждого на выставке является создание себе репутации для того, чтобы пробиться к высшей славе (пусть даже презираемого) Салона. А как только эта цель будет достигнута, художник освобождается от всяких уз верности по отношению к своим коллегам.
«Дорогой друг, заканчивая свои рассуждения, я скажу вместе с Вами, что раз у некоторых из нас есть какая-то общая направленность, то нам придется действовать согласованно, и что общие интересы и успех укрепят связь, которую не могла бы укрепить одна лишь добрая воля. Я очень доволен, что мсье Пьетт на нашей стороне. Передайте ему от меня привет, также мадам Пьетт, и мадам Писсарро, и всей семье. Крепко жму Вам руку, желаю хорошей погоды.
Представьте себе, я читаю «Лантерн де Марсель» и должен еще подписаться на «Релижьон Л эк». Не довольно ли! Я жду, чтобы скинули Дюфера, но сколько пройдет времени и сколько нужно преодолеть препятствий до обновления (частичного) Сената.
Искренне Ваш Поль Сезанн.
Если бы взгляды здешних жителей могли убивать, я давно был бы готов. Чем-то я им не нравлюсь. П. С.
Я вернусь в Париж в конце месяца. Если Вы напишете раньше, адресуйте Полю Сезанну, дом Жирара (прозванного Белл), церковная площадь в Эстаке, пригороде Марселя».
Из письма видно, что Поль в эти годы занимал весьма радикальную политическую позицию. Он знал, что Писсарро с его глубоко укорененными социалистическими взглядами будет рад узнать, что он подписался на радикальную и антиклерикальную газету. Свою поддержку Коммуне Поль выражает беспощадным отзывом о Дюфере, который был министром юстиции при Тьере и, таким образом, был прямо ответствен за убийства коммунаров после занятия Парижа. До двадцати пяти (в любом случае не меньше семнадцати) тысяч коммунаров было убито сразу, возникла острая проблема — что делать с трупами. Сена была окрашена длинными — токами крови. 38 568 пленных (из них 1858 женщин) было отправлено в Версаль, казни и высылки продолжались до 1874 года. Поль, который находился в Эстаке, в непосредственной близости от мятежного Марселя, запомнил имя Дюфера как одно из самых отвратительных. Показательно, что все комментаторы переписки Поля единодушно закрыли глаза на это письмо, как, впрочем, и на другие выражения политических пристрастий Поля.
В августе Поль вернулся в Париж. Золя снова, как всегда, был погружен в свою работу. Его романы по-прежнему не печатали или они вызывали скандал. Так как письма Поля к Золя в этот период неизвестны, мы не можем судить о его реакции, но, конечно, он был тверд в своем антагонизме но отношению к буржуазной публике.
В 1870-е годы Поль, хотя он увлекался все больше пейзажем под влиянием Писсарро, не оставлял надежд достичь успеха и в тематической живописи, в которой он хотел выражать свои идеи и чувства. Работы типа «Вскрытие», «Убийство», «Новая Олимпия» и многие связанные с ними полотна («Ромовый пунш», «Вечная женственность», «Искушение святого Антония») приоткрывают жгучие чувства, в которые повергли Сезанна война с пруссаками и война гражданская, отношения с Ортанс и рождение сына. Садистическая ярость «Убийства женщины» обнажает вырвавшиеся наружу ужас и ярость, страх быть прижатым в угол и задавленным жизнью в связи с рождением ребенка; отношение Поля к этому событию также пробудило его давние травматические переживания, связанные с матерью. Насилие-убийство выполнено в порывистой манере нервным круглящимся штрихом. А «Вскрытие» построено на четко обозначенных пространственных зонах с взволнованным внутренним ритмом, но эти зоны беспорядочно смешаны, что проистекает не от слабости рисунка и композиции, а, скорее, от глубокого конфликта между собственным телом и его побуждениями. В черном пространстве без всякого воздуха или глубины лысый человек, возможно, он сам, погружает руки в мертвое тело. В очертаниях трупа доминируют три длинные кривые (образованные его руками, ногами и глубокой тенью, прорезающей грудную клетку и продолжающейся между ногами). Эти кривые противостоят другим линиям, идущим от рукава женщины и от рук лысого мужчины. Ключевая точка композиции образована ладонью человека, стоящего в центре. Так как остальные линии отходят от этой точки, то создается впечатление, что центр действия заключен именно здесь — отсюда и проистекает впечатление, что руки шарят внизу живота покойника. Напряженный эмоциональный конфликт картины станет яснее, когда мы посмотрим вскоре серию «Купальщиков» с доминирующими диагоналями рук. «Вскрытие», которое часто датируют началом 1870-х годов, могло быть создано несколько раньше, хотя сильно облысевший череп Поля предполагает по крайней мере 1869–1870 годы.
В двух вольных фантазиях на тему «Олимпии» Мане Поль делает попытку другого подхода к сексу. Здесь он выступает наблюдателем, который полностью контролирует ситуацию. Он сидит у переднего края картины спиной к зрителям; изображение нагой женщины драматизировано и превращено в грезу блистательного порока. Негритянка снимает покрывало с лежащей, показывая на нее широким жестом. Первая версия этого сюжета значительно грубее последующей, хотя обе они выполнены в едином общем ключе. Краски во втором варианте стали светлее и прозрачней, а черный цвет остался лишь в фигуре Поля и маленькой собачке. Но в обеих этих работах, так же как и в ряде других, есть смесь чарующей иронии, сатиры и эротики.
В «Вечной женственности» (или просто «Женщине») через несколько лет мы встретимся с таким же набором впечатлений. Нагая женщина возлежит, как на троне, на ложе под балдахином, окруженная группой поклонников, которая состоит из самого художника, музыкантов и епископа в церковном облачении. В композиции можно усмотреть намек на «Смерть Сарданапала» Делакруа — отсылка к теме «любовь и смерть». Недостаточная проработка пространства здесь компенсируется волнообразным движением: женщина под балдахином является центром притяжения предстоящих.
Поль, по всей видимости, находился в это время в каком-то возбужденном состоянии. Существует много других картин и этюдов с обнаженной натурой, где объект трактован весьма эмоционально. К таким полотнам можно отнести этюд обнаженной с одетым слугой, «Обнаженную за туалетом» (восходящая к композиции Делакруа), «Венеру и Купидона», многочисленных «Купальщиц». По мере усиления влияния Писсарро темное безвоздушное пространство мало-помалу раскрывалось, исчезали черные контуры, появился новый подход к трактовке границ поверхностей (в котором сказался опыт изучения Делакруа). Вершиной этого периода стала «Битва любви». В ней мы видим четыре пары обнаженных любовников и прыгающую собаку. В основе композиции лежит отнюдь не пуссеновский «Иоанн Креститель», как полагали раньше, а «Битва Иакова с ангелом» Делакруа, в которой можно найти те же соответствия — перекрещивающиеся деревья и переплетенные пары. Очертания фигур повторяются в разных элементах пейзажа — в вихрящихся облаках и изогнутых деревьях, в неукротимой энергии, которая пронизывает каждую единицу поверхности картины. Динамическое напряжение композиции усиливается богатством колорита, основанного на сложном взаимодействии и переплетении красок. Все в картине связано, взаимозависимо, непрестанно и неостановимо меняется и тяготеет к уравновешиванию несбалансированных сил. И в этом случае вариант, более ранний, этой композиции показывает, как Поль тщательно работал над картиной. Завершение работы относится к концу 1870-х годов.
Но прежде чем Сезанн достиг разрешения темы в «Битве любви», он еще раз вернулся к «Искушению». Темный колорит с преобладанием синих тонов, в котором ярким контрастом выделяется красный плащ дьявола, похож на колорит «Вечной женственности» и позволяет предположить то же время. В отличие от первого «Искушения» в этой картине главной темой является противоборство святого и женщины. Набросок, довольно грубый по исполнению, изображает отшельника, прикрывающего глаза рукой и поспешающего прочь. В окончательном варианте святой композиционно связан с женщиной жестом простертой руки. Дьявол играет роль сводника в ранних сценах искушения. Например, у Тенирса, как и в других композициях XVII века, роль сводницы играет именно дьявол. В картине Сезанна присутствует также обезьяна с посохом и птица в небе, а также гирлянда купидончиков. Поль, видимо, вдохновлялся «Искушением святого Антония» Флобера, где есть эпизод с царицей Савской. В этом эпизоде царица свистом призывает большую птицу, которая спускается ей на волосы, в то время как двенадцать негритят поддерживают ее шлейф, а обезьянка время от времени приподнимает его конец.
Поль изменил гордую и изящную царицу на похотливую простую девку. Дьявола он ввел, отступив от Флобера, у которого тот воплощался непосредственно в царице Савской, а в своем собственном виде появлялся в других эпизодах. В тетради с набросками сохранился эскиз картины, две фигуры обнаженных, с неразборчиво написанным началом стихотворения «К моему совращению…». Здесь уместно вспомнить стихотворение из письма к Золя от декабря 1859 года, в котором Сатана дирижирует пляской чертей.
Одна рука искусительницы воздета вверх, другая опущена вниз и в сторону, образуя диагональ, имеющую всегда столь важное значение для Поля. В этом контуре видна прямая связь с гравюрой Маркантонио «Курительница благовоний», в которой кариатиды находятся в тех же позах, что и искусительница. Этим объясняется странное положение ее поднятой левой руки. В гравюре эта рука соединяется с опущенной рукой другой кариатиды, в картине Сезанна она связана с рукой святого.
Что касается жеста святого, то следует заметить, что ранее Поль выполнил рисунок мольеровского Тартюфа, в котором протянутые руки имели тот же смысл. Поль иллюстрирует следующее место:
«…прикрой нагую грудь.
Сей приоткрыв предмет, ты пролагаешь путь
Греховным помыслам и вожделеньям грязным».
(«Тартюф». III.2. Перевод М. Донского)
Также в композиции «Искушения» отразились, по всей видимости, впечатления от барочной живописи. Датируется это второе «Искушение» приблизительно 1875 годом.
В течение этих лет он многому научился от Писсарро в трактовке пейзажа, например быстрому подвижному мазку или передаче атмосферных эффектов. Как мы видели на примере «Дома повешенного», Сезанн также овладевал полновесной объемностью масс. Позднее это качество сполна проявится в его композициях с купальщиками. Около 1875 года в его творческой системе наступил важный перелом. В это время он написал «Аллею в Жа де Буффан», в которой вернулся в некоторых отношениях к более ранней манере наложения красок.
«На переднем плане изображена поросль травы, переданная вертикальными неоднородными мазками, которые не встречались у Сезанна раньше, во время его тесных контактов с Писсарро… Плотный и глубокий колорит «Аллеи…» сильно отличается от легко брошенных мазков и серебристого тона тех полотен», — писал современный исследователь Л. Гоуинг.
В области портретной живописи Сезанн двигался от широкой манеры с взаимозависимыми красками (что также проявилось в его пейзажах зимы 1873–1874 годов с их венецианской красной), к портрету Шоке с его прямыми маленькими мазками и импрессионистическим разложением цвета.
Таким образом, мы можем сказать, что в 1875–1876 годы Сезанн был еще близок к Писсарро, но структура, ритм и трактовка пространства заявили о себе нагляднее и основательнее, чем в более ранних работах. Они были сильнее связаны друг с другом и с наблюдением натуры. В картинах этого времени стало сквозить более непосредственное переживание природных явлений.
Глава 3
Достижение безопасности
(1877–1879)

4 апреля 1877 года импрессионисты открыли свою третью выставку в просторных помещениях на улице Леплетье, 6, которые они сняли в доме, предназначенном для реконструкции. Выставку удалось открыть благодаря поддержке Кайботта. Хотя ему было всего лишь двадцать восемь лет, он был уверен, что вскоре умрет («Все в моей семье умирали молодыми»). Поэтому он написал завещание, в котором обусловил выделение тридцати — сорока тысяч франков на устройство выставки. Рассчитав, что новые художники пробьют себе дорогу в течение двадцати или около того лет, он отказал свою коллекцию их работ музею Люксембург (чтобы они впоследствии смогли бы попасть в Лувр), который должен был получить картины по истечении этого срока. Если случится так, что завещатель умрет раньше, добавлял Кайботт, то за коллекцией будет временно смотреть его брат.
Многие работы, написанные осенью и зимой 1876 года, были сделаны специально для готовившейся выставки. Дюран-Рюэль сдал свою галерею в аренду сроком на год, отсюда и возникла необходимость в поисках помещения. Кайботт разрешил все трудности, выставка была подготовлена к весне 1877 года. На этот раз она была более однородна, чем предыдущие. По предложению Ренуара ее назвали «Выставка импрессионистов». Название говорило публике: «Вы найдете здесь тот самый вид живописи, который вы не любите, если вы все же придете, — это будет ваша собственная вина, и вы не сможете требовать обратно входную плату». Выставочный комитет в составе Ренуара, Моне, Писсарро и Кайботта предоставил Полю лучшее место для его шестнадцати вещей, среди которых были пять натюрмортов, портрет Шоке и некой женщины, этюды купальщиков, «Тигр» по мотивам Делакруа, три акварели (одна — цветы и два пейзажа). В каталоге указан адрес Сезанна на улице Уэст, дом № 67. Ему было уже тридцать восемь лет, и он уже имел некоторую известность. Моне выставил «Вокзал Сен-Лазар» и «Белых индюшек», Ренуар «Песенку собачки» и «Бал в Мулен де ла Галетт». Эти картины вместе с работами Поля и Берты Моризо висели на почетных местах, кроме них были произведения Гийомена, Сислея, Писсарро, Кайботта и еще несколько полотен Моне.
Первые посетители не были слишком неприязненными. «Даже те, кто явился с целью обругать, останавливались не перед одной картиной в восхищении», — свидетельствовала «Сьекль». «Курир де Франс» замечала, что «враждебность, которую снискали себе импрессионисты своими ранними работами, можно полагать, проистекала попросту от грубого выражения публикой своего глубокого изумления». Но тем не менее большая часть прессы выступила с прежними нападками. По совету Ренуара Ж. Ривьер во время выставки выпускал газету «Импрессионист», первый номер которой вышел 6 апреля. Но газета распродавалась на улицах разносчиками, ее читали лишь считанные интеллектуалы. Атаки прочей прессы были вполне определенны — она стремилась обратить настроения зрителей в грубые насмешки. Комнаты заполняли раздраженные толпы. Невозможно, восклицал некий Барбюйот в «Спортсмен», «провести более десяти минут перед некоторыми из этих картин и не испытать чувства морской болезни». Шоке присутствовал на выставке все время, споря с публикой в защиту произведений в своей обычной тихой вежливой манере; люди думали, что он безобидный сумасшедший. Поль иногда приходил посмотреть на своих друзей и садился молча послушать, как Шоке уверял, что прозрение слепых — это только вопрос времени. Он даже ухитрился подбить нескольких коллекционеров на покупку работ Ренуара, Моне и Писсарро, но потерпел неудачу в расхваливании Сезанна. Некоторые критики ослабили свои нападки на Моне, Ренуара и других, но перед работами Поля они просто бледнели от ярости. «Он безумец, он чудовище, он попросту коммунар».
«Господа Монне (sic! — Дж. Л.) и Сезанн, счастливые покрасоваться в огнях рампы, представили первый тридцать, второй четырнадцать (sic! — Дж. II.) картин. Следует посмотреть на них, чтобы вообразить, на что это похоже. Они выказывают наиболее глубокое невежество в области рисунка, композиции и цвета. Когда детишки забавляются с бумагой и красками, они и то делают это лучше» (Баллю Р., «Ла Кроник дез Ар е де ла Куриозите», 1877, 14 апр.).
«Если вы посетите выставку вместе с женщиной в интересном положении, быстрее проходите мимо портрета мужчины работы Сезанна… Эта голова, цвета подметок башмаков, да еще с таким странным выражением может впечатлить ее столь сильно, что вызовет желтую лихорадку у ее младенца еще до его появления на свет» (Леру а Л., «Шаривари», 1877, 11 апр.).
Портрет Шоке был прозван «Биллуа в шоколаде». Биллуа — так звали знаменитого убийцу, который изрубил женщину на маленькие кусочки. Поль Манц в «Тан» писал: «У них закрытые глаза, тяжелая рука и величайшее презрение к технике. Все это не нужно для самовыражения этих химерических сознаний, которые воображают, что их небрежность будет принята за элегантность, а их бессилие за искренность». Манц выступал радетелем академистов и успокаивал коллекционеров, приобретавших их полотна: «Не стоит бояться, что невежество вновь станет когда-либо добродетелью». Когда редактор «Артиста» заказал Ривьеру статью, он умолял критика не говорить о Писсарро или Сезанне, чтобы не распугать читателей. Однако в «Импрессионисте» Ривьер мог высказываться совершенно свободно: «Мсье Сезанн — это художник, и великий художник. Те, кто никогда не держали в руках кисть или карандаш, кричат, что он не умеет рисовать, и критикуют его за несовершенство, которое на самом деле является от деланностью, основанной на обширном знании. Его прекрасные натюрморты, столь точные в передаче тональных отношений, обладают величественным качеством правды. Во всех работах художника воплощено чувство, поскольку он сам испытывает перед лицом природы сильные потрясения, которые с присущим ему умением он переносит на холсты… В своих произведениях Сезанн — подлинный эллин классической поры: его полотнам присущи безмятежность и героическая ясность античных картин и терракоты, и те невежды, которые гогочут, глядя, например, на «Купальщиков», кажутся мне варварами, критикующими Парфенон».
Хотя ведущие импрессионисты стали получать некоторое признание, покупали их по-прежнему плохо. Моризо и Поль были еще как-то обеспечены, а Моне, Писсарро и Ренуар, почти полностью зависевшие от продажи, часто крайне бедствовали. Сислей иногда голодал. Гийомен существовал на низкую плату за свою службу. В этом году художники устроили новый аукцион. В нем приняли участие Ренуар, Писсарро, Сислей и Кайботт, которые представили 45 работ и получили в среднем за картину всего лишь по 170 франков, не говоря о том, что значительную часть картин купили сами художники. Единственным маршаном, покупавшим их картины, был Дюран-Рюэль, который хотя и давал за картины немного, все же терял на них деньги. Группа импрессионистов продолжала устраивать выставки (в 1879, 1880, 1881, 1882, 1886 годах), хотя каждый раз кто-нибудь из основных представителей почему-либо не участвовал. Поль никогда больше не предлагал своих работ на выставки. За несколько месяцев до смерти он рассказывал об этих годах своему сыну:
«Я очень тронут, что меня еще помнят Форен и Леон Диеркс, с которыми я познакомился очень давно: с Форе-ном в 1875 году в Лувре, а с Леоном Диерксом — в 1877 году у Нины де Виллар на улице Муан. Должно быть, я рассказывал тебе, что когда я обедал на улице Муан, за столом сидели Поль Алексис, Франк Лами, Марает, Эрнест д’Эрвийи, Лиль Адан и многие другие проголодавшиеся писатели и художники и среди них незабвенный Кабанер. Увы, сколько воспоминаний, все это кануло в прошлое».
Кажется удивительным, что Поль присутствовал на званых обедах, но Нина де Виллар, молодая и красивая, неплохая пианистка, была «принцессой богемы» (Ларгье). Она любила общество художников, держалась без особых формальностей, гости рассаживались кто как приходил, опоздавшие сами разогревали себе блюда. Рассказывают, что Поль пришел в назначенный день, позвонил, но за дверью было тихо. Он позвонил еще, и снова никакого ответа. Наконец дверь открылась, на пороге была девушка в неглиже, с незатянутым корсетом и распущенными золотистыми волосами, которые великолепными потоками струились к ее коленям. Она спросила, что ему угодно, и заявила, что на обед еще очень рано. Он поспешил уйти, но позже пришел снова. Кабанер, которого он повстречал у Нины де Виллар, стал одним из самых преданных его сторонников. Впечатлительный и талантливый, он никак не мог найти применения своим силам и был более известен своим остроумием, нежели музыкой. Каталонец, родом из Перпиньяна, он был невелик ростом, худ и болезненного телосложения, но при этом имел насмешливый язык. «Мой отец был человеком того же типа, что и Наполеон, только менее глупый». Однажды Поль, который шел продавать картину, повстречал Кабанера на улице, развернул холст и, прислонив к стене, показал его.
Кабанер пришел от картины в такой восторг, что Поль отдал ее ему бесплатно, «очень счастливый», что вещь досталась тому, кто действительно разбирается в его живописи.
В этом году Золя наконец сумел добиться успеха и достиг зрелости своего метода в «Западне» — картине деморализации рабочего класса. Эта вещь может быть названа первым важным романом, где героями были выведены рабочие. «Жермини Ласерте» Гонкуров появилась позже. В любых отношениях роман «Западня» отличался от позднейших произведений иным подходом, кругозором, своей страстностью. В нем показано ухудшение положения рабочих. Следует помнить, что период 1870-х годов был временем репрессий. Коммунары не были амнистированы вплоть до 1879 года; лишь в 1880 году рабочие стали достаточно сплоченными, чтобы организовать свою политическую партию. Но, разбирая пути буржуазной коррупции общества, Золя уже довольно рано почувствовал великую энергию и мощные силы, таящиеся в не затронутой разложением части общества. В его романе действуют такие герои, как, например, кузнец Гюже, который символически кует современную цивилизацию. (Попутно мы можем заметить, что здесь Золя дал свою версию Галльского Геракла, который издавна интересовал Поля. Возможно, он и Поль стояли перед статуей Пюже в Лувре, когда Сезанн расточал похвалы ее достоинствам. «Плечи и руки Гюже казались вылепленными скульптором, будто он был копией гиганта из музея».) В «Западне», как мы уже отмечали выше, Золя достиг совершенства нового своего стиля. Одной из характеристик его было вкладывание идиом в прямую речь персонажей и устранение тем самым узких литературных рамок повествования. В результате был создан язык, близкий к речевым формам. Благодаря этому он достиг нового уровня единства, в котором вся языковая ткань книги отражала основную идею, воплощенную в действующих лицах. Автор исчезал в своей работе, становясь не нейтральным и объективным всевидящим божьим оком, как во флоберовской системе, он как бы разделял образ жизни своих персонажей, давая от себя лишь углубленное осознание связей, что, в сущности, и создавало эстетический эффект. Развитие того, что можно назвать новым видом текстового единства с разными планами видения, и было вкладом Золя в новые представления о пространстве и объекте в их взаимосвязи — в то самое, что Поль стремился разрешить своим методом цветовых соотношений.
Роман «Западня» имел огромный успех. К концу 1877 года появилось 38-е издание, к 1881 году была продана сотня тысяч экземпляров. Одновременно с этим поднялась цена на более ранние произведения. Золя, таким образом, пробился через бойкот, а Поль все еще оставался весьма далек от таких перемен.
Золя лето 1877 года проводил на юге. В качестве гонорара за первые тридцать пять тиражей «Западни» он получил 18 500 франков и чувствовал себя довольно свободно. Он отправился в Эстак, где работал над «Страницей любви» и питался изысканными блюдами. По старой памяти Золя навестил мадам Сезанн в ее доме в Эстаке, он всегда был дружен с нею. 29 июня он писал приятелю: «Местность тут великолепная. Вам она покажется, быть может, бесплодной и унылой; но я вырос среди этих голых скал, в этих лишенных растительности пустошах, вот почему я волнуюсь до слез, когда вновь вижу этот край. Один запах сосен вызывает в памяти всю мою молодость». Поль работал в это время в Понтуазе неподалеку от Писсарро — работал в огромной его кухне в Овере, о чем доктор Гаше записывал в своем дневнике, работал, странствуя по берегам Сены и Марны, в Шантийи и Фонтенбло. Встречался он в это время и с Гийме. В Париже, как писал Дюранти в своем письме к Золя, «он появлялся ненадолго. Недавно он заходил в маленькое кафе на площади Пигаль в одном из своих костюмов прошлых лет: синяя куртка, вымазанная красками и хранящая всевозможные следы от разных инструментов, и засаленная старая шляпа. Он произвел впечатление». Писсарро представил Сезанну молодого биржевого маклера, служившего в банке Бертена на улице Лафитт, — Гогена, который учился живописи в Академии Коларосси и чью картину уже приняли в прошлогодний Салон. Несмотря на это, молодой человек тяготел к диссидентам. Гогену не понравился небрежный вид Поля и его фекальный юмор, не говоря уже о деланно самоуничижительной манере, но работы Сезанна он оценил высоко. Несколько полотен Поля и ряд картин Писсарро Гоген купил.
Двадцать четвертого августа Поль написал Золя из Парижа. Общий тон его письма показывает, что его отношения с Золя на протяжении последних лет оставались близкими, как и прежде; иначе он стал бы всячески извиняться и захлебываться в благодарностях, прося об одолжении. Во всех других случаях в подобной ситуации он выглядит грубоватым и неловким, здесь — в случае с Золя — он уверен, что старый друг сделает с готовностью все, что он просит, — точно так же, как он без колебаний попросит его одолжить денег.
«Дорогой Золя,
сердечно благодарю тебя за твое милое отношение. Я попрошу тебя дать знать моей матери, что мне ничего не нужно, так как я собираюсь провести зиму в Марселе. Но она окажет мне большую услугу, если в декабре сможет подыскать мне в Марселе совсем маленькую квартиру из двух комнат и недорогую, однако в таком квартале, где не очень убивают. Чтобы не тратить лишнего, она могла бы переправить туда из Эстака от себя кровать и два стула. В отношении погоды, да будет тебе известно, что жара очень часто сменяется благодетельными ливнями (стиль Го из Экса).
Я хожу каждый день в парк Исси, пишу там этюды. Мои дела идут ничего, но в лагере импрессионистов как будто полная растерянность. Золото не течет в их карманы, и этюды лежат без движения. Мы живем в смутные времена, и я не знаю, когда бедная живопись хоть отчасти обретет свой прежний блеск.
Был ли Маргри так же грустен во время последней поездки в Толоне? И видел ли ты У шара, Орельена? Помимо двух или трех художников, я никого не вижу. Пойдешь ли ты на трапезу общества «Ла Сигаль»? Я узнал из желтых афиш, расклеенных даже в Исси, что пьеса Алексиса будет поставлена в «Жимназ». Полезны ли морские купания мадам Золя, а ты сам, погружаешься ли в горькие волны? Я всем кланяюсь и жму руку тебе.
До свидания, до вашего возвращения с солнечных берегов. Остаюсь вашей милости благодарный художник Поль Сезанн».
Несколько дней спустя Поль снова писал Золя, прося его сообщить мадам Сезанн, чтобы она не беспокоилась ввиду изменения планов Поля. Тем не менее он по-прежнему собирался приехать на юг в «декабре или, скорее, в начале января», в той же короткой записке Поль упомянул, что накануне встретил «нашего милого Ампрера» у папаши Танги.
Вскоре молодые художники, как и старшие пленэристы, стали ходить к Танги — Гоген, Ван Гог, Синьяк, Тулуз-Лотрек. Каким-то образом Танги удалось связать чистые яркие краски новых живописцев с мечтой о свободном обществе, которой он жил. Точно так же он связывал буро-табачные тона с буржуазией. Писсарро соглашался с ним — в незамутненности и правде искусства он видел антибуржуазность. «Англия и Франция прогнили до мозга костей; единственное искусство, которое у них осталось, — это искусство пускать людям пыль в глаза». Танги не просто принимал картины в залог и как средство оплаты от неимущих художников. Временами он подкармливал голодающих, подобно тому как он кормил стареющих проституток и нищих. Его любящая жена временами протестовала, но при этом всегда умела заготовить побольше припасов. После 1877 года именно Танги хранил работы Поля, не давая им оказаться в полном забвении.
Он всегда любил показывать своих «Сезаннов». Воллар написал свое предисловие к каталогу выставки картин Поля 1895 года — картин, принадлежавших именно Танги. Таким образом, Танги был крестным отцом той самой выставки, на которой искусство Поля наконец должным образом предстало перед художественным миром.
1878 год лучше документирован письмами, чем предыдущий. Переписка с Золя хорошо сохранилась — мы располагаем восемнадцатью письмами Сезанна. К этому надо еще добавить одно письмо к Кайботту и письмо к Ру. В начале марта Поль уехал на юг. На этот раз на юге он провел год, и при его скудных доходах ему ничего не оставалось, кроме как взять Ортанс с собой. Он поселил ее в доме № 193 на Шмен де Ром в Марселе, примерно в десяти километрах от Эстака (который находится в тридцати километрах от Экса). Все время в страхе быть обнаруженным своим отцом, он попытался наконец решить проблему денег и стал стараться обеспечить себе пропитание самостоятельно, впервые на сороковом году жизни. Поэтому он обратился к человеку, в чьей готовности помочь был уверен, — к Золя, и написал ему следующее:
«23 марта 1878 года.
Дорогой Эмиль,
кажется, мне придется, и, может быть, очень скоро, зарабатывать себе на жизнь, если только я сумею. Отношения между мной и моим отцом очень обострились, и, может быть, я лишусь всего моего пособия. Из письма мсье Шоке, в котором упоминаются мадам Сезанн и маленький Поль, отец все понял; он был уже настороже, полон подозрений и поспешил распечатать и прочесть письмо, адресованное мне, хотя было написано — мсье Полю Сезанну, художнику-живописцу. Зная твое доброе отношение ко мне, я прошу тебя поговорить с друзьями и воспользоваться твоим влиянием, чтобы пристроить меня куда-нибудь, если возможно. Между мною и моим отцом не все еще порвано. Я думаю, недели через две мое положение окончательно выяснится. Напиши мне (П. Сезанну, до востребования) все, что ты думаешь. Кланяйся, пожалуйста, мадам Золя. Сердечно жму тебе руку. Поль Сезанн.
Я пишу из Эстака, но сегодня вечером вернусь в Экс».
Поль намеревался поспеть в Экс к обеду, его страх перед отцом был настолько силен, что он боялся пропустить семейную трапезу. В это время он, должно быть, ужасно много мотался между Марселем, Эстаком и Эксом. Решение отца уменьшить содержание вдвое, до ста франков в месяц, сильно обескуражило его. Помимо необходимости тратить деньги на себя, Ортанс и ребенка у него было множество долгов. Он обычно брал краски и другие материалы у папаши Танги в долг, ничего не платя; перед тем как уехать из Парижа, Поль получил счет на 2174 франка 80 сантимов. В то же время Поль как будто уже вступил в права наследства, потому что Луи-Огюст, стремясь избежать посмертного налога на наследство, разделил все свое состояние между детьми. Однако Поль так боялся всяческих контактов с отцом, что, по всей видимости, он не мог даже получить то, что ему уже вполне законно полагалось. Возможно, он опасался, что его отец оставил в завещании какие-то условия и оговорки и, если захочет, то сможет потребовать деньги обратно. Итак, с этого момента можно считать очевидным, что Луи-Огюст в точности знал, что у его сына есть женщина и ребенок. Он прочел письмо Шоке. Нюма Кост в письме Золя замечал, что старый Сезанн знает, что «у Поля есть детеныш». Он говорил кому-то, что, похоже, у него есть в Париже внуки. «Как-нибудь я соберусь и съезжу на них посмотреть». Известно также, что однажды он встретил Вильвьея и заявил ему резко; «Вы знаете, а я уже дедушка». — «Что вы имеете в виду? Ведь Поль не женат». — «Его видели выходящим из магазина с лошадкой на палочке и другими игрушками. Не скажете же вы, что это все он купил самому себе». Единственной интерпретацией всех этих разговоров может служить лишь то, что Луи-Огюст хотел принудить Поля во всем честно признаться, но Поль в его присутствии был так парализован страхом, что продолжал лишь довольно жалко огульно все отрицать. Мать и сестры уже знали всю правду. После рождения ребенка они умоляли Поля признаться отцу и жениться законным образом на Ортанс. Мари, самая из них благочестивая и богобоязненная, постоянно повторяла брату: «Женись на ней, почему ты не женишься?» Но Поль никак не мог заставить себя действовать прямо и открыто. Он находил в себе силы лишь для безнадежных попыток прятать концы в воду, и в этот именно момент он и обратился за помощью к Золя.
Двадцать восьмого марта он почувствовал себя несколько увереннее, однако продолжал врать и чувствовал, что терпение отца истощается.
«Дорогой Эмиль, я согласен с тобой, что не должен сам отказываться от родительского пособия. Но ловушки, которые мне ставят на каждом шагу и в которые я до сих пор не попадался, означают, что по поводу денег и того, как я должен их тратить, будут большие разговоры. Более чем вероятно, что я буду получать от отца только сто франков, хотя он обещал мне двести, когда я был в Париже. Следовательно, мне придется прибегнуть к твоей помощи, тем более что малыш болеет уже две недели. Я стараюсь быть очень осторожным, чтобы отец не получил точных доказательств.
Извини меня за следующее замечание, наверно, бумага и конверты твоих писем слишком тяжелые, на почте меня заставили доплатить 25 сантимов (из-за того, что не было достаточно марок), а в твоем письме был всего один двойной листок; прошу тебя, когда будешь мне писать, посылай один только листок, сложенный пополам.
В случае, если отец не даст мне достаточно денег, я обращусь к тебе на первой неделе следующего месяца и дам тебе адрес Ортанс, и ты, если будешь так добр, пошлешь ей деньги.
Кланяюсь мадам Золя и жму тебе руку. Поль Сезанн». В приписке Поль сообщает, что вскоре будет очередная выставка импрессионистов. Он получил приглашение на предварительное собрание, которое было 25 марта на улице Лафитт, но «естественно, что там не был». К этой выставке Поль просил у Золя его натюрморт («который висит у тебя в столовой»). В заключение он спрашивал, не вышла ли «Страница любви» отдельным изданием. Но вскоре до Поля дошли известия, что выставки не будет. В следующем письме (без даты) он писал о романе, который Золя послал ему с посвящением. Комментарии Поля показывают, с какими чувствами он читал произведения своего друга.
«Дорогой Эмиль, спасибо за присылку твоей последней книги и за посвящение на ней. Я прочел пока немного. Моя мать очень больна и лежит уже десять дней. Она в тяжелом состоянии.
Я прочитал описание захода солнца над Парижем и начало любви Элен и Анри. Не мне судить твою книгу. Ты можешь мне сказать, как Курбе, что оценка самого художника гораздо справедливее, чем та, которую он слышит от других. А то, что я скажу, может тебе только показать, что именно я понял. Мне кажется, что краски здесь мягче, чем в предыдущем романе, но темперамент или творческая сила те же. И потом, может быть, я говорю глупости, очень подробно прослежено развитие страсти у героев. Еще, мне кажется, я верно заметил, что описание мест, окружающих героев, не является чем-то посторонним в романе, а слито с ними и проникнуто той же страстью, которой охвачены действующие лица, и что все кругом одухотворяется и участвует в страданиях живых людей. Вообще, судя по газетам, книга будет иметь успех».
В приведенных словах Поль отчетливо утверждает свое понимание творческого метода Золя, его поэтики динамического единства человека и природы. Поль признает, что в «Странице любви» писатель достиг более отчетливой, чем раньше, и верной психологической характеристики действующих лиц и конфликта. В романе описывается любовь между молодой вдовой и женатым доктором. У вдовы есть чрезвычайно ревнивая дочь, которая умирает из-за романа ее матери и разлучает, таким образом, любовников. Падение Элен связано у Золя с лицемерием среднего класса и развращенными нравами Парижа. В целом это произведение носит достаточна явственные следы латентных сексуальных фобий Золя. В приписке Поль сообщает, что он не имеет возможности регулярно ходить на почту и поэтому его письма не очень точно отвечают на письма Золя — «происходит это оттого, что я часто пишу тебе, еще не прочтя твоего письма». Вслед за этим постскриптумом Поль дописал: «Мысль, пришедшая мне в голову в последнюю минуту, — для твоих героев ты соблюдаешь предписание Горация: «Qualis ab incepte processei’it, et sibi conritet». (Каким он будет с самого начала, таким он и останется. —Латин.) Но ты, несомненно, высмеиваешь этот принцип, и в этом один из наших поворотов старых речений». Зачем после поздравлений Золя с удачным раскрытием характеров Поль прибавил эту странную приписку, сказать трудно.
В начале апреля, точнее, 4 числа, Поль написал еще одно письмо Золя, из которого следует, как он ощущал себя, оказавшись в весьма постыдной позиции.
«Дорогой Эмиль,
прошу тебя послать 60 франков Ортанс по адресу: Марсель, Римская улица, 183, мадам Сезанн. Хотя я соблюдаю все условия, поставленные мне отцом, я смог получить от него только сто франков, да я еще боялся, что он не даст совсем ничего. Он получил из разных мест сведения, что у меня есть ребенок, и всеми способами пытается меня поймать. Он говорит, что хочет меня избавить от ребенка. Вот и все, к этому ничего не прибавишь. Было бы слишком долго объяснять тебе, что он за человек, что его нельзя судить по внешним проявлениям, можешь мне поверить, они не дают о нем правильного представления. Если у тебя будет время, напиши мне, ты доставишь мне большое удовольствие. Я постараюсь съездить в Марсель; я ездил туда потихоньку неделю тому назад, во вторник, чтобы посмотреть на малыша (ему лучше), но пришлось возвращаться в Экс пешком, потому что в моем расписании поездов было указано неверное время, а надо было поспеть домой к обеду — я опоздал начас».
Разговоры Луи-Огюста о том, что он хочет освободить Поля от ребенка, вероятно, были попытками посмотреть, как на это будет реагировать Поль. Отец, наверно, хотел испытать, насколько Поль опутан этой сетью и, зная, как он боится всяческого давления, думал выяснить, не хочет ли сын сам помощи такого рода. «Его нельзя судить по внешним проявлениям». Можно не сомневаться, что банкиру хотелось, будучи уже на восьмидесятом году, увидеть своего внука. Через десять дней после приведенного выше письма Поль написал снова. Он только вернулся из Марселя и поэтому не сразу ответил Золя. «Я смог получить твое письмо только в четверг. Спасибо за два отправления. Я пишу под родительским оком». В приписке Поль признался, что ученики Вильвьея дразнят его, когда он проходит мимо. «Я остригу волосы, наверно, они слишком длинные. Я работаю; мало что выходит и слишком далеко от общего направления». (Вильвьей переехал из Парижа обратно в Экс, где вместе с группой учеников писал религиозные сюжеты для католических миссий в колониях.) В письме Поль рассказывает следующий анекдот: «Я ездил в Марсель в сопровождении мсье Жибера. Эти люди хорошо видят, но смотрят на все глазами учителя. Когда проезжаешь по железной дороге около дома Алексиса, с восточной стороны раскрывается потрясающий мотив: Сент-Виктуар и скалы над Борекеем. Я сказал: «Какой прекрасный мотив», а он ответил: «Линии неуравновешены». По поводу «Западни», о которой, между прочим, он заговорил первый, он сказал много разумного и похвального, но все с точки зрения манеры изложения.
Потом после долгого молчания он добавил: «Ему надо было получить хорошее образование, кончить Эколь Нормаль». Я заговорил о Ришпене, он сказал: «Из него ничего не выйдет». Какая непоследовательность. Ведь Ришпен-то кончил школу. И при этом Жибер, без сомнения, понимает в искусстве больше всех 20 тысяч жителей города. Я буду благоразумным, но не сумею хитрить».
В мае Поль написал снова, и снова он просил 60 франков для Ортанс по тому же адресу. «Я понимаю, что сейчас ты очень занят новой книгой («Нана». — Дж. Л.), но если позже ты мне напишешь о положении в литературе и искусстве, ты доставишь мне большое удовольствие. Это меня как-то оторвет от провинции и приблизит к Парижу».
Вскоре Поль еще раз написал о своих впечатлениях от «Страницы любви»: «Моя мать теперь уже вне опасности, два дня, как она встает, ей это полезно, и она лучше спит. Целую неделю она себя плохо чувствовала. Теперь, я надеюсь, хорошая погода и уход поставят ее на ноги.
Я сходил за твоим письмом только вчера вечером, в среду. Вот почему я не сразу тебе ответил. Благодарю тебя за сообщение о моей маленькой картине, я прекрасно понимаю, что она не могла быть принята из-за того, что я еще чересчур далек от преследуемой мной цели, то есть передачи природы.
Я только что кончил «Страницу любви». Ты был прав, что ее нельзя читать по частям в газете. Я совсем не улавливал связи между событиями, мне все казалось отрывочным, тогда как, наоборот, роман построен очень искусно: В нем есть большое драматическое чувство. Я также не замечал, что действие происходит в сжатых, тесных рамках. Досадно, что художественная сторона так мало ценится и что приходится, чтобы привлечь публику, вводить эффекты, которые вовсе не необходимы, хотя, правда, они и не вредят. Я прочел твое письмо своей матери, и она тоже тебе кланяется. Привет всей семье. Поль Сезанн».
Различие в отношениях Поля с отцом и с матерью вряд ли могли быть более разительными, чем в это время. Когда мать заболела, у него прибавилось проблем. 1 мая, как и в предыдущем месяце, Луи-Огюст выдал Полю лишь сотню франков. Совершенно ясно, что, давая ему денег заведомо недостаточно для содержания семьи, он таким путем надеялся принудить сына к признанию. Но робость Поля превышала желание отца знать истину. 1 июня Сезанн снова обращался с просьбой о 60 франках, на этот раз тон его письма был слегка смущенным. «Мое милое семейство, между прочим, прекрасные люди, но по отношению к незадачливому художнику, который никогда ничего не умел делать, они, может быть, немного скуповаты; это небольшой недостаток, вполне простительный в провинции». Далее, после просьбы о деньгах, Поль сообщает, что покупает у «книгопродавца-демократа Ламбера иллюстрированную «Западню»; марсельская газета «Эгалите» дает ее в выпусках.
«Я понемногу работаю. Политические деятели имеют ужасно большое значение. А как поживает Алексис?»
В июле Поль снова просит 60 франков; теперь он указывает новый адрес Ортанс: Вье Шмен де Ром, 12 (Старая Римская дорога). Он сам собирался поехать дней на десять в Эстак. Жирар, по прозвищу Бель, писал он в том же письме, вышел из сумасшедшего дома, куда попал из-за временного умственного расстройства. Погода на юге ужасно жаркая. Далее Сезанн спрашивал, было ли распределение наград, зная, что Золя мог получить орден Почетного легиона. В газетах он ничего не нашел про это. Пишет он и о политических событиях: «В Марселе как будто была большая драка. Некий Кост-младший, муниципальный советник, отличился: его палка гуляла по спинам клерикалов».
Перемена адреса Ортанс была вызвана, как можно с уверенностью полагать, переездом в более дешевое жилье. Мать Поля хотя и переживала за него и сочувствовала сыну, Ортанс не любила. Однако через некоторое время она с большой привязанностью и заботой отнеслась к маленькому Полю. К 16 июля Поль находился в Эстаке с неделю, когда «сир Жерар» сообщил ему, что его собственный тесть собирается в Париже зайти к Золя. «Мы переменили нашу квартиру в Эстаке, и сейчас я живу совсем рядом с Жираром, у Изнара». Далее Поль спрашивает о награждении, сообщает о сильной жаре, благодарит за посылку денег Ортанс, сожалеет о закрытии газеты «Бьен Пюблик», в которой Золя писал о театре. «Я видел Гийомена, садовника, он только что вернулся из Канн, где его хозяин устраивает питомник».
Двадцать девятого июля Поль сообщает о своей очередной неудаче. Уезжая из Парижа, он оставил ключ от своей столичной квартиры некоему Гийме, сапожнику. К тому приехали в гости родственники из провинции посмотреть Выставку, и он поместил их в квартире Сезанна. Хозяин был очень недоволен тем, что у него не спросили разрешения, и прислал вместе с квитанцией за последний взнос довольно резкое письмо, сообщая, что «мое помещение занято посторонними людьми. Отец прочел это письмо и решил, что я укрываю в Париже женщин. Все это начинает напоминать какой-то водевиль. А до этого все шло хорошо». Поль собирался устроиться на зиму в Марселе, поработать там и уехать в Париж весной, в марте. «В это время погода портится и уже не так хорошо работать на воздухе. Кроме того, я попал бы в Париж во время Выставки живописи». (Он по-прежнему не мог игнорировать Салон.) Поль поздравлял Золя с покупкой дома в Медане («Я им воспользуюсь с твоего разрешения, чтобы получше узнать те края»). «Если бы я мог устроиться в Лa Рош (Гийон), или в Беннекуре, или то тут, то там, я попробовал бы пожить там год или два, как это было в Овере». В заключение Поль просит еще 60 франков для Ортанс, «хотя я подумываю, как бы тебя избавить от этого ежемесячного налога».
Но 27 августа Поль снова взывает о 60 франках. Он никак не может найти дешевого помещения в Марселе, где он собирался провести зиму. В другом письме без даты (но написанном летом этого, 1878 года) Поль обращается к Золя с рядом новых просьб, хотя на этот раз не для себя:
«Дорогой Эмиль,
Ортанс была в Эксе и видела там Ашиля Ампрера. Его семья в самом тяжелом положении, трое детей, зима (на носу), нет денег и т. д., ты сам понимаешь. Я прошу тебя:
1) Брат Ашиля в плохих отношениях со своим бывшим начальством в табачном управлении. Поэтому, пожалуйста, возьми обратно бумаги, касающиеся просьбы, если только ничего нельзя для него получить в скором времени.
2) Подумай, не смог бы ты устроить его или помочь ему устроиться на какое-нибудь место, например в доках.
3) Ашиль также просит тебя о какой-нибудь работе, все равно какой. Постарайся что-нибудь сделать для него, ты ведь знаешь, что он заслуживает этого, знаешь, какой он хороший человек и что ему приходится переносить пренебрежение всех успевающих. Вот так-то».
Нам неизвестно, что из этого вышло, но можно твердо сказать, что Золя сделал все, что он мог. Он много занимался своим новым домом в Медане, построенным в свое время для официанта из кафе «Америкэн». 9 августа Золя писал Флоберу: «Я купил дом, сущий крольчатник, между Пуасси и Триелем, в очаровательном захолустье, на берегу Сены, за девять тысяч франков — сообщаю Вам цену, дабы Вы не заблуждались насчет солидности покупки. Литература оплатила этот скромный сельский приют, достоинство коего состоит в том, что он расположен далеко от любой станции и что по соседству нет ни одного горожанина». Золя вскоре пристроил к дому два больших крыла; в правом разместился его рабочий кабинет, огромный и двухэтажный. Писатель всегда страдал от большого наплыва гостей и вследствие этого по восемь месяцев в году жил в деревне. Эта деревня насчитывала около двухсот жителей, чьи дома гнездились под сенью деревьев на берегу Сены. В кабинете располагался огромный письменный стол, кресло в стиле Людовика XIII, монументальный камин с вырезанным золотыми буквами девизом «Nulla dies sine linia» (Ни дня без строчки. — Латин.). Мопассан писал, что этот дом был претенциозно загроможден мебелью и старинными коврами, а освещался он церковными светильниками с тысячами безвкусных безделушек. Рабочая комната Золя, продолжает Мопассан, «была переполнена коврами, загромождена мебелью всех времен и народов, средневековым оружием, как настоящим, так и поддельным. Все это соседствовало с любопытными японскими вещицами и с изящными безделушками XVIII века». Все стили были напрочь перемешаны — турецкий и готический, японский и венецианский; в алькове находилась ширма с распятием, на потолке — ангел из слоновой кости. Прекрасный фарфор соседствовал с безобразными горшками. Когда Поль увидел все это, он, конечно, улыбнулся и пожал плечами, не в его характере было смеяться и злословить, пока он считал Золя своим другом.
В начале августа в руки Луи-Огюста попало еще одно, третье, компрометирующее письмо. Отец Ортанс написал ей письмо, адресовав его «мадам Сезанн» в Париж, а домохозяин переслал его в Экс, где Луи-Огюст поспешил вскрыть конверт. «Ты представляешь себе, что последовало, — писал Поль Золя 14 сентября. — Я яростно отрицал все, и, так как, по счастью, в письме нет имени Ортанс, я мог утверждать, что оно послано какой-то неизвестной женщине». Как Поль надеялся убедить отца такими нелепыми аргументами, представить трудно. Он писал, что справляется с разными неприятностями благодаря доброте и поддержке Золя. Далее он с юмором заметил, что дружба с Золя подняла его авторитет в глазах некоего Юо, архитектора. В пьесах Золя, особенно «Наследниках Рабурдена», Поль нашел «нечто мольеровское». «Пелуз вернулся из Парижа; там все не ладится. Поклонись от меня Алексису и скажи ему, что и коммерческие предприятия, и репутация художников основываются только на работе».
К письму Поль сделал приписку: «Нота бене. В этом месяце Папа выдал мне 300 франков. Это непостижимо. Мне кажется, что он ухаживает за нашей маленькой очаровательной служанкой в Эксе, пока мама и я в Эстаке. Этим все объясняется». Возможно, Луи-Огюст наконец понял ошибочность своей линии, а может быть, Поль его просто измотал своим запирательством. В любом случае комментарий Поля проливает любопытный свет на характер отца; ни он, ни его мать не видели ничего необычного в любовных увлечениях восьмидесятилетнего старца.
Через десять дней Поль сообщал, что остался один в Эстаке. Мать его уехала восемь дней назад на сбор винограда, варку варенья и подготовку к переезду на зиму в Экс. Поль ездил ночевать в Марсель и возвращался в Эс-так утром. Так он собирался провести всю зиму. Письмо от Золя пришло в тот самый момент, когда он «готовил суп из вермишели с оливковым маслом», любимое блюдо Лантье в «Западне». В этом письме Поль снова обсуждает пьесы Золя, пишет о «Наследниках Рабурдена», в которых есть не только мольеровское начало, но и нечто от Реньяра. В пьесе он особо отмечает «ее силу, правдоподобие характеров и умелое построение». Кроме того, Поль сообщает, что видел Мариона, ставшего уже в возрасте тридцати двух лет профессором геологии. Встреча произошла на лестнице, и Поль колебался, подойти ли к нему. «Вероятно, он неискренен в искусстве, может быть, не сознавая этого». Этому предшествует пассаж о Марселе: «Марсель — столица растительного масла, так же как Париж — сливочного. Ты не представляешь себе самодовольства свирепых жителей этого города. У них одно на уме: деньги. Говорят, они много зарабатывают, зато они очень некрасивы. Характерные черты этого типа сглаживаются под влиянием переездов, развития путей сообщения, и через несколько сотен лет будет совершенно неинтересно жить, все будет одинаковым. Но те немногие различия, что еще остались, радуют глаз и сердце».
Хотя Поль нечасто говорил о своих социальных убеждениях, должно быть, он думал с осуждением об окружающем. Общение с Золя и Писсарро, не говоря уже о Танги и Гаше, помогло ему выработать его зрелые взгляды.
Четвертого ноября он написал Золя, чтобы сказать, что Ортанс одна находится в Париже. Он просил друга одолжить ей сто франков. Почему жена решила покинуть его в этой сложной обстановке, при постоянной нехватке денег, остается неясным. «Я в трудном положении, но надеюсь выпутаться». «Если будешь писать мне, — продолжает Поль, — черкни пару слов об искусстве. Я все еще собираюсь поехать на несколько месяцев в Париж, в феврале или марте».
Через неделю Поль написал Кайботту соболезнование по поводу смерти его матери: «Хотя я не знал Вашу матушку, но знаю очень хорошо тяжелое чувство пустоты, которое оставляет смерть любимых нами людей». О каком собственном опыте он писал, нам неизвестно.
Двадцатого ноября Поль благодарил Золя за присылку ста франков Ортанс. «Малыш со мной в Эстаке, погода последние дни ужасная». Лишенный возможности работать, Поль читал «Историю живописи в Италии» Стендаля, «полную тонких наблюдений, остроумие которых даже не всегда до меня доходит, я это чувствую, но зато сколько сведений и подлинных фактов! А те, кто хотят выглядеть комильфо, называют автора парадоксальным». Поль впервые читал эту книгу в 1869 году, но недостаточно внимательно, теперь он обратился к ней в третий раз. Также Поль читал иллюстрированную «Западню». «Хорошие иллюстрации, несомненно, не так уж нужны издателю. При встрече я спрошу тебя, согласен ли ты со мной, что живопись — это средство для выражения своего ощущения». Термин «ощущение» применительно к живописи не является чем-то новым, хотя Сезанн придавал ему особую полноту и отточенность. В этом письме впервые он упоминает об ощущении, следует полагать, что эта идея пришла к нему недавно. Иллюстрированная «Западня» напомнила ему о юношеской мечте иллюстрирования книг Золя. Вот почему он делает печальную ремарку о том, что хорошие рисунки менее полезны для привлечения большой аудитории, чем посредственные. Это попутное упоминание плохого искусства позволило ему тут же выразить новую идею о том, что именно образует настоящее искусство.
Девятнадцатого декабря в следующем письме Поль сообщал, что он еще в Эстаке, хотя Ортанс уже четыре дня, как вернулась из Парижа и поселилась в Марселе на улице Ферриер. Ее приезд сильно облегчил Сезанну жизнь, так как ребенок все время был на нем и на его матери, к тому же «каждую минуту мог нагрянуть отец». «Все как будто сговорились открыть ему глаза на мое положение, даже мой олух хозяин вмешивается в это дело. Прошло больше месяца, как Ортанс получила деньги, которые я просил тебя послать ей, я тебе очень благодарен, они ей были весьма нужны. У нее было небольшое приключение в Париже. Я не хочу писать об этом, а расскажу, когда увидимся, и вообще это пустяки. Я собираюсь остаться еще несколько месяцев здесь и поехать в Париж в начале марта. Я надеялся, что здесь мне будет совсем спокойно, но все время волнуюсь из-за неладов с отцом. Виновник моих дней обуреваем мыслью освободиться от меня. Для этого есть простое средство: дать мне на две или три тысячи франков больше в год, а не откладывать передачу мне наследства до своей смерти, потому что я наверняка умру раньше него.
Ты прав, говоря, что здесь есть очень красивые виды. Но писать виды не мое дело. Я начал понимать природу немного поздно, но все равно она полна для меня интереса».
Как видно, Поль все еще не думает о себе как о преимущественно пейзажисте. Это может означать только то, что он по-прежнему хотел писать композиции с фигурами. В следующий вторник, добавляет Поль в этом письме, он собирается отправиться в Экс на пару дней и умоляет по-прежнему писать ему в Эстак.
К концу года отец прекратил попытки вывести наружу очевидное вранье сына. Отнюдь не дурак, он знал, что жена его посвящена в тайну и что она поддерживает Поля. Этот факт мог помочь ему примириться с тем обстоятельством, что такой рохля, как его сын, стал жертвой низкой женщины, не гнушающейся в средствах. То, что заставляло Поля так упорно отрицать факты, было связано еще и с тем, как мы уже указывали, что Луи-Огюст после того, как отошел от дел, разделил свое состояние между тремя детьми. Но в таком случае довольно странно выглядит то, что Поль никогда не упоминал об этом. Возможно, он опасался того, что если бы он написал Золя о своих наследственных правах, то тот бы настаивал на борьбе за них, что для Поля было абсолютно невозможно.
К этому году, на который пришлись особые переживания Поля можно отнести его последнюю версию «Искушения св. Антония». В ней нет ни искусительницы, ни ее хозяина. Рядом со своей хижиной, расположенной в пустынном пейзаже, изображен отшельник с распятием. Флобер в работе над текстом двигался в сходном направлении, устраняя чувственный аспект и всякого рода излишества. Интересно, что Моне как-то сравнил их и назвал Сезанна «Флобером в живописи, тяжелым, крепким и усердным, склонным к ограниченности гения, сражающегося за то, чтобы схватить собственную сущность». Вообразив себя в образе отшельника, принужденного выполнять тяжкую монотонную работу в своей пустыне, Поль оставил эту тему. Его отношение к жизни выражалось в дальнейшем «Купальщицами» и «Купальщиками» — пасторалью земного рая, где телесное освобождение и союз с природой разрешают все конфликты и затруднения. Показательно, что один из рисунков обнаженной натурщицы в позе царицы Савской (с характерным жестом правой руки) удивительно похож на изображение купальщицы, сидящей под деревом. Неясно, то ли эскиз царицы Савской был задуман для «Искушения», то ли эта героиня преобразилась потом в беззаботную купальщицу.
Видимо, в этом, 1878 году Поль представил в письме к Мариусу Ру своего друга Кабанера. Себя при этом он подает очень скромно. «Хотя мы не очень ревностно поддерживаем наши дружеские отношения и я не очень часто стучусь в дверь твоего гостеприимного дома, сегодня я без стеснения обращаюсь к тебе с просьбой. Надеюсь, ты сможешь отделить во мне человека от художника-импрессиониста и вспомнишь меня просто как товарища. И я тоже обращаюсь не к автору «Жертвы и тени», а к жителю Экса, с которым я родился под одним небом, и беру на себя смелость рекомендовать тебе своего друга и выдающегося музыканта Кабанера». Далее Поль упомянул солнце Салона, которое когда-нибудь должно взойти для него. Он называет себя импрессионистом; этот факт, а также то, что ранее, в этом же году, он собирался принимать участие в выставке с новыми художниками, показывает, что вовсе не плохой прием, оказанный ему в 1877 году, заставил его отказаться от участия в выставках 1879-го и последующих годов.
Возможно, в этом году Поль познакомился в Марселе с живописцем Адольфом Монтичелли, который в 1870 году вернулся из Парижа на постоянное местожительство на юг. Чтобы попасть к нему домой, надо было обогнуть церковь Реформ, подняться по склону, а затем по лестнице старого дома в довольно грязную мансарду. Монтичелли, возрастом лет на пятнадцать старше Поля, был все еще представительным мужчиной, с ярко-рыжей бородой и величественной осанкой, которой не могли помешать даже короткие ноги. Некогда он был франтом, потом сделался небрежен в одежде, но, будучи бедняком, мечтал о блистательной элегантности, воплощенной для него в венецианской пышности и галантности Ватто, в тенистых садах, где, подобно сверкающим драгоценностям, в пышных складках золотой парчи мелькали очаровательные женщины. Поклонник оперы и цыганских оркестров, он любил слушать музыку; с музыкальных вечеров он спешил домой, где зажигал все свечи и старался схватить мечту, пока кисть не выпадала у него из рук. Не заботясь о признании, он продавал картины, лишь чтобы снискать прожиточный минимум, и не обращал внимания на критиков, приуменьшавших или искажавших его искусство. Торговаться он терпеть не мог. И Монтичелли, и Поль сошлись в любви к Делакруа и любили вместе предаваться насмешкам над потешавшимся над ними миром. Временами они гуляли в окрестностях Марселя; однажды с заплечными мешками они провели целый месяц среди холмов близ города. Поль при этом любил декламировать Вергилия, о чем он позже рассказывал Гаске. Монтичелли считался еще знатоком приготовления красок, ему приписывались «особые секреты растирания».
Двадцать восьмого января Поль был все еще в Эстаке, этим числом датируется его письмо Шоке. Он спрашивал, как отвергнутые художники, живущие в провинции, могут получить обратно из Салона свои картины, и добавлял, что если Шоке не знает, то пусть спросит у Танги. Сам он собирался прибыть в Париж «со своим маленьким караваном» в начале марта, поэтому информация о Салоне нужна была не ему самому, а некоему «земляку», возможно, Монтичелли. Поскольку Шоке знал об Ортанс, в конце Поль приписал: «Моя жена и малыш шлют Вам привет». 7 февраля Поль благодарил Шоке за доставленную информацию. «Я думаю, что мой приятель будет вполне удовлетворен печатной безапелляционной формой, в которую высшая администрация облекает ответ своим подданным». Кроме того, Поль выражал радость по поводу успехов Ренуара и писал далее о делах семейственных: «Моя жена, которая занимается нашим ежедневным питанием и знакома с заботами и хлопотами этого дела, сочувствует трудностям мадам Шоке и передает ей, так же как и Ваш покорный слуга, поклон. Что касается малыша, то он совершенно невозможен во всех отношениях и, очевидно, доставит нам много хлопот в будущем».
В том же месяце Поль написал Золя, поздравив его с успехом инсценировки «Западни». Через две недели он собирался уехать из Эстака в Экс, а потом в Париж. 1 апреля Поль был уже в Париже. В письме Писсарро он сообщает о своем отказе принимать участие в выставке импрессионистов. «Я думаю, что ввиду трудностей, связанных с посылкой моих картин в Салон, мне не стоит принимать участия в выставке импрессионистов. Таким образом, я буду избавлен от хлопот по доставке нескольких моих полотен. К тому же я уезжаю из Парижа через несколько дней». По-прежнему Сезанн ставил все свои надежды на Салон, он даже обдумывал намерение проникнуть туда с заднего входа, как мы увидим далее.
Третьего июня Поль написал Золя из Мелена, собираясь навестить друга в его доме в Медане. Он заезжал к Золя 10 мая по его парижскому адресу на улицу Булонь, но не застал, так как Золя уже несколько дней, как уехал в деревню. Кроме того, в Париже Поль нанес «небескорыстный визит» Гийме, который сказал, что заступался за Сезанна перед жюри, но тщетно. (В этом году Поль был не единственным из бунтарей, который питал надежды выставиться в официальном месте. Ренуар и Сислей также решили пренебречь очередной выставкой импрессионистов, четвертой по счету, готовившейся на проспекте Оперы, и сосредоточили свои усилия на Салоне.) В том же письме Поль писал, что следит за работой Золя по «Пти журналь» и «Лантерн», и благодарил друга за присылку брошюры «Республика и искусство». Кабанер говорил ему о положении дел то же самое, но порой в еще более мрачном тоне.
Между 10 и 23 июня Поль побывал у Золя в Медане. 23-го он писал снова из Мелена. «Я благополучно добрался до станции Триэль, и моя рука, которой я махал из окна вагона, проезжая мимо твоего дома, должна была засвидетельствовать, что я не опоздал на поезд. Во время моего отсутствия пришла твоя книга «Что я ненавижу», а сегодня купил номер «Вольтер» с твоей статьей о Валлесе, прочел ее, и, по-моему, она великолепна. Книга о Жаке Вентра вызвала у меня большую симпатию к ее автору, Я надеюсь, что он будет доволен статьей».
Это письмо довольно важно; оно показывает политическую позицию Поля в эти годы. Жюль Валлес (1832–1885) был стойким революционером. Сын профессора, он родился в Лe Пюи и явился в Париж в 1849 году. Вместо того чтобы продолжить обучение в школе, он увлекся политикой и журналистикой. Валлес участвовал в заговоре против принца-президента, сидел в тюрьме, потом снова занимался литературным трудом и опубликовал в 1857 году свою первую книгу, «Деньги», направленную против финансиста Мире. Серия статей «Воскресенье бедного молодого человека», напечатанная в «Фигаро» в 1861 году, принесла ему славу. В 1866-м он написал «Непокорных». В качестве журналиста из «Эвенман» он стал известен Золя. В 1867 году он опубликовал «Путь» и основал еженедельник с таким же названием. После первых поражений в 1870 году правительство упрятало его в тюрьму Мазэ. Освобожденный в сентябре, он основал «Кри дю пёпль». Валлес до последнего сражался на стороне Коммуны, членом которой он состоял. Он избежал смерти, лишь перебравшись в Англию, где вынужден был жить до 1879 года. После амнистии Валлес вернулся в 1883 году и вновь открыл «Кри». Его главной работой стали три автобиографических романа, в деталях повествующих о рождении и становлении революционера. Эта работа привлекла внимание Сезанна и снискала его глубокие симпатии. Золя неоднократно хвалил в печати произведения Валлеса. Сейчас, в 1879 году, он с большим одобрением отозвался о «Жаке Вентра». «Я хочу, чтобы эту книгу читали. Если бы я обладал какой-нибудь властью, я приказал бы читать эту книгу. Работы такой силы встречаются нечасто, и когда такая появляется, ее место — в руках у каждого». В то же время Золя высказывал сожаление, что политика отнимала много времени у автора, мешая ему всецело отдаться литературе. Это же сожаление он повторил в «Фигаро» 30 мая 1881 года. Валлес ответил на это двумя статьями в «Ревейль» (24 июля и 1 августа 1882 года); он утверждал, что Флобер, Гонкуры, Золя, даже Дюма-сын были социалистами, хотя сами и не догадывались об этом. К этому мнению его подтолкнул тот факт, что все эти писатели рисовали картины народного обнищания и буржуазного разложения, то есть то, о чем заявляли и социалисты. Когда Алексис попытался ответить на это, Валлес разразился речью: «Человек, который утверждает, что у него нет политических взглядов, все равно исповедует их. Он присоединяется к тем, кто держит кнут и кто попирает пятою горло матери-родины. Это его безразличие поддерживает угнетателей бедняков и палачей мысли». Таков был человек, по поводу которого Поль высказывал столь полную симпатию и восхищение. Под влиянием Писсарро он в это время стал даже еще более радикальным, чем Золя. Впрочем, Золя был под глубоким впечатлением событий 1882 года, которые потом привели его к «Жерминалю» и впоследствии к социализму, правда, утопического, фурьеристского толка.
«Жак Вентра» состоит из трех частей: «Дитя», «Бакалавр» и «Мятежник». Поскольку никаким другим литературным произведениям Поль не выражал таких сильных симпатий и восторгов, следует обратиться к идее и методу этой книги. В ней описано рождение и становление революционера, вышедшего из средних слоев, получившего типичное для его круга воспитание и образование и пришедшего в итоге к полной поддержке Коммуны. Но история описывается без всяческих поучений и назиданий — так, будто путь Вентра был единственно возможным путем логического мышления и действия нормального и человечного человека. Прямота метода, которым описан моральный и эмоциональный рост повстанца против целой буржуазной системы, воплощена в сдержанном стиле с упором на действие. Короткие эпизоды следуют в книге один за другим, без всяких условных переходов, объяснений или связок. Эффект достигается исключительно благодаря расположению быстро развивающихся и контрастных моментов. Работа, таким образом, в высшей степени оригинальна и открывает новые уровни в романной технике; эта система не появится больше вплоть до возникновения кинематографической поэтики литературы много десятилетий спустя. Валлес прибегнул к этой системе потому, что хотел схватить настоящее движение жизни, несвязанное и вместе с тем обладающее своими собственными законами структуры, монтажа и ритма. Приведем два полных эпизода так, как они следуют друг за другом. В них описывается радостный день демонстрации, и затем:
«Стой!»
Дорогу перекрывали войска.
Рошфор выступил вперед:
«Я депутат и имею право пройти».
«Проходить не разрешается».
Я оглянулся. На всем протяжении улицы колонны смешались и беспорядочно расходились. Становилось поздно, мы устали, мы пели.
День закончился.
Маленький старик трусил около меня, он был один, совсем один, но я видел, что за ним следили глазами в группе людей, среди которых я узнал друзей Бланки.
Это был он, тот человек, кто находился весь день на краю укреплений, обходя их, словно края кратера вулкана, всматриваясь, не полыхнет ли где-нибудь над толпою пламя, которое окажется первой вспышкой красного знамени.
Этот одинокий старичок был Бланки».
Итак, во-первых, в приведенном эпизоде запечатлена драматическая сцена, в которой две силы, народ и государство, столкнулись вместе и последняя из них одерживает триумф. Затем внимание переключается на одинокую фигуру старого революционера, который выглядит несколько отрешенно, но который воплощает идею, способную воспламенить людей и вывести их в один прекрасный день на улицу. Этот контраст сильно и остро выражен в другом эпизоде:
«Я разместился на лагерных нарах между нищим на культяпках, который прикладывал травы к своим язвам, и парнем с выразительным, но потухшим взглядом, который, увидев, что я устроился чуть лучше, сел передо мной на корточки и обратился ко мне слабым голосом, дыхание его прерывалось, и зубы лязгали:
«Я скульптор. Я не мог мять свою глину. Мне нечем было кормить кошку, я вышел купить свечей. Меня окружили вместе с республиканцами».
У него пресеклось дыхание.
«А вы?» — болезненно спросил он наконец.
«Я не собирался покупать свечей. У меня нет кошки. У меня есть убеждения».
Следующий отрывок показывает метод описательной характеристики Валлеса:
«Наконец утомительная процедура была закончена, кончился период выборной работы. Я стал свободен.
Если спуститься отсюда по дороге на Шовиль, будет маленькая ферма, где я проводил спокойные и счастливые дни, наблюдая за молотьбой пшеницы или любуясь на уток в пруду, попивая белое вино в тени развесистого дуба или валяясь в скошенной траве возле яблонь в цвету.
Я жаждал тишины и покоя. Я бежал в поля, позабыв о выборах в парижских районах, я зарывался в сено, слушал лягушек, кричавших в зеленых тростниках, а вечерами засыпал на жесткой порыжевшей холстине, вроде той, на которой некогда мои деревенские родственники укладывали меня.
В деревню!
О, мне бы сделаться скорее крестьянином, чем политиком, и уметь хвататься за вилы вместе с другими Жаками в годину смертей, в стужу бедствий!»
Вот такой была книга, в мир которой Поль погрузился с полной симпатией. Непосредственное описание не заставляло его бояться, что его «зацапает» (grappins) автор-пропагандист. Естественная приязнь Сезанна к свободомыслящему человеку, который шел до конца в своем неприятии буржуазного мира, могла, таким образом, проявляться без всяких помех. У Валлеса было трудное детство, хотя его родители иначе относились к нему, чем Луи-Огюст к Полю. «Моя мать говаривала, что детей нельзя баловать, она порола меня по утрам, а если у нее не было времени по утрам, то в полдень, если же не в полдень, то не позже четырех пополудни я все равно бывал выпорот». Горький сдержанный тон должен был также импонировать Полю, который, хотя и с другой стороны, мог узнать себя в картине детского ада, нарисованной Валлесом. Насмешливый или мрачный стоицизм Валлеса, его способность подходить к вещам как они есть, страдать, но не склоняться, не волноваться ни по какому поводу — все это было диаметрально противоположно характеру Поля и именно поэтому должно. было ему сильно нравиться. Он бы тоже хотел идти по жизни подобным путем, но не умел этого. Валлес был мятежником, простым и непосредственным по духу, он немедленно реагировал на всякую несправедливость, насилие или эксплуатацию, но не принадлежал ни к одной из политических партий, не имел никакой революционной системы.
«Рефрактор» пробуждал всех отверженных, всех парий Парижа, вдохновлял и художников, и журналистов, всех созидателей химер и перебивавшихся случайными заработками на ярмарках.
«Лишения без знамени приводят человека к лишениям под знаменем, а из разрозненных недовольных образуется армия».
Хотя историки литературы полностью игнорировали этот факт, но влияние Валлеса сказывалось на многих, не только на Золя и Сезанне. Его испытали также Жан Ришпен, Леон Кладель, Леон Блуа, Северин, Гюйсманс, Жеффруа, Деффу, Мирбо, Жюль Ренар, молодой Морис Баррес и другие.
В заключение этой темы следует упомянуть эпизод из «Детства», который напоминает приключившийся с Полем инцидент с лестницей, вызвавший его боязнь прикосновений. У Жана была собака, которая умерла; он решил похоронить ее. «Я вынужден был пройти с корзиной мимо матери, которая захихикала, отец же так толкнул меня, что я кубарем скатился с лестницы». Отец Жана вышел из дома и выбросил собаку из корзины на кучу отбросов. «Я услышал, как тело с мягким хлюпом упало, и убежал, крича, что так нельзя хоронить собаку». Долгое время герой представлял себе труп несчастной суки, «гильотинированный и с содранной кожей и лишенный маленького клочка земли». Можно вспомнить к случаю восхищение Сезанна «Падалью» Бодлера, с ее образами смердящего трупа, с отверстым чревом, вместилищем червей. Страх падения (сначала с лестницы, потом в отбросы) наглядно проявился в этом отрывке из «Детства», и если мы проследим, как боязнь Поля упасть с лестницы переросла в страх прикосновений, особенно к женщинам, то увидим странный комплекс образов и чувств, который, для Поля, для Бодлера и в меньшей степени для Валлеса, воплощал представление о смерти, о гниющей плоти, нечистотах и коитусе. (Глубокая связь денег и фекалий в бессознательном хорошо известна.)
Поль писал письма из Мелена в сентябре, октябре и декабре. Три письма к Золя написаны по поводу пьесы последнего «Западня». На этот спектакль Поль просил у автора три билета. Как обычно, Поль конфузится, спрашивает, будет ли это удобно, и боится, что трудно будет «согласовать время, когда я буду в Париже, с получением билетов», «тебе многие докучают подобными просьбами» и т. д. В следующем письме он пишет: «Я был на «Западне» и очень доволен. У меня было прекрасное место, и я совсем забыл про сон, хотя обычно ложусь уже в девятом часу. Я смотрел не отрываясь, и актеры показались мне такими поразительными, что, осмелюсь сказать, они могут создать успех даже плохой пьесе. Имея таких актеров, можно даже не заботиться о литературной форме».
На театральном занавесе было начертано объявление о скорой премьере «Нана».
Про себя Поль написал, что он по-прежнему старается «найти свою дорогу в живописи. Природа представляет для меня большие трудности. Но сам я себя чувствую неплохо после бронхита, которым не болел с 77-го года и который сейчас меня трепал целый месяц». В конце письма Поль заметил, что его отец недавно потерял своего компаньона, но сам он и матушка здоровы.
Зима конца 1879 года была суровой — выпало много снега и стоял крепкий мороз. В письме от 18 декабря Поль обсуждает холода и жалуется, что не может достать топливо. «Вероятно, в субботу, — писал он, — у меня кончится весь уголь, и мне придется спасаться в Париж». Воспоминание о холодах осталось в картине «Тающий снег», написанной около Мелена. Сезанн редко писал снег, но в том году снежный покров сохранялся столь долго, что он все же решил запечатлеть его. Впрочем, возможно, Поль использовал фотографии.
По всей видимости, именно в течение семидесятых годов развивалась фобия прикосновений у Сезанна. Относительно поздних лет эта особенность хорошо документирована, но уже достаточно рано детей Писсарро предупреждали не задевать дядю Поля. В искусстве Сезанна можно найти внутреннее свидетельство, что фобия прикосновений дошла до явственно выраженного уровня около 1875 года. В этом отношении особую важность имеют рисунки с одиноким купальщиком в характерной позе. Поза эта также появляется в двух полотнах Сезанна, близкие жесты есть во многих других его композициях, начиная со столь ранней, как «Весна» из «Времен года» (здесь это просто жест непринужденного изящества, который позднее перерастет в жестикуляцию женщины, предлагающей себя).
В случае с мужчиной — купальщиком — мы имеем дело с жестом одной поднятой руки, в то время как другая опущена книзу. Обе руки вместе образуют своего рода диагональ. Голова повернута в сторону от поднятой руки, а нижняя рука находится примерно на уровне причинного места. Линия обеих рук обладает неким напряжением, знаменуя внутренний конфликт в теле. Серии рисунков с подобной композицией датируются десятилетием между 1875 и 1885 годами. Источником для мужской фигуры в такой позе была картина Милле «Конец рабочего дня», где крестьянин натягивает на себя куртку, поднимая руку вверх. Картина эта была переведена в гравюру и в таком виде опубликована в 1860 году. Ван Гог также знал эту вещь и точно так же был очарован ею, но его повторение не содержало привнесения нового смысла и нового напряжения. Между 1875 и 1877 годами Поль дважды нарисовал крестьянина, просовывающего руку в рукав; рука в этих рисунках не поднималась, а голова не отклонялась в сторону. Что примечательно, он полностью был заинтересован исключительно самой фигурой человека и его борьбой с одеждой, которая могла быть как одеванием, так и раздеванием. Следы работы или виды поля в этой сцене были полностью опущены. Пейзаж был обозначен лишь грядой холмов и склоненным деревом. В рисунке с купальщиком мы видим, как Поль использовал эту композицию для передачи сцены раздевания в пейзаже.
Нельзя сказать, что именно Милле познакомил Поля с данным мотивом, но его полотно подтолкнуло Сезанна и подвигло его на длинную серию с вариациями. Два рисунка 1873–1875 годов изображают героя в этой позе, но без всяких следов одевания или раздевания. Актер яростно жестикулирует воздетыми и скрещенными руками, а мальчик совершает такие же дикие движения в припадке страха, когда видит вокруг себя собравшихся крыс. Такой жест связывался в сознании Сезанна с крайним возбуждением, с приглашением или ужасом. (Возможно, здесь присутствовали воспоминания о «Чуме в Асдоде» Пуссена, которая поможет нам осознать, насколько образы болезней, заражения, кастрации, смерти были значимы для Поля. Следует вспомнить и о его юношеских стихах с описанием ночных кошмаров.) Ранние картины со схожей композицией имеют фигуры, в которых руки и верхняя часть тела напряжены, а лицо динамически повернуто в сторону. Напряжение сконцентрировано в области шеи, словно голова стремится оторваться от тела и устраниться от бунтующей энергии тела. Весь образ изображает крайнее рассогласование импульсов, особенно несоответствие друг другу церебрального и сексуального элементов личности. Поль сделал множество набросков головы с плечами, понимая, что именно в этой части кроется средоточие его конфликтов. Важно отметить также, что серия рисунков начинается с изображения обнаженного мужчины. Затем Поль все более покрывает фигуру, начиная с набедренной повязки и распространяя одежды в последующих рисунках на все тело. В рисунках иногда эмоциональное напряжение заключено в удлиненных пальцах опущенной руки, которые отстраняются, борясь с искушением, от гениталий, но еще более выразительно и сильно напряжение выражается в поднятой руке. Ее Поль очерчивал по многу раз, повторяя контур вновь и вновь, придавая ей силу и динамику, словно она стремилась оторваться от низменной сферы своего тела, но этот отрыв оборачивался само-поражением, и вся энергия руки оказывалась изломанной и бесполезной. Подобную руку Сезанн дважды повторял в рисунках. Эта рука, воплощая рассудочный бунт и бегство, нарисована без всякой связи с анатомическими пропорциями и правилами изображения всего тела. Драма всей серии, таким образом, заключена в конфликте между частями одной диагонали — внизу, в болезненном и запутанном колебании между рукой и гениталиями, и вверху, яростном стремлении руки под воздействием склоняющейся к ней головы оторваться вверх.
Внутреннее развитие Сезанна, таким образом, можно суммировать словами Реффа: «Около 1878 года он сумел обратить патетически беспомощную фигуру в образ энергичного действия, что соответствовало его внутренней борьбе. Это возрастание внутреннего напряжения затронуло даже пейзаж… По прошествии пяти лет или несколько раньше Сезанн стал менять интенсивность этого выражения путем повышения роли пространственности и применяя традиционную позу релаксации — сначала в несколько утрированной пропорции, потом в более спокойном и конструктивно оправданном виде. Здесь он достиг наконец чистой и ясной, законченной формы — и не потому, что, как утверждает Вентури, «чисто формальный «мотив» вытеснил более ранний «предмет», а потому, что сама объективность явилась результатом прогрессирующего очищения, в котором изначальное значение почти полностью замаскировано».
Несомненно, что в этих рисунках нам открывается очень важнее личное признание, которое не может не связываться с неполадками, если не просто крахом, телесных сторон его контакта с Ортанс. В соответствии с тем, что нам известно о характере Сезанна, это крушение началось в период, когда родился ребенок. Для столь пугливого и неуверенного в себе человека, как Поль, проблемавозобновления отношений подобных тем, какие он имел с женщинами до 1872 года, стояла очень остро. К этому нужно еще добавить страх ответственности за семью и необходимость денежно обеспечить ее. В такой ситуации супружеские отношения с Ортанс должны были увянуть и сойти на нет; Поль оказался предоставлен самому себе, его состояние стало еще более неуверенным, чем до женитьбы. У него остались воспоминания о периоде более или менее легких отношений с женщиной, при невозможности повторять их. Как писал Рефф, в отдельных рисунках можно почти безошибочно проследить следы одиноких перверсий.
Около 1878 года внутреннее самосознание Сезанна улучшилось. Беспомощная капитуляция перед дисгармонией жизни уступила место сдержанности. Следствием противоборства со своими болезненными проблемами явилось чувство обновленной связи с миром природы. Напряжение больше не концентрировалось исключительно в изогнутых и стесненных телах, что выражало в системе Сезанна безнадежный антагонизм ума и тела, мысли и импульса. Напряжения равномерно растеклись и одухотворили пейзаж. Человек в конце концов является частью природы, со всеми своими скорбями^ затруднениями, с жизнью и смертью. Он вовлечен как часть целого в общий узор холмов, деревьев и облаков; это открытие облегчало остроту его личных жгучих проблем. Тело начало находить в себе внутреннюю согласованность, Поль ожил; отсюда своеобразная двусмысленность его пространства и атмосферы — они очеловечены, тогда как человек оприроден.
Важность этого анализа отнюдь не заключена лишь в том, что он обнажает условия физического существования Поля, его страдания и подавленность своей изоляцией. Этот анализ дает нам также личностный аспект его продвижения в искусстве. Как писал Рефф, «в своем постепенном развитии к монументальной форме, четкой и ясной конструкции без преувеличенно выраженной экспрессии сохранившиеся варианты «Купальщика» с раскинутыми руками типичны для искусства Сезанна периода около 1880 года. Этот процесс наблюдается не во всех предметах изображения, он затрагивает лишь образы каких-то особых действий, вроде этого мотива «Купальщика», который дает возможность проникнуть в тайные переживания; здесь радикальные стилистические изменения сопровождаются столь же глубокими переменами в концепции фигуры, а это в свою очередь отражает изменение в отношении художника к своему телу, к его импульсам и средствам их выражения. Конечно, давно уже было замечено, что этот необычайный рост «покоится на принудительном подавлении части своей натуры, что и прорывается время от времени» (Шапиро), но до этого не было возможности связать подобные проявления с какой-либо специфической темой в его собственной жизни-фантазии».
Таким образом, мы еще раз можем связать то, что было собственной темой Сезанна, с тем, что происходило в то время в мире искусства. В качестве одного из проявлений мятежа против академических ню, писавшихся в классическом окружении, но никогда на море или в обычном пейзаже, можно привести различные способы придания естественности сценам женской наготы. Женщина могла купаться в реке или пруду — как, например, в работах Делакруа, Курбе, Милле и, позднее, у Моне или Ренуара. Перенеся сцены с обнаженными из мастерских в реальное окружение, художники столкнулись с новыми проблемами — с нарциссизмом, с осознанием собственного тела и его потаенной жизни, с проблемой его контактов с внешними предметами и другими людьми. С одной стороны, эти проблемы были связаны с идеей вольного бродяжничества, со свободой от запретов и уз общества и вольной жизнью на лоне природы. Эту самую идею Сезанн и Золя в юности чувствовали едва ли не осуществленной, бродя по холмам вокруг Экса и безмятежно купаясь. Но, с другой стороны, эта идея имела сильно выраженные эротические аспекты. Тело освобождало себя от связывающей одежды и корсетов, навязанных обществом, и заново открывало свою сущность, свои дремлющие силы и возможности для новой свободы в наслаждениях. («Наши одежды искажают форму, — писал еще Дидро, — ноги стянуты подвязками, тела женщин затянуты в корсеты, наши ноги втиснуты в узкие тяжелые башмаки».) Сбросить все то, что мешает, было одним из способов возвращения к природе, к «натуре», в романтических и реалистических идеях сквозило восхищение обнаженным телом, расценивавшимся как носитель тайны свободы и проникновения в высшую реальность, сокрытую под ложными пеленами общества. В своем «Дневнике» Делакруа записал 5 апреля 1863 года по поводу «Купальщиков» Курбе: «Между двумя этими фигурами существует такой обмен мыслями, который невозможно представить». Купальщика могли использовать и для выражения глубинной свободы чувств в радостном союзе, и для выражения томительного одиночества тела, которое не находит подходящего друга. Поль использовал тему купальщиков в обоих этих аспектах; его борьба заключалась в движении от изоляции к реализации свободы и полных межличностных контактов.
Во многих ранних работах на тему купания основной упор сделан на неудачу попыток обрести свободу в наготе. В одной из них мужчина прижимает одну руку к телу, а другую, вытянутую, закинул за голову; создается впечатление, что он боится обеих своих рук. В другой картине сидящая обнаженная женщина плотно свела вместе ноги, а руки сплела за своей головой, будто с усилием сдерживает их. Несомненно, что в подобных работах нам приходится наблюдать довольно явно боязнь аутоэротизма.
Эти наши открытия имеют не только личностный аспект, их значение намного больше. Напряжение мучающегося тела, воюющего с самим собой, дает нам важный ключ к напряжению и взволнованности, которые искажают или просто модифицируют образы неодушевленного мира в картинах Сезанна подобно тому, как это происходит с телами мужчин и женщин. Он пытался выработать способ выразить родство людей и вещей, например, в серии рисунков, сделанных в 1880–1905 годах, в которых округлые сосуды уподобляются обнаженной натуре. Поль рисовал предмет в одном ряду с обнаженной фигурой. Например, изображение экзальтированного актера у него дополняется или уравновешивается изображением бокала вина той же высоты. Позади одного из ранних купальщиков нарисован стакан той же ширины. Рядом с другим расположился большой кувшин, а может быть, воронка. Над наброском с поднятой рукой, переданной экспрессивной серией грубых штрихов, Сезанн изобразил сахарницу с ручками и крышкой, чьи формы напоминают органические. (Любопытно, что в провансальской пословице горшок и крышка уподобляются мужчине и его жене: «Всякий горшок найдет свою покрышку» — «Chasque toupin trovo sa cabucello».) Особенно сильно Сезанна волновали соответствия сосудов или прочих пустых вместилищ человеческим формам. (Известно, что в одном из ранних эскизов к «Завтраку на траве» Сезанн использовал высокую круглую шляпу и воронку в качестве эмблем противоположных полов.) И по мере того, как его искусство делалось более зрелым, Поль переносил в образы природы то напряженное, мятущееся, противоречивое, что он ощущал в своем теле. И в предметах натюрмортов, и в более крупных объектах природы Поль находил отражение своего собственного внутреннего динамизма. Таким образом, то, как Сезанн определял все предметы и естественные формы, его «реализация», как он сам говорил, было связано с его внутренними переживаниями и страхами, с его потерями и обретениями. Эмоции всегда имеют свою органическую или физическую основу, настоящее произведение искусства всегда покоится на фундаменте эмоций. Начиная с 1875 года Поль решительно и со всей остротой обратился к своему внутреннему миру, он мог бы легко сломаться от внутреннего напряжения, и действительно, борьба за то, чтобы победить внутреннюю противоречивость и разнонаправленность, была чрезвычайно сильной. Постепенно Сезанн выбирался из нее, используя элементы, заимствованные у Делакруа, Курбе, Домье, Мане, Писсарро, Моне, для выражения своего собственного личностного видения.
Как все эти соображения конкретно выражались в пейзажах и фигурных композициях того времени? Мы уже видели — в двух вариантах «Битвы любви» (около 1877 года) Сезанн достиг наибольших успехов в изображении человеческих фигур в действии (борющиеся любовники) и во взаимодействии с пейзажем. В этих композициях было, пожалуй, наивысшее развитие линии Делакруа в его творчестве. После «Битвы…» он почти полностью оставил попытки изображения любовных объятий и посвятил себя изображению купальщиков — мужчин и женщин — по отдельности. Эта перемена второй половины семидесятых годов отражала также прекращение «ученичества» у Писсарро. Поль опасался превратиться в поверхностного подражателя манере импрессионистов и начал придавать больше значения массе и ритму объектов. С 1877 года его работы стали сильно отличаться от картин Писсарро.
Сущность поворота 1877 года заключалась в том, что передача атмосферы в духе импрессионистов уступила интенсивному локальному цвету. Цвет приобрел своего рода автономность, а форма словно бы стала служить ему и поэтому упростилась и стала более плоской. В натюрморте из Лувра холодный желтый цвет дрожит, стремясь выйти за контуры яблок и преобразовать их форму. Этот цвет порождает через полутона множество соответствий в порядке хроматической прогрессии, которая доходит почти до черного через серовато-синий и темно-синий оттенки. Картина является тщательно согласованной структурой красок, эта структура была сущностью открытий Сезанна в 1877 году. Луврский натюрморт был, пожалуй, одной из первых работ этого периода — в последующих картинах отдельные точечные мазки, характерные для импрессионистического метода, также больше не появлялись. Исполненный мастихином «Пруд в Они» послужил необходимой ступенью в этом процессе. В других картинах, написанных кистью, формы также моделированы с помощью угловатых мазков чистой краски, наложенной на упрощенные, схематизированные контуры.
Таким образом, 1877 год был тем временем, когда Поль решительно собрал воедино все свои цели и стремления и сумел достичь целостного личного стиля. Освобождение цвета, которому его научили импрессионисты, стало служить его собственным целям. Теперь он уже не нуждался в чьих-либо новых уроках или влиянии. Что-то он мог еще позаимствовать у Ренуара, но это не было уже сколько-нибудь существенным.
В 1878 году, который Сезанн провел на юге в непрестанных столкновениях с отцом, к его системе прибавилось новое достижение. Он начал работать параллельными мазками внутри каждой пространственной зоны; в течение пяти лет, начиная с 1879 года, он пользовался почти исключительно этим способом, который позволил ему подойти к проблеме решения глубины пространственных планов, уходящих вдаль или приближающихся вперед. Благодаря особому мазку эта глубина решалась в основном цветом.
Можно найти множество комментариев по поводу использования планов в живописной системе Сезанна. Бернар приводит следующие слова художника:
«Я вижу планы, громоздящиеся один на другой… Цветовые планы! Вот чего Гоген так никогда и не понял. Он не понимал меня. Я же никогда не одобрял и никогда не принимал этот недостаток объемности и градации цвета. Гоген был не художник, он не написал ничего, кроме китайских картинок».
Главное для Сезанна заключалось во взаимосвязи планов, которую он передавал посредством динамически меняющегося цвета. Форма при этом не теряла своего значения, но она осмыслялась одновременно и объемом, и очертаниями, а также тем напряжением пространства, которое получалось в результате связи с другими объектами. Пространство становилось полем действия силы, оно переставало быть конструкцией из нескольких разрозненных геометрических тел. Внутреннее соотношение сил, действующих в пространстве, определялось воздействием цвета — цвета, обозначавшего планы.
Новая система трактовки цвета вела в свою очередь к системе модификации формы, которая в полной мере проявилась в натюрмортах. В них мы видим кривые линии и объемы фруктов, бокалов, блюд и всего прочего, мягко выраженные заливками цвета; «искажение» в данном случае будет слишком сильным словом. Говоря о «заливках цвета», мы в то же время говорим здесь о движении и взаимодействии форм, о проницающем все ритме, в котором форма и цвет сплавлены воедино и в котором уравновешенность и неуравновешенность, симметрия и асимметрия связаны с активностью глаза и руки, охватывающих всю сцену во всей ее полноте и позволяющих изображаемому как бы самостоятельно «становиться» на полотне. Это «становление» трудно выразить словами, но оно лежит в основе эстетики Сезанна. Можно, пожалуй, приблизиться к пониманию того, что это такое, сказав, что художник не имел дела с законченным, миром, стоящим на своем месте прочно и неизменно. Его тайный мир весь полон тайными неожиданностями роста и движения, изменений и распада, и вслед за тем новых импульсов к новому динамическому единству и уравновешенности. Каждая картина оказывается движением от симметрии к асимметрии и от асимметрии к симметрии. Хотя позже Сезанн возражал на попытки Жеффруа связать импрессионизм с теми областями науки, где появились новые концепции об изменениях и движении, можно тем не менее заметить важную связь между его борьбой за «реализацию» в искусстве и теми идеями, которые еще только зарождались в тогдашней науке. После открытия второго закона термодинамики Спенсер обнаружил во всем тенденцию к равновесию; Фехнер предположил, что всякая система эволюционирует от нестабильности к стабильному состоянию; Петцольд придавал большое значение этому принципу. Майер предположил, что нестабильность указывает на наличие разных сущностей, которые он назвал силами; Мах обратил внимание на идеи Мейера и провозгласил, что «без различий» ничего не происходит. Он попытался показать, что определенные классы в стабильных системах должны непременно обладать элементами пространственной симметрии. Маллар в 1880 году заметил, что «тенденция к симметрии является одним из самых главных законов неорганического мира». Затем в 1884 году Пьер Кюри сделал новый решительный шаг в формулировании этих закономерностей. «То, что необходимо (для наличия некоего физического феномена. — Дж. Л.), так это то, чтобы отсутствовало определенное количество симметрии. То, что образует явление, — это асимметрия».
Есть глубокий смысл в том, что работа Сезанна может быть проиллюстрирована этими естественнонаучными принципами. И подобно тому, как Поль открыл новый мир цвета и формы, который никто после него толком не сумел развить далее, так и идеи Кюри все еще полностью не впитаны физиками XX века.
В этих строках мы попытались проследить сущность системы Сезанна, заключавшейся во взаимодействии пространственных планов, выраженных цветом и формой, как поля действия сил симметрии и асимметрии. Мы видели, что он работал исходя не из неких абстрактных представлений о живописи, а путем проникновения в действительное цветовое пространство вокруг, улавливая его напряжения, внутренние притяжения и отталкивания. Сезанн подходил к своему мотиву как к живой системе.
Позже он сделал Ренуару следующее замечание об изменении использования цвета на переходе от своих ранних работ к зрелым: «Мне понадобилось около сорока лет, чтобы понять, что живопись — это не скульптура». Ренуар объяснял это так: «Имелось в виду, что сначала Сезанн думал, что может выразить эффекты моделирования объема посредством черного и белого, и насыщал свои полотна красками, чтобы создать, насколько возможно, впечатление скульптуры. Позже наблюдение природы привело его к убеждению, что работа живописца заключается в таком использовании красок, что если они наложены быстро, это создает полный эффект». Но между двумя этими подходами существует связь. Желание добиваться пластического скульптурного впечатления посредством живописи было связано со стремлением передать действительность как можно более непосредственно. Когда Поль отказался от этого метода и перешел к созданию образа цветом и формой, он не оставил свою мечту о законченной, конкретно воссозданной вселенной. Для этого он писал изменчивые взаимосвязанные планы, создавая их цветовой текстурой и объединяя в чувственно ощутимый континуум.
Мы лучше поймем, что означала внутренняя система равновесия и неуравновешенности в комплексной ритмической структуре его работ, если посмотрим, например, на великолепную, совершенную картину этого периода — «Вид Медана». В этой композиции берег, дома и деревья расположены строго фронтально к плоскости картины, соответственно в ней преобладают вертикальные и горизонтальные линии. Поскольку диагонального направления в композиции практически нет, все детали изображения выглядят словно поставленными друг на друга. С тем чтобы достичь ощущения пространства, художник должен был полностью сосредоточиться на воздушных эффектах, выраженных при помощи локальных цветов, а также путем изменения интенсивности цвета. Краски наложены параллельными диагональными мазками разной толщины. Все формы образованы сетью мазков, и в то же время вертикально-горизонтальная структура объединяет всю композицию. Чувствуется глубокое напряжение между структурой и составляющими ее элементами; жизнь природы схвачена в один момент, и в то же время присутствует отражение энергий, которые осуществляют движение из прошлого в настоящее и будущее. «Структурная решетка» никогда не сильна настолько, чтобы трансформировать энергии, которые заставляют контуры изгибаться и дрожать, в структуру полностью абстрактного типа. Сезанн работал, скорее, в организации направления энергий, а не их уничтожения. В разрешении конфликта между «структурной решеткой» и отступлением в глубину Сезанну помогали его краски, а именно синяя, потому что в его сознании синий цвет соответствовал глубине пространства и воздуха.
В то же время глубокое понимание природы и чувство оптического «натяжения» между формами помогало Сезанну застраховаться от изображения серии отдельных уровней, разделенных прямыми линиями. В основе его разметки лежало чувство ритма. В то время, когда он рисовал одну часть, он постоянно держал в уме все остальные фрагменты композиции.
Конфликт между структурой и глубиной цвета больше, чем что-либо иное, придал работам Сезанна качество длящегося времени-процесса, того самого качества, которое еще только Тёрнер, единственный из художников, сумел обрести. Жизнь природы приходит и уходит, но всегда сохраняется и не прерывается. Настоящий момент включает и прошлое, и будущее, он определяется всей полнотой их напряжений, ритмов, направлений, симметрии и асимметрии. Потребность достичь особого вида всеобщности и привела к методу Сезанна «писать все сразу». Не могло быть и речи о подготовительной работе вчерне и последующих уточнениях. Каждый мазок видоизменял напряженность цвета и формы, поэтому Сезанн должен был работать, постоянно держа в уме весь холст, открывая в нем пространство-время во всей полноте их внутренних связей. Отсюда происходит и в этом заключается его напряженная вовлеченность в процесс живописи и его творческая концентрация. «Эта пластическая согласованность должно чувствоваться во всей поверхности холста».
Конечно, тот факт, что Сезанн обычно работал подолгу перед моделью и незаметно для себя менял время от времени свою точку зрения, каким-то образом сказывался на окончательном эффекте. Можно говорить, как это делают некоторые исследователи, «о запутанных взаимосвязях форм, которые видятся с меняющихся точек пространства и в разное время. Посредством введения изменчивости, через многочисленность взглядов, оставленных на поверхности картины, картина становится свидетельством постоянного присутствия, длящегося настоящего». Но мы не можем свести определение просто к констатации меняющейся точки зрения, которая, по сути дела, была производной от метода работы Поля, переделывающего сцену по многу раз. Он сам всегда старался сохранять одну и ту же позицию, соответственно угол зрения.
Можно увидеть ясные черты сходства между взглядами Поля и философией Бергсона, которая возникла как раз одновременно с периодом его зрелого творчества. Особенно это проявляется в подчеркивании роли и вездесущего характера изменчивости, а также роли конкретной природы в интуитивном проникновении в реальность сразу во всей ее полноте. Но система Бергсона имела свои собственные иллюзорные абстракции, поэтому кажется более плодотворным подчеркнуть связь между кризисом в физике, который был все еще не разрешен, что полностью проявилось в приведенном нами замечании Кюри по поводу асимметрии,
Часть четвертая
Новый кризис
Глава 1
Затишье перед бурей
(1880–1883)

От 1880 года сохранилось восемь писем к Золя. В феврале Поль был все еще в Мелене. Золя прислал другу «Нана», и тот «набросился на нее». «Это прекрасная книга, но я боюсь, что газеты сговорились и не напишут о ней. В тех трех маленьких газетках, которые я покупаю, я не видел ни статьи, ни информации. Это неприятно, ибо означает или отсутствие интереса к искусству, или нарочитое стыдливое замалчивание известных сюжетов». Здесь Поль вкладывал в свои строки представление о себе самом, потому что на самом деле роман Золя вызвал множество откликов. Поскольку «Нана» начала выходить выпусками в «Вольтер» в октябре 1879 года, роман получил большую известность, о нем было много объявлений, его рекламировали газетчики на бульварах, о нем даже распевали песенки со словами «Ах, Нана, Нана, весталка с площади Пигаль». «Это стало навязчивой идеей, просто ночным кошмаром», — писал Сеар. Когда 15 февраля роман появился отдельным изданием, в первые 24 часа было распродано 55 тысяч экземпляров. (Мане позже написал полотно «Нана», а Поль сделал грубый набросок картины, в которой тема Олимпии переходила в тему Нана. Похоже, что он имел в виду работу Мане, но вместо героини Мане, которая представала перед зрителем в нижней юбке, Поль изобразил полностью обнаженную модель.)
Двадцать пятого феврале Поль через Золя передавал благодарность Алексису за присланную книгу последнего, по-видимому, имелась в виду «Конец Люси Пеллагрен». В том же письме Сезанн сообщал, что Валабрег опубликовал прелестную книгу «Маленькие* парижские поэмы», а также спрашивал о нападках на Золя феминистки мадемуазель Дерэме. В марте Поль вернулся в Париж. 1 апреля он написал письмо с улицы Уэст (на этот раз он поселился в квартире на шестом этаже в доме № 32). Там он зажил тихой жизнью. Временами Сезанн встречался с друзьями — с Танги, Золя, Гийоменом или Кабанером (который к тому времени сделался музыкантом в кафе на Арк де л а Мотт-Пике), иногда Поль ходил в Лувр. В своей мастерской он писал натюрморты или автопортреты. Испытывая недостаток в моделях, а попросту страх перед ними, он использовал для работы свои собственные старые наброски и всячески сопротивлялся попыткам Золя вытащить его куда-нибудь, ненавидя званые вечера и чужие лица. Золя однажды все-таки привел Поля в салон к своему издателю Шарпантье, где была масса знаменитостей, в другой раз Поль уже наотрез отказался идти туда, хотя Шарпантье держался вполне приязненно. Возможно, примерно в это время Золя приглашал Поля на вечера в своей большой квартире на улице Булонь. Поль являлся в затрапезной рабочей одежде и умудрялся подавать себя наихудшим образом, отпуская замечания: «Здесь, пожалуй, жарковато, не правда ль, Эмиль? Ты не будешь возражать, если я сниму пиджак?» — и тут же стаскивал с себя одеяния посреди гостей, восседавших в вечерних костюмах. Подобные проявления не могли расположить к нему мадам Золя, но сведениями о том, что сам Золя был недоволен, мы не располагаем.
Поль узнал от Гийомена, что в галерее на улице Пирамид открыта выставка импрессионистов. «Я ринулся туда и наткнулся на Алексиса. Доктор Гаше пригласил нас обедать, и я не отпустил Алексиса пойти к тебе засвидетельствовать свое почтение. Можем ли мы напроситься на обед к тебе в субботу вечером?» Поль подписал письмо: «с благодарностью, твой старый товарищ по коллежу 1854 года». Его снова не пропустили в Салон, и 10 мая он направил Золя копию письма Ренуара и Моне, адресованного министру изящных искусств. В этом письме шла речь о разрешении в следующем году выставки импрессионистов во дворце Елисейских полей «в достойных условиях». Их работы были приняты в последний Салон, но развесили их очень плохо. Поэтому художники через Сезанна просили Золя опубликовать их письмо в «Вольтер» с комментарием. Поль накануне услышал о смерти Флобера и в своей обычной манере сопроводил просьбу извинениями. «Какое бы решение ты ни принял по поводу этой просьбы, оно ничем не повлияет на хорошие отношения между нами». Золя согласился и написал несколько статей под названием «Натурализм в Салоне», хотя это было не совсем то, чего от него ждали импрессионисты. Статьи были опубликованы в «Вольтер» 18 и 22 июня 1880 года.
Золя обвинял выставочный комитет в плохой развеске картин Моне и Ренуара и провозглашал, что Писсарро, Сислей и Гийомен следуют путем Моне, показывая природу «в ее реальном солнечном свете и не боясь самых невообразимых эффектов цвета. Мсье Поль Сезанн, который по-прежнему бьется с техническими проблемами, ближе, пожалуй, к Курбе и Делакруа». Но далее Золя писал, что в целом группа не обрела еще зрелости. «Ни один художник из их объединения не выработал еще сильной и определенной новой формулы». Они все, продолжал Золя, «предтечи, настоящий гениальный художник еще не родился». Импрессионисты, по его мнению, «были все еще не на уровне поставленных ими самими задач, они продолжали запинаться, не в силах сказать настоящее слово». Но, заключал Золя, «влияние импрессионистов велико, ибо только им принадлежит возможная эволюция в живописи, они устремлены в будущее».
Это утверждение обычно используют, чтобы показать невосприимчивость Золя к живописи, но, в сущности, оно толком не понято. Если бы даже Золя писал эти строки, имея в виду позднего Моне, он все равно сказал бы то же самое. То, чего он жаждал, было ключом импрессионистов к новой полноте и правдивости в передаче света и цвета, которые надлежало использовать для изображения полноценного видения жизни, видения, способного отразить всю глубину и сложность человеческих характеров, все взаимодействия людей во всем их богатстве и разности переживаний. Оборачиваясь в прошлое, он мог сказать, что попытку такого широкого охвата темы предприняли Делакруа и Курбе, которые были, кроме всего прочего, прекрасными мастерами техники. Мане также искал способы воплотить всю полноту жизненного процесса, но ему недоставало глубины проникновения и силы. Теперь уже немало новых живописцев сделали множество блестящих открытий и вышли на новый интересный уровень, но в конечном счете их технические достижения были более важны, чем созданные образы. Проникновение в реальный мир в его человеческой наполненности было довольно слабым. Даже Ренуар с его любовью к жизни не мог охватить тему так широко, как то представлялось в идеале Золя; по его мнению, не было искусства, способного выразить человека и природу столь же глубоко и всесторонне, как искусство великих венецианцев, как искусство Рубенса, Рембрандта или других старых мастеров. Поэтому в критике Золя наиболее высокое место уделялось Сезанну, который бился за то, чтобы продолжить великую традицию на основе импрессионистических нововведений, хотя и он все еще не мог полностью воплотить свою цель.
К такой точке зрения Золя постепенно двигался уже некоторое время. В июле 1879 года его статья появилась в петербургском «Вестнике Европы», ее перевод был опубликован в скором времени в парижском «Политическом и литературном обозрении» (а на следующий день перепечатан в «Фигаро»). О Мане было сказано, что он истощил свой талант в бесплодной работе, а относительно импрессионистов говорилось, что «все эти художники довольствуются весьма немногим. Они ошибочно отвергают основательность картин, требующих длительного размышления. Вот почему можно опасаться того, что все, на что они способны, — это указать дорогу великому художнику будущего, которого ожидает весь мир». Золя тут же написал Мане и заявил, что перевод был неточен и чересчур заострен и что в течение тридцати лет и во Франции, и в России он всегда отзывался о художнике с «большой симпатией». Но в свете его последующих статей 1880-х годов видно, что общий тон статьи в «Вестнике Европы» был понят правильно. Тем не менее в прошлом Золя отдал немалую дань импрессионистам: «Их считали записными шутниками, шарлатанами, дурачащими публику… в то время как они были, напротив, строгими и сдержанными наблюдателями. Почему-то всегда ускользало из поля зрения то, что все эти мятежники были бедными людьми, умиравшими от тяжелой работы, в нищете и болезнях. Они были мучениками своих взглядов».
Поль полностью соглашался с тем, что говорил Золя, он дважды благодарил его за статью. К этому времени он уже осознавал то, что позже объяснял как отсутствие в «группе импрессионистов предводителя и идей». Однако в те дни он хотя и отказывался выставляться вместе с импрессионистами, все еще чувствовал себя участником их объединения. Это именно Поль ввел выражение «истинные импрессионисты». 19 июня он в письме поблагодарил Золя за отклик писателя по поводу просьбы Моне и Ренуара, там же Поль выражал благодарность «за кучу тряпок», которые ему дала мадам Золя. Тряпки эти, надо полагать, требовались Полю для вытирания кистей и предохранения себя, насколько это было возможно, от красок во время сеансов. «Каждый день я хожу за город поработать немного». В этом же письме Сезанн писал о своем желании приехать в Медан к Золя. «А если ты не боишься, что я задержусь у тебя слишком надолго, — писал он, — я захвачу небольшой холст и напишу этюд, конечно, если ты не против». В числе прочих новостей Поль упоминает «прекрасную выставку» Моне у Шарпантье, а также свою встречу с Солари. «Завтра я схожу к нему, он заходил ко мне трижды, но все не заставал меня дома. У него все не ладится. Он никак не может заставить фортуну повернуться к нему лицом. А сколько счастливчиков добиваются успеха без особых трудов… Но таков человек, я же со своей стороны благодарю Господа за отца небесного…» Насколько можно судить, здесь Поль говорит о Солари, который, несмотря на испытания, не теряет присутствия духа, это и есть истинный человек. А мысль о неудачливом художнике заставила его подумать о себе, и он добавил иронический комментарий об отце небесном, который лучше земного отца — символа мира бессердечной погони за успехом и воплощением преуспевающих земных властей.
Четвертого июля Поль был еще в Париже, в письме от этого дня он выражал удивление по поводу молчания Золя. «Естественно, я не собирался стеснять тебя». От своего имени и от имени собратьев-художников он выражал благодарность Золя за статьи. В этом же письме Поль делится с Золя некоторыми новостями — Моне продал несколько картин, а Ренуар получил ряд хороших заказов на портреты.
В следующем письме без даты (проставлен день недели — суббота) Поль благодарит Золя за присланный экземпляр книги «Вечера в Медане», сборник шести рассказов писателей Меданской группы — Золя, Мопассана, Сеара, Энника, Алексиса, Гюйсманса. Письмо подписано: «Всеми чувствами твой, провансалец, в ком зрелость не опередила старости». Зная, как легко можно было задеть Сезанна, мы вправе предположить, что в этой подписи выражается обида по поводу замечаний Золя в «Вольтер». Я уже стар, говорит он, когда же должна прийти пресловутая зрелость, которую все ждет Золя? Обида здесь смешивается с горечью.
Двадцать восьмого октября Поль писал о получении письма Золя, которое ему принес Солари. Из газеты Поль узнал, что умерла мать Золя и что Золя должен был поехать в Экс, поэтому его прогулка в Медан не состоялась. В конце Поль писал: «Я к твоим услугам и сделаю все, что только тебе будет нужно. Я хорошо понимаю твое горе, но надеюсь, что твое здоровье все же не пошатнется, как и здоровье твоей жены».
В июле и августе Поль провел несколько недель вместе с Золя, который 22 августа писал Гийме: «Поль все еще со мной, он много работает». Нет никаких намеков на то, что ему было нехорошо в Медане, куда Золя пригласил его с чувством и тактично и где, так же как и в парижской квартире Золя, Поль мог видеть свои картины на стенах рядом с полотнами Мане, Моне, Писсарро и Коста. Золя не обращал внимания на удивление посетителей по поводу его коллекции. Поль, несомненно, не любил некоторых из гостей Золя, которых тот терпел из-за деловых соображений. Среди них был, например, Бюснаш, циничный толстяк, который плодовито сочинял оперетты и мелодрамы, он, в частности, переложил для сцены «Нана» и «Западню». Передают, что Поль брюзжал: «Когда я был у Золя, приехал великий человек. Бюснаш! Рядом с ним всякий другой перестает что-либо значить». Ясно, что Поль чувствовал себя неуютно в такой компании. Золя воспринимал своих разношерстных гостей с улыбкой, ему были нужны многие знакомства, он был уже ведущим писателем, в то время как Поль чувствовал, что он еще никто. Однажды Поль писал мадам Золя в саду, за чайным столом. Как обычно, он считал, что все выходит не так, как нужно, и чертыхался про себя, но все же достаточно громко, чтобы она слышала. В это время пришел Гийме и что-то шутливо заметил. Поль переломил кисти, проткнул холст и, потрясая кулаками, ушел. В другой раз, когда объявили о приезде Бюснаша, Поль покинул Медан и отправился в Живерни, где он поведал Моне о своем бегстве без особенной горечи.
С острова на Сене, куда он добирался в лодке Золя под названием «Нана», Поль писал вид Медана с замком с маленькими слуховыми окошками (который, как следует из нижеприведенного рассказа Гогена, и был домом Золя):
«Сезанн написал яркий пейзаж с ультрамариновым фоном, с темной зеленью и охрой цвета шелкового абажура. Деревья были написаны стоящими в ряд, сквозь их ветви виднелись сверкающие желтые пятна на известняковой стене. Изломанные мазки зеленым веронезом обозначали пышную листву сада, а заросли фиолетовой крапивы на переднем плане дополняли оркестровку этой простой поэмы.
Шокированный таким зрелищем и весьма самодовольный некий прохожий воззрился на то, что он полагал достойной жалости мазней дилетанта, и с учительской улыбкой обратился к Сезанну: «Вы занимаетесь живописью?»
«Да, но, к сожалению, очень мало».
«О, я вижу это. Кстати, я бывший ученик Коро, и, если вы позволите, я несколькими мазками попробую выправить для вас эту картину. Валеры, валеры — вот что важно».
И этот вандал бесстыдно нанес несколько мазков на сверкающий холст. Грязные серые пятна покрыли восточные шелка. Сезанн воскликнул: «Мсье, вы счастливец. Когда вы пишете портрет, вы, наверно, накладываете блики на кончик носа точно так же, как и на ручки кресла». Он взял свою палитру и счистил ножом всю грязь, которую нанес тот господин. Потом в наступившей тишине он испустил чудовищно громкий звук и, повернувшись к господину, заметил: «Какое облегчение».
Гоген купил эту картину, вероятно, у Танги, а историю он мог слышать от Писсарро или самого Сезанна.
Поль вернулся в Париж в конце августа. Теперь он жил сам по себе и в «Новых Афинах» появлялся нечасто. Его редкие приходы в грубой рабочей одежде вызвали замечание Дюранти: «Это были опасные демонстрации». Как обычно бывает, легенды оказались живописнее фактов. Джордж Мур, который часто бывал в «Новых Афинах» в 1879 году, писал в воспоминаниях:
«Не помню, чтобы я когда-нибудь видел Сезанна в «Новых Афинах». Он был слишком грубым и диким созданием, в Париже появлялся редко. Мы часто слышали о нем — его время от времени видели в пригородах, где он расхаживал по холмам в своих огромных солдатских ботинках. Так как никто не проявлял ни малейшего интереса к его картинам, он оставлял их прямо в полях. Было бы неверным сказать, что у него не было никакого таланта, но если целью Мане или Моне и Дега была живопись, то каковы были намерения и побуждения Сезанна, боюсь, было неясно даже ему самому. Его работы можно было описывать как анархию в живописи, как искусство в помраченном сознании».
12 апреля 1881 года Поль написал Золя письмо, в котором просил его сделать небольшую вступительную заметку к распродаже картин попавшего в большие затруднения Кабанера, «как ты это сделал для распродажи Дюранти». (Дюранти, родившийся в 1833 году, умер в 1880-м.) В собрании Кабанера были картины Мане, Дега, Писсарро и самого Сезанна; Золя согласился написать вступительное слово и спрашивал Поля, в каких выражениях ему лучше упомянуть о затруднениях владельца. Поль переслал это письмо Дюре. 7 мая он жил на Ке де Потюи в Понтуазе, куда приехал за два дня до этого. Оттуда Сезанн написал Золя, что еще не видел Франка Лами, одного из организаторов распродажи. В том же письме Поль сообщал, что получил от Гюйсманса и Сеара и от самого Золя последние книги. По поводу Сеара Поль заметил, что он им «очарован, его книга очень занимательна, не говоря уже о том, что там много интересных мыслей и наблюдений». За знакомство с этими замечательными людьми он выражал Золя благодарность. В конце Сезанн написал: «Я слышал, что мадам Бельяр очень больна, всегда огорчительно узнать о неприятностях симпатичных людей».
Шестнадцатого мая Поль написал Шоке, что у картины размером 40, которую Танги должен был передать собирателю, нет рамы. Накануне Поль видел Писсарро, Ортанс и Поль-младший находились при нем.
Двадцатого мая в письме Золя Поль снова касался распродажи Кабанера и выражал далее намерение отправиться пешком в Медан. «Не думаю, что эта нагрузка не для меня». В этом же письме Поль сообщал о «маленькой неприятности»: «Сестра и зять собираются в Париж, и насколько я знаю, с ними приедет его сестра, Мари Кониль. Представь себе, как я буду водить их по Лувру и другим картинным галереям».
Писсарро по-прежнему сильно нуждался. Ему перевалило за пятьдесят, голова и борода его побелели. Он никак не мог добиться успеха, но у него не было зато обидчивой горечи Поля, хотя не было также и яростного бойцовского духа в битве за обретение более глубокого синтеза. Оба художника часто писали вместе. Поль писал виды деревни Сержи, мельницу в Ла Кулев и своими маленькими мазками продвигался помалу к компактной и ритмической форме.
Доктор Гаше, который жил в Овере, переживал тяжелую полосу. Его жена умерла шесть лет назад, и за детьми и домом смотрела гувернантка. В 1879 году Гаше попал в железнодорожную катастрофу и, несмотря на то, что был ранен сам, самоотверженно оказывал помощь другим пассажирам. В знак признательности железнодорожная компания назначила его своим врачом на участке Эрблэ-Овер, так что он мог проводить три дня в неделю в деревне.
В июне 1881 года Поль работал «мало и довольно вяло». Он читал в это время «Экспериментальный роман» Золя и в письме к писателю хвалил очерк о Стендале. По приезде в Париж Поль обнаружил в своей квартире книгу, присланную Родом. «Она легко читается, я ее всю уже проглядел». Поль просил у Золя адрес Рода, чтобы послать тому благодарность за книгу.
В июле до Поля дошли известия о дуэли Алексиса с Дельпи. Этот журналист оскорбительно отозвался о писателе и на поединке ранил его. «Как всегда, правое дело потерпело поражение», — заметил Поль. В этом же письме он сообщил, что приедет в Париж в начале августа. Пятого числа в следующем письме Сезанн писал о том, что видел Алексиса и одновременно получил письмо Золя, и, таким образом, узнал о том инциденте с разных сторон. Далее Поль сообщал о том, что какие-то препятствия помешают ему съездить в Медан до октября, но к этому сроку он обещал уехать из Понтуаза и съездить ненадолго в Экс. Золя в начале осени отправился в Гранкан неподалеку от Шербура, где провел месяц или два, предаваясь морским купаниям. 15 октября 1881 года Поль написал ему, что приближается время его возвращения в Экс, а перед тем ему бы хотелось повидать Золя. Он полагал, что из-за плохой погоды Золя уже вернулся из Гранкана, и собирался приехать к нему 24—25-го числа. 5 ноября Золя писал Косту: «Поль провел у меня около недели. Сейчас он отправился в Экс, где вы, конечно, сможете повидаться». Байль, замечал он, находится на пути к успеху, достигаемому с помощью богатой жены, он стал уже крупным фабрикантом, производящим очки и бинокли, его предприятие снабжало военное министерство.
На юге Поль перебрался из Экса в Эстак. Отец перестал наконец докучать ему. В том году в «Понтуазско-Оверский лагерь» явился новый рекрут, художник-любитель Гоген, которому было тогда около тридцати трех лет. Он был столь предан живописи, что из сорока тысяч франков дохода, который он имел в качестве банковского служащего, около пятнадцати тысяч тратил на картины. Поль с подозрением отнесся к его едкому языку и не мог быть доволен письмом, которое показал ему Писсарро после отъезда богатого молодого человека. Гоген писал в нем: «Нашел ли Сезанн точную формулу, которая пригодится всем? Если он нашел рецепт, как сжать повышенную выразительность своих ощущений в одном-единственном приеме, прошу Вас, дайте ему какое-нибудь гомеопатическое лекарство, чтобы он проговорился во сне, и поспешите в Париж рассказать нам». Из этого письма следует, что Поль в это время часто употреблял выражение «ощущение», чтобы обозначить то, чему он следовал, Гоген к этому отнесся скептически, хотя и был заинтересован. Говоря о гомеопатических лекарствах, Гоген имеет в виду, скорее всего, доктора Гаше, который пользовал Поля. Сезанн был приверженцем этого метода, особенно в старости, когда регулярно проходил курсы гомеопатического лечения.
В том же 1881 году вышел посмертно роман Дюранти «Страна искусств», в котором молодой художник ходил с визитами к разным живописцам в мастерские. Поль фигурировал в этом романе как Майобер.
«Подойдя к двери, я услышал внутри попугая. Я позвонил. «Войдите», — закричали за дверью с каким-то странным акцентом. Мне сделалось тяжко, потому что я вдруг подумал, а не жилище ли это сумасшедшего. Я был совершенно смущен и подавлен и личностью, и самим местом. Художник был лыс, с огромной бородой; он выглядел одновременно и старым, и молодым. Подобно своей мастерской, Майобер был неописуем и грязен. Он радушно приветствовал меня, сопроводив восклицания улыбкой, характер которой я не смог определить, — она была и хитрой, и простодушной. В глаза мне сразу бросились огромные холсты, развешанные по всем стенам.Колорит их был столь ужасен, что я остановился в оцепенении. «О-о, — сказал Майобер своим гнусавым выговором, — мсье является любителем живописи? Это мои маленькие тряпки для очистки палитры», — добавил он, указывая на самые гигантские холсты.
В этот момент попугай закричал: «Майобер — великий художник!»
«Это мой художественный критик», — заметил художник с обезоруживающей улыбкой…
Затем он увидел, что я с любопытством уставился на большие аптекарские банки с сокращенными латинскими надписями на них: «Tuisqui. Aqu. Still. Ferrug. Rib. Sulf. Cup». «Это мой ящик с красками, — сказал Майобер. — Я докажу всем, что достигну настоящей живописи с этими лекарствами, тогда как другие даже с прекрасными красками не смогут родить ничего другого, кроме лекарств». Мои глаза были прикованы к огромной картине, изображавшей возчика угля и бакалейщика, которые чокались бокалами, стоя перед обнаженной женщиной, над чьей головой было написано «Сотрудничество». Я называю эти обнаженные фигуры возчиком угля и бакалейщиком лишь потому, что сам Майобер обозначил их именно так, один из мужчин был белого цвета, другой — коричневого. Все три фигуры были колоссального размера, в два натуральных роста. Они были написаны на совершенно черном фоне, в месиве широких извивающихся мазков, среди которых зелень, прусская синяя и серебряно-белая вели между собой настоящую войну. Огромные глаза с застывшим взором таращились с каждого лица. Однако одна рука, кусочек бедра или колено были написаны с настоящей силой. «Это выражение цивилизации, — сказал Майобер. — Мы должны удовлетворять философов, которые вечно вопят против нас».
Далее мое внимание привлекла серия портретов, портретов без лиц. Головы представляли собой переплетение мазков, из которых нельзя было уловить никаких черт. Тем не менее на каждой раме было обозначено имя, часто столь же странное, что и сама живопись: Кабладур, Испара, Валадег, Аполлен и другие. Это все были ученики этого мастера. «Он великий художник», — кричал попугай, который словно чувствовал, когда надо включаться.
В это время пришли два приятеля Майобера, косматые, бородатые, немытые. Я спрашивал себя: Может быть, он является главой школы мистификаторов?» Пришедшие созерцали картины мастера так, словно видели их впервые. «Как это мощно! Что за энергия, — кричали они, — Курбе и Мане всего лишь мелкота по сравнению с ним».
Майобер улыбнулся. Он сунул ложку в один из аптекарских горшков и зачерпнул оттуда здоровый шматок чистой зелени, который он предназначал для полотна, где по отдельным линиям можно было угадать пейзаж. Он выплеснул ложку на холст; ценой большого напряжения можно было предположить в том, что он намалевал, луг. Я заметил, что краска на его полотнах лежала слоем почти в сантиметр и образовывала холмы и долины, как на рельефной карте. Он, очевидно, считал, что килограмм зеленого будет зеленее, чем один грамм того же цвета».
Возможно, что, вспоминая последнее утверждение, Гоген позже заметил: «Килограмм зеленого зеленее, чем полкило. Вам, художникам, следует подумать об этом».
Поль не был в Эксе около двух с половиной лет, на этот раз он остался на юге на несколько месяцев. Несомненно, он хотел быть подальше от отца и в то же время поближе к Писсарро. Ортанс с мальчиком осталась в Париже. В феврале 1888 года Ренуар приехал в Эстак навестить Сезанна и заболел там воспалением легких. Поль ухаживал за ним, как мог, о чем Ренуар с большой благодарностью отзывался в письмах Шоке. «Не могу даже выразить, как Сезанн был добр ко мне. Он поднял все свое семейство мне на помощь. В доме его матушки состоялся большой прощальный обед, сам Сезанн уезжал в Париж, а меня доктор заставил остаться на юге еще некоторое время». Мадам Сезанн проявляла трогательную заботу о пище для больного. «На завтрак она давала мне рагу из трески. Надо полагать, что это вновь открытая пища богов. Можно съесть ее и потом спокойно умереть». В Париж Ренуар привез великолепную акварель Сезанна «Купальщики». Приятель Ренуара Лот, испытывая денежные затруднения, продал ему эту акварель, о которой Ренуар писал: «Это наиболее совершенная из акварелей Сезанна, которую он вымучил за двадцать сеансов».
15 февраля 1882 года Поль написал Алексису письмо из Эстака, «вотчины морских ежей», в котором благодарил его за присланную книгу о Золя. Книга была послана в Экс и пришла к Сезанну с большим опозданием, потому что «попала в нечистые руки моих родственников». Это означает, что старый Луи-Огюст вскрыл бандероль. «Они и не подумали сообщить мне о ней. Они распаковали бандероль, разрезали страницы книги, просмотрели ее вдоль и поперек, а я все ждал, сидя под сосной. Но наконец я узнал, потребовал и вот — обладаю книгой и читаю». Конечно, узнал Поль о книге от матери. В письме Поль выражает признательность за «приятное волнение», которое он испытал, вспоминая прошлое. Особенно ему понравились стихи, помещенные в приложении (это были ранние, прежде не публиковавшиеся стихи Золя). «Я не сообщу тебе ничего нового, говоря о великолепном мастерстве того, кто еще хочет называть себя нашим другом. Но ты знаешь, как я их ценю. Не говори ему. Он скажет, что я рассиропился». На самом деле стихи были ужасно плохими, но они означали для Поля утерянные и сладостные дни чистой дружбы.
В своей книге Алексис написал о готовящемся романе Золя, который не мог не возбудить и надежды, и опасения Сезанна, потому что он знал, что образ главного героя «Творчества», Клода, списан с него. Возможно, что в словах, которыми Алексис закончил свою книгу, отразилось некоторое сомнение Золя по поводу будущей реакции Поля на роман:
«Его основной персонаж уже готов. Это художник, преданный современности, который уже появлялся перед читателями в «Чреве Парижа», Клод Лантье… Мне известно, что в образе Клода Лантье писатель вознамерился изобразить жуткую психологию творческого бессилия. Вокруг этого центрального персонажа, наделенного талантом и возвышенным гением, работа которого подпорчена пороками его натуры, будут показаны другие художники — живописцы, скульпторы, музыканты, писатели, целая когорта честолюбивых молодых людей, которые мечтают о завоевании Парижа. Некоторые из них терпят поражение, другие добиваются какого-то успеха, но фактически каждый служит иллюстрацией идеи об изначальной порочности или ущербности искусства; каждый являет собой разновидность какого-либо невроза. Естественно, что Золя был вынужден вывести в этой книге своих друзей, взяв от каждого их наиболее характерные черты. Что касается меня, то если я обнаружу себя в его описаниях и если это мне не понравится, то я обещаю не вчинять ему никаких исков».
И действительно, образ Алексиса в «Творчестве», которого Золя вывел под именем Жори, чувственного и неразборчивого в средствах, хотя и талантливого малого, никак не мог польстить самому Алексису.
Двадцать восьмого февраля Поль прислал Золя письмо, в котором поблагодарил его за «том литературной критики», и сообщил, что возвращается на следующей неделе в Париж после четырех месяцев, проведенных на юге. В марте Сезанн был уже в Париже, питая надежду попасть наконец в Салон, но не с попустительства жюри, а благодаря содействию Гийме. Последний был в том году назначен членом жюри с привилегией ввести «pour la charite» (из милосердия) одну картину без противодействия других членов. Имелось в виду, что такая работа должна принадлежать ученику покровителя, но похоже, что Поль был нимало не смущен такой уверткой. Готовить картину он начал по крайней мере с 1879 года, Золя писал Гийме 22 августа 1880 года, что Поль «все еще рассчитывает на Вас по известному Вам вопросу». В результате был выставлен «col1_0» (Луи Обера, его крестного отца). Поль был представлен учеником посредственного Гийме. Единственным замечанием по поводу работы Поля в печати были слова журналиста из «Диктионэр Верон», который заметил в картине «работу начинающего художника, который неплохо умеет обращаться с цветом: тени под глазом и на правой щеке обещают будущее большого колориста». Вскоре после этого акция милосердия была отменена, и Поль в итоге не имел больше возможности пройти через жюри.
В письме от 2 сентября Сезанн выражает желание приехать в Медан к Золя. Вскоре он провел там около пяти недель. Следующее письмо, от 14 ноября, Поль написал уже из Жа де Буффана. Он писал Золя о старых знакомцах, которых успел встретить: Жибере, директоре музея и двух соучениках. Один из них был Толстый Дофен, другой — Маленький Байль, младший брат Батиста. «Оба они стали стряпчими, и у Байля вид хорошенького маленького судейского подлеца». Далее Поль пишет: «Здесь ничего нового, даже никаких больше самоубийств». Здесь Сезанн имеет в виду самоубийство Маргри, который, будучи адвокатом, бросился с верхней галереи Дворца правосудия в Эксе. Поль, конечно, сам с содроганием подумал о том, что ему удалось избежать карьеры стряпчего.
В письме от 27 ноября Поль писал Золя о намерении составить завещание, и, как обычно, необходимость какого-либо действия повергла его в смятенное состояние духа. «Как будто я могу его сделать — рента, которая мне причитается, на мое имя. Я хочу попросить у тебя совета. Можешь ли ты мне сказать, какова должна быть форма этого документа? Я хочу в случае своей смерти оставить половину моей ренты матери, а половину малышу. Если ты знаешь что-нибудь о таких делах, сообщи мне. Потому что если я в скором времени умру, моими наследницами будут мои сестры, и я боюсь, что мою мать обделят, а малыш (он был признан моим сыном, когда я его регистрировал в мэрии) имеет, по-моему, право на половину моего наследства, но, может быть, дело не обошлось бы без возражений. В случае, если я могу сделать завещание своей собственной рукой, я попрошу тебя, если ты не будешь иметь ничего против, взять на хранение дубликат завещания, если это тебе не будет неприятно. Здесь эту бумагу могут изъять».
Создается впечатление, что Поль неуверенно признается Золя, что у него есть рента на его собственное имя. Он очевидным образом боится, что отец, узнав о его завещании, непременно наложит на него руку. Также Поль боится, что какой-нибудь местный стряпчий, узнав об этом, сообщит отцу о задуманном распределении. Но поскольку его мать уже была достаточно обеспечена, его опасения за нее выглядят несколько странными. Непохоже, чтобы она согласилась выступать в качестве прикрытия для Ортанс.
Отсутствие упоминания имени его жены может означать начавшиеся сложности между ними, или, возможно, это свидетельство того, что Поль панически боялся называть ее в любом письменном документе, полагая, что эта бумага может попасть отцу. Не лишено вероятности и то, что включение в завещание матери делало менее вероятной возможную тяжбу со стороны сестер Мари или Розы и тем самым дополнительно обеспечивало права ребенка.
Глава 2
Безнадежные препятствия
(1883–1886)

6 января 1883 года Поль написал письмо Косту, в котором благодарил его за присланный журнал «Ар либр». «Хочу тебе сказать, что очень ценю великодушный порыв, с которым ты берешься защищать дело, небезразличное и мне. Остаюсь признательный тебе твой земляк и, смею сказать, твой собрат по искусству».
Десятого марта Поль благодарил Золя за последний роман его, «Дамское счастье». Этим романом Золя начал серию своих экономических или промышленных изысканий. Тема всемогущества женщин занимает в романе, выражаясь его словами, «поэтическую сторону книги», но в развитии сюжета конфликты между полами значат меньше, чем смертельная борьба в сфере коммерции.
Поль занимался той весной живописью в Эстаке. Он снимал маленький домик с садом рядом с вокзалом, в квартале Шато. Там, у подножия горы, его окружали скалы и сосны, впереди расстилался залив, со множеством маленьких островков, а в отдалении вздымались холмы Марселя. «Панорама Марселя и островов, залитая вечерним светом, очень декоративна», — говорил Поль. Ренуар просил его прислать два пейзажа, написанных в прошлом году и оставшихся у Поля на юге. Они понадобились Ренуару для персональной выставки, которую он собирался открыть вслед за выставкой Моне. В письме Золя Поль описывал снегопад в Эксе: «Сегодня утром поля, покрытые снегом, были очень красивы, но снег тает». Там же сообщается, что сестра Роза родила девочку. «Все это не очень весело. Мне кажется, что в результате моих протестов они не приедут этим летом в Жа де Буффан. Вот радость для моей матери». Нам не вполне ясно, что именно должно обрадовать мадам Сезанн — рождение внучки или отсутствие в загородном доме ее родителей, четы Кониль. В любом случае позиция Поля представляется эгоистической и отнюдь не братской. У Розы было столько же прав на Жа де Буффан, сколько и у него. Другая сестра, Мари, нрав которой с годами сделался резким и властным, всячески подстрекала его. Поль собирался пробыть на юге около полугода.
В письме от 19 мая Поль вновь вернулся к вопросу о своем завещании. Он вместе с матерью наконец отправился в Марсель к нотариусу, который сказал, что документ следует написать собственноручно (сделать олографическое завещание) и указать на мать как на единственную наследницу. Однако Поль не вполне доверял марсельскому юристу и собирался по приезде в Париж отправиться к столичному нотариусу в сопровождении Золя, чтобы справиться у него и, если понадобится, переписать завещание. «При встрече я объясню тебе, почему я это делаю». (Возможно, он не хотел посвящать мать во все детали, хотя их совместный поход к марсельскому нотариусу предполагает, что мадам Сезанн готова была стать соучастницей.) В заключение, как обычно, Поль желает Золя и его семейству здоровья и прибавляет: «Так как бывают очень неприятные болезни. Эти слова я написал, думая о гибели Мане. Сам-то я здоров». Мане незадолго перед тем умер после операции по ампутации ноги.
Двадцать четвертого мая Поль выслал Золя дубликат завещания. «Боюсь, что все это немногого стоит, потому что такие завещания очень легко оспариваются и аннулируются. Надо было бы серьезно обсудить этот вопрос со знатоками гражданского права». Кого боялся Сезанн? Вряд ли своей матери или Мари, которая также все знала об Ортанс и ребенке, вряд ли он боялся Конилей, которые не пошли бы против того, чего хочет Мари. Он, скорее всего, боялся, что Луи-Огюст его переживет и разрушит все его планы, хотя отец был уже очень стар, впадал временами в старческое слабоумие и не один раз бывал застигнут в саду за попыткой закопать горстку золотых монет. Полю же было только сорок четыре, хотя выглядел он отнюдь не молодым из-за всех своих треволнений; он был лыс, кожа имела сероватый оттенок, глаза глубоко западали, лицо было изборождено морщинами. Он все более чувствовал себя связанным с Провансом и не испытывал сложностей лишь в общении с земляками.
В Париж Поль собирался вернуться до наступления 1884 года. О столичных новостях и о работе Золя Поль знал лишь из «Фигаро». «Я изредка натыкаюсь на сообщения о знакомых мне людях, например недавно прочел тяжеловесную статью о доблестном Дебутене». (Художник-гравер и довольно слабый драматург, который оставил портреты Мане и Золя.) По поводу нового романа Золя Поль отозвался очень кратко: «Мне роман очень понравился, но ведь я не могу судить как профессиональный литератор». Как мы знаем, Сезанн, когда хотел, мог глубоко и со знанием дела оценить литературное произведение. Значит ли эта фраза, что ему было просто неинтересно разбирать роман, или он был слишком занят и сосредоточен на своей собственной работе и семейных передрягах? Или, можно предположить, мысли о готовящемся «Творчестве» заставляли его заранее вставать в защитную позицию по отношению к романам Золя?
10 июля 1883 года Поль написал письмо Солари, чья дочь вышла замуж за некоего Мурена. Поль выражал поздравления по этому поводу и писал, что к его приветствиям присоединяются его жена и его «ужасный мальчишка» (gosse). Ортанс была в то время вместе с ним в Эстаке, там же был и Поль-младший, которому уже исполнилось одиннадцать лет. 26 ноября в письме Золя Поль сообщал, что он вернулся в Эстак и собирается пробыть в нем до января. «Несколько дней тому назад сюда приехала мама. На прошлой неделе у Розы умер ребенок, который родился, кажется, в сентябре или октябре. Во всяком случае, бедный малыш жил недолго. В остальном все по-старому».
В том году Гюйсманс опубликовал книгу о современном искусстве. Писсарро упрекал его за то, что тот не уделил должного внимания Сезанну. «Почему это Вы ни единым словом не упоминаете о Сезанне, которого мы все считаем одним из самых удивительных и интересных талантов нашего времени и который оказал большое влияние на современное искусство?» Писсарро полагал, что Гюйсманс увлекся «литературными теориями, которые применимы только к школе Жерома, хотя бы и модернизированной». Гюйсманс отвечал: «Уверяю Вас, Сезанн мне очень близок и симпатичен как личность, Золя мне говорил о его усилиях, о тех трудностях и неудачах, которые он испытывает, когда пытается создавать свои произведения. Да, у него есть темперамент, он художник, но вообще, кроме нескольких натюрмортов, остальные его работы рождаются нежизнеспособными. Они интересны, любопытны, но в них сказывается какая-то особенность его зрения; говорят, он сам это понимает… По моему скромному мнению, Сезанны — это неудавшиеся импрессионисты. Согласитесь, что после стольких лет борьбы теперь нужны уже не просто более или менее определившиеся, более или менее ясно выраженные намерения, а полноценные произведения, значительные работы, которые не выглядят монстрами и курьезами какого-нибудь дюпюитреновского музея живописи» (Дюпюитрен основал медицинский анатомический музей).
Заметим здесь особое значение, придававшееся Полем и его современниками понятию «темперамент». В художнике «темперамент» означал творческую силу и способность к индивидуальному чувственному восприятию. Следующие фразы из «Манетты» показывают контекст этого понятия: «Он говорил о темпераменте, об оригинальности, об изобразительной силе этого рисовальщика. Делакруа: темперамент весь на нервах, больной и беспокойный человек, натура страстная внутри бесстрастия…»
Это понятие употреблял и Бодлер. В письме от 24 мая 1865 года он писал Мане: «Он никогда не мог заполнить все зияния своего темперамента. Но темперамент у него был, и именно это и важно». Готье в 1849 году называл Гро «более темпераментным, чем то дозволяет вкус и великий дар отбора». В 1856 году, рассуждая о Петере Корнелиусе, он утверждал: «Все эти художники не испытывают недостатка в рассудке, или знаниях, или таланте, даже гении, но чего им не хватает — так это темперамента, того качества, которое, на мой взгляд, невозможно заменить и которое должно ощущаться в каждом мельчайшем мазке». Темперамент, таким образом, является некой категорией, которой нет у академистов; это знак творческой энергии, который оставляет на каждом художнике его личную печать, темперамент раскрывает взаимопроникновение жизни и искусства.
Золя в свою очередь пролил дополнительный свет на эти воззрения. Он не согласился с Гюйсмансом на его оценку Курбе и Дега. «Я не согласен с тем, что Курбе следует выбросить на свалку и что Дега крупнейший художник современности. Дега всего лишь страдающий запорами человек с милым талантом. Чем больше я смотрю, — заключал Золя, — и чем более я освобождаюсь от чужих точек зрения, тем более я чувствую любовь к великим и изобильным творцам, созидающим мир». Эта позиция, конечно, не имела ничего общего с поклонниками «модернизированной школы Жерома». В сущности, Золя провозглашал то, что было целью стремлений Сезанна, хотя он лишь частично мог проникнуть в творческие идеи художника.
В декабре 1883 года Моне и Ренуар, возвращаясь из Генуи, заехали в Эстак повидать Поля, но за исключением этого редкого визита и прогулок с Монтичелли свои дни он проводил в одиночестве.
1884 год плохо документирован; имеется всего лишь два письма к Золя. 23 февраля Сезанн написал ему из Экса, поблагодарив за роман «Радость жизни», некоторые главы которого он уже прочел к тому времени в «Жиль Блаз». Накануне Поль встретил Валабрега. «Мы вместе обошли город, вспоминая некоторых друзей, которых когда-то знавали, но как мы по-разному чувствуем! Мое воображение пленено этой местностью, она кажется мне необыкновенной». В конце, как обычно, Поль просит передать привет Алексису, «моему земляку, которого я не видел уже целую вечность».
От Гийме мы знаем, что Сезанн посылал один портрет в Салон, но работа была отвергнута. 27 ноября он благодарит Золя за две новые книги, одной из которых может быть «Наис Микулен», собрание коротких рассказов. Новостей о «благословенном городе, где он увидел свет», Поль не сообщает. Вместо этого он кончает письмо трудной для понимания фразой, отражающей его внутренние борения и новые мысли: «Я знаю только то (но тебя это не должно особенно интересовать), что искусство страшно меняется в своем проявлении и слишком часто принимает жалкую, ничтожную форму, а непонимание гармонии выявляется в разладе колорита или, что еще хуже, в бесцветности». Видимо, следует понимать под «искусством» «мое искусство». Сезанн в корне меняет в это время свой метод живописи и чувствует, что его способности к передаче формы и цвета неадекватны новому способу воплощения. «Но хватит ныть, — пишет он далее в том же письме, — крикнем: «Да здравствует солнце, источник этого чудесного света!»
Что собою представляет искусство Сезанна этих лет? В 1880 году, в том самом, когда Золя писал о крахе импрессионизма, не выдвинувшего из своей среды великого художника в его понимании этого слова, Поль неустанно работал. Он пробовал применять новый способ покрытия холста, работая маленькими кривыми мазками, напоминавшими запятые. Его ритмы и вся система рисунка стали чище и яснее, например в картине «Поворот дороги» (1881). Работая в Нормандии вместе с Шоке, он вернулся к использованию системы параллельных мазков, достигая с их помощью более полной передачи объема. Работая на юге, Сезанн добился более весомой организации масс и в то же время лучше стал контролировать глубину пространства. Он постоянно экспериментировал, используя преимущественно то один аспект своей системы, то другой, но постоянно продвигался вперед. Затем в 1885 году наступила задержка, связанная с эмоциональным кризисом, к которому мы теперь подошли.
В письме от 14 января 1885 года Гоген нарисовал весьма романтический образ Поля: «Возьмите, например, Сезанна, непонятого художника. У него действительно мистическая восточная натура, и лицо у него древнего восточного типа (как у левантинца). В его формах какая-то тайна и тяжелое спокойствие человека, который лежит, погрузившись в раздумье. Цвет его серьезен, как характер восточных людей. Житель юга, он проводит целые дни на вершинах гор, читая Вергилия и смотря в небо. Его горизонты очень высоки, синие тона насыщенны, а красный цвет у него удивительно живой и звучный…»
У Сезанна было несколько преданных почитателей. Писсарро покупал его полотна и говорил сыновьям: «Если вы хотите научиться писать, смотрите на Сезанна». В ноябре 1884 года Гоген, испытывая безденежье, писал жене: «Я очень дорожу моими двумя Сезаннами, таких его картин мало, он редко доводит до конца свои работы, и эти две когда-нибудь будут стоить очень дорого. Продай лучше рисунок Дега».
Между тем Поль работал в Эстаке, весьма далекий от восточной уравновешенности и невозмутимости, приписанной ему Гогеном. Он благодарил Золя за присылку «Жерминаля»: «Довольно сильные невралгические боли почти не отпускали меня и были причиной того, что я забыл тебя поблагодарить. Но вот голова перестала болеть, и я хожу гулять на холмы и любуюсь прекрасной панорамой». Крайне жаль, что Сезанн не написал, что он думал по поводу «Жерминаля», было бы интересно сравнить оценку с его мнением о Валлесе и Мирбо. Однако в те годы он почти совсем оцепенел из-за битвы за новый подход к живописи.
Тем не менее весной он воспрял к жизни благодаря несчастной (и вряд ли имевшей место в реальности) любовной интриге. Похоже, что ему довелось поцеловать некую Фанни, девушку, служившую в Жа де Буффан. Это была здоровая крестьянская девица, не боявшаяся тяжелой работы и легко таскавшая огромные корзины с виноградом. «Посмотрите, как здорово выглядит девушка у нас в Жа, — говорил Сезанн, — она крепкая, словно мужчина». О поступках и чувствах Поля свидетельствует черновик его письма, написанный на обороте одного рисунка. Этот текст, ввиду сверхучтивой изысканности в выражениях, является наиболее странным письмом, когда-либо написанным в подобных обстоятельствах:
«Я видел Вас и Вы разрешили мне Вас обнять. С этого момента я пребываю в волнении. Простите меня, что я пишу Вам, к этому смелому поступку меня побуждает тревога. Я не знаю, как Вы расцените эту вольность, может быть, Вы сочтете ее недопустимой, но я не мог оставаться с такой тяжестью на душе. Зачем, сказал я себе, молчать о своих мучениях? Разве не лучше облегчить страдания, высказав их? И если физическая боль находит облегчение в криках, разве не естественно, мадам, что моральные огорчения найдут облегчение в исповеди перед обожаемым существом?
Я знаю, что посылка этого письма может показаться преждевременной и неразумной, и только доброта…»
Весьма наблюдательная Мари заметила, в какую сторону развиваются события, и незамедлительно уволила Фанни. Осталось неизвестным, отправил ли Поль это письмо, но несомненно то, что он надеялся перевести эту неопределенную и скоротечную интрижку в нечто более долговременное.
А чем между тем занималась Ортанс? Уже около пятнадцати лет она обреталась где-то на задворках жизни Сезанна, занимаясь воспитанием сына и существуя на неправдоподобно малое содержание. Как можно заключить на основании ряда обстоятельств, Поль уже долгое время не поддерживал с ней супружеских отношений. Чем больше Сезанн стремился к женщинам, тем сильнее был у него страх оказаться подавленным. Метания художника между экзальтированной раскрытостью и угнетающей уверенностью в неминуемом поражении, между счастливой погруженностью в работу и реакцией подавляемых естественных потребностей в любом случае делали достижение гармонии с женщинами для него более чем трудным делом. Случившаяся единожды неудача должна была умножить его неуверенность в себе и помешать новым попыткам. Золя, у которого был тонкий нюх на такие вещи, изобразил Клода в «Творчестве» уклоняющимся от супружеских контактов с Кристиной сразу после первого счастливого периода их союза. Художник избегал свою жену, обуреваемый яростными попытками посвятить себя всецело искусству: «Она хорошо знала, почему он ею пренебрегает. И прежде не раз, когда наутро ему предстояла большая работа, если Кристина прижималась к нему в постели, он отказывался от нее под предлогом, что это слишком его утомит; потом уверял, что после ее объятий должен три дня приходить в себя, так как у него затуманена голова и он не способен создать ничего путного. Так мало-помалу и произошел разрыв: то он неделю ждал, пока закончит картину, потом — месяц, чтобы не помешать другой картине, замысел которой в нем зрел, потом — еще отсрочка, новые и новые предлоги… Постепенно их отчуждение стало привычкой, превратилось в полное пренебрежение ею».
И совершенно логически Золя показал самоубийство художника именно как следствие краткого возврата к супружеским отношениям, как деструктивное последствие сексуального опыта после полного пренебрежения женой. Сам писатель также страдал от убеждения в глубокой, хотя и неясной связи между деторождением и художественным творчеством. В примечаниях и набросках к «Творчеству» говорится: «Зарождение произведений искусства — охватываешь натуру, но никогда не овладеваешь ею. Борьба женщины против работы, порождение произведения против порождения настоящего, плотского». Подобный подход с его концепциями соития как занятия, ослаблявшего силы, как иссушения и загрязнения в основном проистекает от остатков юношеского стыда по поводу первых самоудовлетворяющих наслаждений.
Четырнадцатого мая Поль написал Золя из Жа де Буффан. Не совсем ясно, был ли он в то время в отношениях с Фанни или (что более вероятно) он надеялся, что его письма побудят ее ответить. Также остается лишь гадать, что он собирался делать в случае ее ответа. Исходя из того, с каким пылом он к ней обращался в известном нам черновике, можно предположить, что Поль рассчитывал на постоянные отношения. Золя как друга он просил оказать ему услугу — «ничтожную для тебя и очень важную для меня». Поль хотел, чтобы Золя разрешил ему использовать свой адрес для возможной корреспонденции Фанни. «Может быть, я сошел с ума, а может, еще сохраняю какое-то соображение. Trahit sua quemque voluptas! (Всякого влечет своя страсть. — Вергилий. «Буколики», II, 63–64. — Ред.). Я обращаюсь к тебе и прошу отпущения грехов. Счастливы разумные. Не отказывай мне в этой услуге, мне больше не к кому обратиться». В постскриптуме Поль добавил в своем обычном стиле — помесь самоуничижительного юмора с глубокой серьезностью: «Я беден и не могу оказать тебе никакой услуги, но, так как я умру раньше тебя, я выхлопочу тебе у Всевышнего хорошее местечко».
* * *
В Жа де Буффан должно было существовать множество взаимных обвинений и претензий. Связь Поля с Ортанс, хоть она и порицалась ранее всячески, ныне сделалась единственно возможной основой для сколько-нибудь респектабельного союза. Поль сбежал на север и нашел убежище у Ренуара в Ла Рош-Гийон, в департаменте Сены-и-Уазы, но в своих затруднениях ему не признался. Лишь одному Золя он мог открыть свое сердце. В письме к нему от 15 июня Поль сообщил о своем приезде в Ла Рош-Гийон и попросил пересылать возможные письма в это местечко до востребования. 27 июня он умолял Золя: «Предупреди меня, пожалуйста, когда ты соберешься ехать в Медан. Я неспокоен, но мне хочется переменить место. Счастливы верные сердца. Я кланяюсь тебе и заранее благодарю тебя, и особенно за твою любезность по пересылке писем из Экса. Золя отправился в Медан, но его жена по случаю болезни осталась в Париже. 3 июля Поль отправил ему еще одно письмо, в котором говорилось: «Жизнь здесь из-за непредвиденных обстоятельств становится довольно трудной. Извести, пожалуйста, сможешь ли ты принять меня у себя?» Через три дня Поль написал письмо с извинениями: «Прошу извинить меня. Я болван. Представь себе, я позабыл сходить за твоими письмами до востребования. Это объясняет мое второе настойчивое письмо. Благодарю тебя тысячу раз». Теперь он просит Золя писать прямо на адрес Ренуаров в Ла Рош-Гийон, оговорив в постскриптуме, что это не распространяется на письма из Экса (то есть от Фанни). В случае прихода такого письма к Золя Поль просил его тут же обозначить это крестиком в углу писем от него самого. Похоже, что трудные обстоятельства, о которых писал ранее Поль, означали расхождение с Ренуарами, которые выступали против его любовных увлечений и разрыва с Ортанс.
Одиннадцатого июля Поль написал Золя, что он уезжает в Виллен, где намерен остановиться в гостинице. «Как только я приеду, сейчас же зайду на минутку повидаться с тобой. Я хочу попросить тебя, нельзя ли мне воспользоваться «Нана», чтобы написать этюды; как кончу работу, я верну лодку под отчий кров». На лодке Поль собирался переправляться на остров, расположенный напротив дома. Оттуда он предполагал написать Шато де Медан. «Если я не работаю, я очень скучаю». В постскриптуме Поль добавлял: «Не усмотри ничего предосудительного в моем решении. Мне только надо переменить место. Кроме того, когда ты будешь свободен, мне нужно будет сделать один шаг — и я у тебя». Через два дня из Вернона он заявлял: «В эту праздничную неделю в Виллене устроиться невозможно. Ни в «Софоре», ни в «Берсо», ни в «Отель дю Нор». Я пишу тебе из Вернона, «Отель де Пари». Если тебе пришлют холсты для живописи, получи их и сохрани до моего приезда. Заранее благодарю тебя». Прости меня за то, что я приезжаю к тебе в таких вот обстоятельствах, но ждать еще несколько дней было бы для меня слишком долго».
Девятнадцатого июля, все еще из Вернона, Поль написал следующее типичное для него по нерешительности письмо. «Как ты просишь, я поеду в Медан в среду и постараюсь выехать с утра. Я хотел еще поработать, но был в сомнении, раз я должен был ехать на юг, то лучше поехать скорее. С другой стороны, может быть, правильнее еще немного подождать. Я растерялся, может, еще сумею выпутаться». Наконец Поль получил приглашение на 22-е. После примерно трех лет разлуки Золя и Сезанн вновь встретились на несколько дней. В письме от 25 июля Косту говорится, что Алексис также находился в то время с ними. Золя в то время начал толстеть, он весил около 95 килограммов, а в талии имел 44 дюйма, то есть около 110 сантиметров. Он страдал от диабета и был вынужден ходить с женой на лечение к Монт-Дору. С каждым новым романом он все увеличивал свои владения. Садик превратился в целый парк, была посажена липовая аллея, были оборудованы теплицы, голубятня и т. д. Но нет никаких оснований предполагать, что эта встреча между ним и Полем была менее сердечна, чем все предыдущие. Именно к Золя Поль обращался во всех своих затруднениях, так он сделал и на этот раз.
Двадцатого августа Поль был снова в Эксе, он каждый день ходил в Гардан, в деревню в восьми милях от города, где старые дома громоздились по узкой улице на вершину холма, увенчанную приземистой колокольней. «Я получил твой адрес, — писал Поль Золя, — в прошлую субботу и должен был бы тут же тебе ответить, но меня отвлекли неприятности, которые сперва показались мне очень большими». Этими неприятностями больше не был его отец, но сестра Мари и мать, вошедшие в союз с Ортанс. Через пять дней Поль снова писал Золя. Письмо это полно таинственных намеков и отчаяния. «Это начало комедии. Я написал в Ла Рош-Гийон в тот же день, что послал тебе благодарность за то, что ты помнишь обо мне. С тех пор я не имею сведений. Я в полном одиночестве. Мне остается городской бордель и больше ничего. Я откупаюсь деньгами, это грубо сказано, но мне необходим покой, а этим я его получу. Поэтому я прошу тебя не отвечать, мое письмо должно было прийти вовремя. Я благодарю тебя и прошу меня извинить». Далее Поль добавил: «Если б только мое семейство было бы побезразличнее, все пошло бы очень хорошо».
Определенным образом Поль к этому времени оставил все надежды на дальнейшее общение с женщинами. Трудно сказать, насколько серьезно следует отнестись к словам Сезанна относительно борделя. Обладая столь пугливым характером и к тому же особой фобией к прикосновениям, вряд ли он был способен на частое посещение этого заведения. Но вполне возможно предположить, что в своем смятенном состоянии он, настоятельно нуждаясь в разрядке, мог заставить себя заплатить за нее такую цену. В этом заключался откровенный смысл его слов, и вполне могло случиться так, что в Эксе или, более вероятно, в Марселе, он мог обрести смелость обратиться к профессиональным жрицам любви. Действительно, для такого, как он, в его возрасте, когда надежд на счастливый любовный союз больше не оставалось, общение с проститутками было наиболее естественным выходом. Показательно, что именно в это время позы его купальщиков теряют прежнее напряжение и дисгармонию и достигают некой «умиротворенности» в теле.
Что касается Фанни, то хотя, насколько известно, она и не делала никаких попыток к контактам с Полем, она бережно хранила подаренный ей холст с изображением уголка сада Жа де Буффан. Только много лет спустя, лежа в больнице, она продала эту картину — очень дешево — работнику из Службы общественного призрения, который, кажется, понимал истинную ее ценность.
Соответственно на 1885 год падает особенно много эротических тем в том духе, что, казалось, уже умерли после «Битвы любви». Примерно этим временем можно датировать эскизы сцен карнавала, в которых Арлекин слева пылко обнимает женщину, мужчина в шляпе с двумя рогами сидит, опершись на стол, справа видна другая обнимающаяся пара. Рисунок с двумя самозабвенно танцующими фигурами предположительно относится к этому же времени. Но период возбуждения был слишком краток для Поля, чтобы эти наброски успели воплотиться в законченные картины.
Следует отметить также представительный рисунок с фавном, атакующим женщину.
Наиболее важным, однако, в его приготовлениях к попыткам раскрыть заново место любви в жизни было возвращение к теме «Суд Париса». Написанная им на этот сюжет картина была необычной по композиции. Три богини были скомпонованы несогласованно друг с другом — одна из них тщетно пыталась уйти прочь, другая низко склонилась, отвернувшись от Париса, хотя и протянув к нему руку в жесте, напоминающем жест богини из второго «Искушения святого Антония»; третья, Афродита, расположилась позади других, принимая полную пригоршню яблок от Париса. За Парисом изображена четвертая женщина (очевидно, Елена — награда от Афродиты), которая приподнимает покрывало жестом, напоминающим диагональное расположение рук купальщиков. В данном случае это должно означать приглашение к эротическому союзу.
К этому времени также следует отнести композицию «Леда и лебедь», в которой красивого оттенка небесно-голубой фон, голубые подушки с желтыми кисточками. Сам лебедь также имеет голубовато-белый оттенок (подобно постели и одежде), клюв у него темно-желтый. Тело Леды трактовано в желтовато-розовых тонах, на которые положены голубовато-зеленые тени. Моделировка фигуры сделана исключительно одним колоритом. В связи с лебедем уместно вспомнить о значении птицы в «Пунше» и в версиях второго «Искушения». С «Ледой и лебедем» связана картина «Обнаженная», в которой модели придана та же поза. Здесь у женщины шея голубовато-серая, кожа — голубовато-розовая, а стол, одежда и груши написаны желто-зелеными, зеленовато-белыми и желто-красными тонами. Высказывались предположения, что, изображая женщину, Сезанн имел в виду Нана, может быть, это действительно так, но доказательств данной гипотезе нет. В этой картине любопытно то, что место лебедя (в предыдущей композиции) здесь занимает круглый стол и две груши. Этот своеобразный натюрморт специфическим образом развернут в пространстве картины, что придает ему ту же функцию, что и лебедю в более ранней вещи. Столу с грушами придан динамичный ритм, как бы оживляющий его. Огромная груша с черенком напоминает нечто фаллически-клювообразное. Такого рода превращение лебедя в формы натюрморта проясняет, какие сильные чувственные образы лежат в основе «конусов и сфер» объектов Сезанна, особенно его фруктов. Можно еще добавить, что сам характер расположения этих двух груш делает их отчасти похожими на гениталии.
Золя собирался отправиться на юг и приехать в Экс в начале сентября. Вместе с женой он успел добраться до Монт-Дора, но потом отказался от дальнейшего продвижения, так как до него дошли слухи о холере в Марселе. Сам Золя полагал, что в Эксе будет достаточно безопасно, но его жена, будучи от природы болезненной, испугалась инфекции.
Примерно в это время Максим Кониль купил прекрасное имение Монбриан к юго-западу от Экса. Дом был расположен на живописном высоком холме и глядел фасадом на длинную долину реки Арк с горой Сент-Виктуар в отдалении. Поль часто писал там пейзажи, располагаясь непосредственно около имения или по соседству, например в Бельвиле, с его скотным двором и голубятнями. Излюбленным его местом было маленькое дерево, из-под которого открывался вид на долину и гору. Ему нравилось это узкое место, в которое он мог войти и окружить себя со всех сторон широкими планами и могучими массами; нравились также и четкие разграничительные линии в пейзаже (железная дорога на первом плане, далее виадук).
За всеми своими потрясениями этого года Поль вряд ли заметил, что бывший некогда его героем Валлес скончался от диабета. На похоронах огромная толпа сопровождала погребальные дроги, скандируя «Да здравствует Коммуна!». Банды Деруледа атаковали процессию, шедшую под красными флагами, получилась свалка, и, таким образом, Валлес закончил свой жизненный путь вызывающим и беспорядочным образом, то есть примерно так, как он и мечтал.
Утром 23 февраля Золя написал последние страницы «Творчества». Это было описание похорон Клода: похорон его собственной молодости, и вместе с тем это были похороны его долгой дружбы с Полем. 4 апреля Поль, находясь в Гардане, поблагодарил Золя за присылку романа. Короткая эта записка была последним письмом Сезанна к Золя. «Я благодарю автора Ругон-Маккаров за память, — писал Поль, — прошу позволить пожать ему руку, вспоминая старые времена. Под впечатлением прошлых лет искренне твой». Возвышенный, безличный и элегический тон придает посланию прощальный характер. Не говорится, прочел ли он книгу, но он определенно понял ее смысл. Роман печатался выпусками в «Жиль Блаз», к тому же в феврале Поль был вместе с Писсарро на литературном вечере, где некоторые молодые поэты отзывались о новом романе как об «абсолютно плохом». Особое отношение Золя к известным художникам обеспечило с их стороны огромный интерес к его первым же выпускам. Гийме писал Золя 1 февраля: «Я выведен под именем Бенненкура, который обрисован столь прелестно, так живо, так правдиво, что я заново пережил частицу моей — и твоей — юности; и тихое течение Жанфосса, и острова, и все былое вновь возникло в моей памяти — я был весьма тронут. Так приятно снова стать чуточку моложе». Поль знал, что Золя в этом романе, насколько мог полно и глубоко, оценивал его и как человека, и как художника, знал и то, что он был представлен неспособным достичь исполнения своих мечтаний — невротиком, безнадежно неуверенным в себе, с расшатанными чувствами, чьим логическим концом было лишь самоубийство. Можно было соглашаться с тем, что Золя вовсе не предполагал, что собственный конец Сезанна будет примерно таким же, но это нимало не уменьшало шок. Методом Золя было взять из жизни характер или несколько характеров с глубокими противоречиями и довести в своем описании эти противоречия до предела. Так, он показал в «Завоевании Плассана» отца и мать Сезанна полностью разрушенными антагонистическими чертами, которые лишь в скрытой форме присутствовали в их действительной жизни. А в «Творчестве» была дана тщательная и детализированная картина всех неявных и смутных фрустраций и страхов Поля.
Золя намеревался хорошо документировать свою работу и изобразить целое поколение художников. Хотя Поль и был в центре его мыслей в процессе работынад книгой, он не собирался давать прямую картину борьбы и поражений Сезанна. В свойственной ему систематической и, можно сказать, поточной манере Золя кропотливо собирал фактический материал. Гийме рассказывал ему, как работало жюри Салона, Журжен снабжал его информацией об архитектуре, а Бельяр рассказывал о музыке. Золя собирал детали о торговцах картинами и коллекционерах, изучал Салон и его ответвления, входил во все обстоятельства парижской жизни, которые он считал важными для полноты картины. Для описания самоубийства Лантье Золя воспользовался действительно происшедшим случаем с одним молодым отвергнутым художником, который покончил с собой в 1866 году. Золя побывал у него в мастерской и описал это посещение в статье в «Эвенман» в виде предисловия к дальнейшей атаке на жюри. Вместе с тем, чтобы несколько изменить портрет Поля, он смешал его черты с чертами Моне, Мане и других художников. Подавая своего Клода постромантиком, Золя не обращал внимания на описания техники и не приводил анализа метода его живописи в строго импрессионистских терминах. Но при всех своих предосторожностях и хороших намерениях он не избежал притяжения личности художника, которого он знал очень хорошо, чьи надежды он столь страстно разделял и чья неуверенность в себе, взрывы отчаяния и неврозы помешали ему до конца понять своего друга.
«В образе Клода Лантье я хотел показать борьбу художника с природой, творческий порыв и искания художника в произведении искусства, усилия крови и слез, чтобы создать плоть, наполнить ее жизнью. Постоянная схватка и постоянное поражение. Я расскажу о своих собственных трудах и днях, о своих повседневных заботах. Но я расширил тему и драматизировал ее, выведя образ Клода, который никогда не бывает удовлетворен, который страдает от своей неспособности создать порождение его собственной души и который в конце концов убивает себя перед своей незавершенной картиной. Он не является важным художником, но это творец с чрезвычайно большими запросами, который жаждет вместить всю природу в одно-единственное полотно и который умирает за этой попыткой. Я опишу, как он создает несколько превосходных вещей — незаконченных, неизвестных и, возможно, забавных и осмеянных. Затем я дам ему мечту о великолепных страницах современного декора, о фресках, призванных увенчать целую эпоху, и все это должно будет сокрушить его».
Итак, хотя Золя вывел самого себя под именем Сан доза, он воплотил часть собственной натуры и в Клоде, хотя основой этого образа был, конечно, Поль. Но Золя смог сделать это лишь вследствие того, что многие творческие элементы характера у него были общими с Полем, это мы уже отмечали ранее. О своем герое Золя говорил: «Я помещу его в историю искусства после Энгра, Делакруа и Курбе». Его Клод восстал против «слишком темного и слишком переваренного (cuisine) искусства». Он «должен получить больше от природы, больше от открытого воздуха и света. Разложение света. Очень чистая живопись. Но все это на величественных и огромных холстах, с большими постановками. В основе своей он романтик, созидатель. Отсюда и борьба. Он жаждет объять сразу всю природу, которая ускользает от него».
Во всем этом есть глубокое проникновение в проблему Поля, которая создана конфликтом между художником-пленэристом и импрессионистом, с одной стороны, и романтиком и творцом, с другой. Стремление охватить новые области чувства посредством цвета и вместе с тем попытки передать многообразие жизни большими, многозначительно составленными композициями. В своих набросках Золя словно забывает, что описывает Клода Лантье, и просто анализирует Поля. «Не забыть отчаяние Поля; он всегда думал, что открывает живопись. Явное разочарование, всегда готовый все бросить, затем быстро делается произведение, попросту набросок, и это спасает его от крайностей безнадежности. Вопрос в том, чтобы узнать, что именно создает невозможность его самоудовлетворения: прежде всего он сам, его физиономия, его происхождение, его видение; но я предпочту, чтобы при этом играло роль наше современное искусство, наше горячее стремление делать все сразу, наша страстность в разрушении традиций, — одним словом, наш недостаток умения лавировать. Что удовлетворяет Г. (Гийме. — Дж. Л.), не должно удовлетворять его, он идет дальше и все портит. Это незавершенный гений, без полного воплощения; ему не хватает весьма малого, это зависит от его физической природы, добавить, что он создал ряд совершенно великолепных вещей. Это Мане, драматизированный Сезанн, ближе к Сезанну».
Фраза о том, что «может удовлетворить Г.», напоминает нам о советах Золя в письмах 1860 года к Полю.
Соображения критиков, насколько Клод Лантье действительно художник-импрессионист, лежат в стороне от проблемы. Клод — это Поль в самой сущности, и искусство, которое он стремится найти, это искусство, которое искал Поль. Почему Поль на самом деле избежал того возмездия, которое постигло Клода, объясняется рядом факторов, оставшихся за пределами романа. Писсарро сумел отвратить Поля от того конфликта, что был описан в романе и намечен в заметках к роману Золя. Писсарро обеспечил Сезанну убежище, в котором тот мог естественным образом обратиться к природе и ослабить напряжение романтически созидательной стороны своей творческой личности. Благодаря Писсарро Поль нашел отдохновение в глубоком и любовном изучении натуры и уже потом сумел на базе этого обновить и модифицировать свои романтико-теургические наклонности. Он просто не мог продолжать битву за великое посредством несовершенных форм, которые были в его распоряжении в ранние годы, — те самые формы, которые описывает Золя в «Творчестве». Сезанн избежал самоубийства пли попросту краха благодаря тому, что уменьшил свои притязания и переосмыслил их в соответствии с уроками, полученными от Писсарро. Такие художники, как Писсарро, Моне, Ренуар, которые поддерживали весьма тесные контакты с Полем, могли постоянно видеть и оценивать те его качества, которые полностью проявились в поздние годы. Что же касается Золя, то он не был последовательным свидетелем творческой эволюции Поля да и вообще не обладал профессиональным взглядом живописца. Поэтому он и не мог заметить решительный поворот, сделанный Полем от манеры своих первых лет. Золя вполне чистосердечно видел лишь те черты в Поле, которые казались ему признаками грандиозного поражения, — символ того тупика, в который, как чувствовал Золя, сползало искусство. В этот тупик вели, с одной стороны, блестящее использование разных аспектов чувственно воспринимаемой художественной формы, а с другой — разразившаяся неспособность художника к великой интегрирующей силе, к мощи художника, «созидающего мир».
Полю очень понравились первые страницы романа, в которых перед ним ожили волшебные годы юности. И тем страшнее показались ему последние события повествования, когда самые слабые стороны его характера подверглись безжалостному анализу и были выставлены напоказ. Человек, столь сильно страдавший от неуверенности в себе и мыслей о собственном бессилии, не мог не быть уязвленным в самое сердце таким сильнейшим и безжалостным портретом, в котором он представал как безнадежно обреченный на поражение.
Импрессионисты были в большинстве опечалены и испуганы книгой Золя. «Какую прекрасную книгу он мог бы написать, — заметил Ренуар, — не просто исторический очерк очень самобытного явления в искусстве, но также и «человеческий» документ… если бы в «Творчестве» он бы побеспокоился связать все то, что он видел и слышал на наших сборищах в мастерских, с жизнью своих персонажей. Но, в сущности, Золя ни черта не позаботился о том, чтобы описать своих друзей так, как они действительно выглядят в жизни, впрочем, это лишь к их пользе». Это была вполне естественная реакция, но она совершенно не входила в цели Золя. Танги был ошеломлен: «Это неверно! Я бы никогда не подумал так о нем. И это Золя, который был такой приятный человек и друг всех этих художников! Он не понял их. Это величайшая неудача». Писсарро писал своему сыну Люсьену в марте, что он обедал с друзьями-импрессионистами и долго разговаривал с Гюйсмансом, «который весьма консервативен относительно искусства и всегда готов поддеть нас. Мы беседовали о «Творчестве». Гюйсманс как будто не соглашался с Золя, который был очень встревожен. Однако, когда Писсарро заявил, что перестал читать книгу, он остался невозмутим. Клоду Моне, который боялся, что книга принесет большой вред их направлению, он сказал, что это еще только половина книги, и не согласился с художником. «Это романтическая книга. Я не знаю, что там будет в конце, это неважно. Клод недостаточно выписан, Сандоз обрисован получше, и он вполне понимает своего друга». Моне продолжал придерживаться своей точки зрения. Он писал Золя: «Я вел борьбу в течение долгого времени, и вот теперь, когда наконец мы стали завоевывать какое-то положение, я боюсь, что эта книга поможет нашим врагам опорочить нас». Ни Моне, ни Писсарро, пожалуй, не чувствовали, что в образе Клода следует видеть Сезанна. Моне писал: «Вы были намеренно осторожны, чтобы не списывать героя ни с кого из нас, но тем не менее я опасаюсь, что наши недруги среди публики и прессы опознают во всех неудачниках Мане и всех нас, хотя я не могу поверить в то, что это было Вашим откровенным намерением». Можно понять, что Моне не сумел идентифицировать персонажей, прототипами которых были Солари, Кост, Байль, Гийме, Алексис, но то, что он не распознал в Клоде Сезанна, это очень странно. Спустя много лет Золя ответил одному юному студенту, который спросил его о прототипах романа: «Это все неудачники, о которых вы вряд ли знаете». Не тогда, а много позже и лишь благодаря определенной утечке информации было сделано предположение, что Золя изобразил «в одном из главных персонажей моральные черты и творческие взгляды Сезанна». Тем временем множились свидетельства художников, которые были естественным образом раздосадованы тем, что представлялось им как поражение Золя в попытке судить импрессионистов. Дега холодно заметил Моризо, что Золя написал книгу с единственной целью показать превосходство писателя над художником. Мур рассказывает:
«Однажды вечером после большого обеда, данного в честь публикации «Творчества», когда большая часть гостей уже ушла и компания состояла из друзей дома, возникла дискуссия о том, был или не был Клод Лантье талантливым человеком. Мадам Шарпантье путем весьма провокационного утверждения, что в нем не было ни частицы того, что сделало Мане выдающимся живописцем среди живописцев, заставила Эмиля Золя поднять оружие и защищать своего героя. Увидя, что большинство присутствующих думают заодно с Шарпантье, он бросил камень в гущу противников и заявил, что он наделил Клода Лантье куда как большими дарованиями, чем природа отпустила Эдуарду Мане. Это утверждение было встречено негодованием со стороны присутствующих, которые практически полностью были друзьями Мане и почитателями его таланта и не желали выслушивать ни единого слова против их дорогого почившего друга. Следует заметить, что Эмиль Золя не собирался приуменьшать заслуги Мане, но он хотел лишь защитить идею книги, а именно — что никакой художник, работающий в современном направлении, не сумел достичь того результата, который превзошел бы уровень некоторых из современных писателей — писателей, вдохновлявшихся теми же теориями, исповедовавших ту же эстетику. И, отвечая кому-то, превозносившему Дега, Золя ответил: «Я не могу считать человека, который посвятил всю свою жизнь рисованию балетных девиц, равным по силе и величию Флоберу, Доде и Гонкурам».
Если сформулировать более точно, что Золя имел в виду, то это можно выразить так: «Почему Сезанну не удалось выразить в искусстве тот широкий горизонт современной жизни, который я охватил в своих романах? Почему он не может выразить в современных формах романтически созидательные побуждения, подобно тому, как я это делаю?» И такова была мера практически полного отсутствия имени Сезанна в сознании критиков, писателей и художников, что они в основном сосредоточились на связи Клода и «Завтрака на траве» Мане и полагали, что именно личность Мане сыграла решающую роль в зарождении образа Клода и концепции романа. Гийме, сам хотя бы отчасти послуживший прототипом одного из наименее привлекательных персонажей романа (Фажероля), не сумел признать связь с Сезанном, даже когда он упоминал его имя в своем письме протеста:
«Весьма захватывающая книга, но очень обескураживающая, вся, как есть. Каждый в ней какой-то бестолковый, плохо работает, плохо думает. Все наделенные талантом оказываются неудачниками и кончают свой путь, создавая дурные произведения. Вы сам в конце книги становитесь полностью фрустрированным, это не что иное, как пессимизм, используя модное слово. Но, к счастью, действительность не так уж печальна. Когда я начинал заниматься живописью, я имел честь и удовольствие знать целую плеяду современных гениев — Домье, Милле, Курбе, Добиньи и Коро, наиболее человечного и чистого среди всех. Все они умерли, успев сделать лучшие свои работы, и всю свою жизнь они продвигались вперед. А Вы сам, чьим другом я горжусь считать себя, разве Вы не продвигаетесь постоянно вперед, разве «Жерминаль» не является одной из лучших Ваших работ? А в самой последней Вашей книге я обнаружил лишь печаль и бессилие…
А что касается друзей, которые ходили к Вам на четверги, — не думаете ли Вы, что они кончат столь же плохо? — я хочу сказать, столь же смело? Нет. Наш добрый Поль прибавляет себе весу под ласковым солнцем юга, наш Солари царапает своих богов — никто и не думает повеситься, слава богу. Давайте надеяться, что маленькая шайка, как называет ее мадам Золя, не будет стремиться узнавать себя в этих неинтересных героях, ибо к тому же описаны они зло».
Поль, однако, не был обманут. Для него появление романа означало прекращение всех отношений с Золя. Дочь последнего рассказывала, что когда мадам Золя спросили много лет спустя, почему разорванная дружба никогда не была восстановлена, она ответила: «Вы не знаете Сезанна, ничто не способно заставить его изменить то, что он думает». Можно заключить, что Золя делал попытки примирения, но Поль отвергал их. К несчастью, разные авторы, которые записывали высказывания Сезанна в его поздние годы, были не надежны. Так, Воллар приписывал Полю следующие слова: «Между нами никогда не было произнесено никаких дурных слов. Я сам перестал ходить к Золя. Мне стало там неловко бывать, из-за роскошных ковров на полу, слуг; я терялся, видя Эмиля, восседавшего, как на троне, в резном кресле. Все это напоминало мне нанесение визита министру. Он стал (простите, мсье Воллар, я говорю это не в порочащем смысле) грязным буржуа». Все это, конечно, не так, хотя эти слова могут иметь отношение к саркастическим высказываниям Поля об обстановке в Медане. Воллар добавлял, что Поль еще говорил: «Однажды слуга объявил мне, что его хозяина ни для кого нет дома. Я не думаю, что эти инструкции особенно касались меня, но после этого случая я стал бывать там реже». И в этом случае слова могут быть вполне истинными, но этот эпизод мог приобрести значение лишь после событий 1886 года. Недостоверный Гаске описывал отношения Сезанна и Золя в свойственной ему манере: «Улыбка, которой обменялись Золя со слугой, стоя наверху лестницы в тот день, когда Сезанн поздно пришел к нему, нагруженный багажом, в косо сидящей шляпе, заставила Сезанна никогда больше но приезжать в Медан». Но его довольно сдержанное описание эффекта, произведенного «Творчеством» на Поля в старости, может быть более достоверно. Видимо, в те годы Поль высказывался о Золя более объективно: «Первые главы книги всегда глубоко трогали Сезанна, он утверждал, что в них только чуть-чуть изменено прошлое, они трогали его, потому что в них оживали для него самые счастливые часы его молодости. Затем повествование отклоняется от прежнего пути, и Клодом Лантье начинает овладевать безумие. Сезанн понимал, что это необходимо по плану книги, что теперь Золя уже не думает о нем, Сезанне, и что, вообще, Золя писал не мемуары, а роман, являющийся частью обдуманного обширного замысла. Образ Филиппа Солари, выведенного в романе под именем скульптора Магудо, тоже очень изменен соответственно требованиям повествования, однако Солари, так же как Сезанн, не думал на это обижаться».
Солари не изменил своему культу Золя. И сам Золя, когда я встретил его в Париже через 15 лет после того, как им было написано «Творчество», говорил мне о двух своих друзьях с самым теплым чувством. Это было около 1900 года. Он по-прежнему любил Сезанна, несмотря на то, что тот дулся на него, и испытывал к нему истинно братское чувство дружбы. «И даже, — это точные слова Золя, — я начинаю лучше понимать его живопись, она мне всегда нравилась, но я ее долго не понимал, она казалась мне преувеличенной, а на самом деле она необыкновенно правдивая и искренняя».
Эти слова покажутся еще более правдивыми, если вспомнить, что Гаске принадлежал к лагерю, враждебному Золя, и, конечно, сделал бы все от него зависящее, чтобы показать, что Поль был настроен против своих радикальных и антиклерикальных друзей. Однако имеется и противоположное свидетельство Воллара, согласно которому при одном лишь упоминании «Творчества» Поль разнес в клочки стоявший перед ним холст.
Рассказ Эмиля Бернара, основанный на беседе в 1904 году, представляет собой в лучшем случае глуповато искаженные слова Поля, сказанные им тогда, когда он был в не лучшей форме:
«Мы заговорили о Золя, имя которого в связи с делом Дрейфуса было у всех на устах. «Это был довольно ограниченный человек, — сказал Сезанн, — и очень плохой друг. Никогда ничего не видел, кроме себя самого; роман «Творчество», где он задумал описать меня, сплошной вымысел, просто гнусное вранье, написанное ради пущей славы автора. Когда я поехал в Париж, чтобы рисовать картинки религиозного содержания, — с моей тогдашней наивностью я и не замышлял большего: я ведь воспитан в религиозном духе — я разыскал Золя. Когда-то он был моим однокашником, мы вместе с ним играли на берегу Арка. Он писал стихи. Я тоже сочинял стихи — и французские, и латинские. В латыни я был сильнее Золя и даже написал на этом языке целую поэму. Да, в те времена лицеистов учили на совесть». Тут беседа затронула недостатки современного образования, потом, процитировав из Горация, Вергилия и Лукреция, Сезанн вернулся к своему рассказу: «Так вот, когда я приехал в Париж, Золя, посвятивший мне и Байлю, нашему общему умершему приятелю, «Исповедь Клода», представил меня Мане. Мне очень понравился этот художник и его приветливый прием, но из-за моей обычной стеснительности я не решался часто посещать его. Сам же Золя, по мере того как росла его известность, становился все заносчивее и принимал меня словно из снисхождения; мне скоро опротивело бывать у него, и долгие годы я с ним не встречался. В один прекрасный день он прислал мне «Творчество». Это было для меня ударом, я понял, каковы его представления о нас. Это очень скверная и насквозь лживая книга».
Следует заметить, что Байль (чье имя Бернар приводит в неверной записи) был в то время жив; он умер в 1918 году.
Несомненно, что реакции Поля менялись на протяжении лет и в зависимости от настроения. В моменты депрессии разгорались старые обиды, а в другие периоды он не питал злобы к старому товарищу. Те же колебания можно видеть и в высказываниях Золя. Его дочь рассказывала о той радости, которую выразил ее отец, увидев работы Сезанна в доме у Алексиса. Франк Харрис (вообще-то, не очень надежный автор) писал, что около 1900 года Золя называл Сезанна одним из самых великих художников из всех, когда-либо живших. Однако же Г. Коке в интервью 1896 года приводит высказывание в довольно резком тоне:
«Ах да, Сезанн. Как жаль, что я не смог подтолкнуть его. В моем Клоде Лантье я нарисовал его чересчур мягко, что было б, если бы я захотел рассказать все… Ах, мой дорогой Сезанн и не думает в должной мере об общественном мнении. Он отвергает наиболее элементарные вещи: гигиену, одежду, язык. Даже помимо всего этого, одежды там, языка, все бы ничего, если бы только мой дорогой Сезанн был гением. Вы можете представить, чего стоило мне заставить себя оставить его… Да, начинать вместе, быть единоверцами, гореть одним энтузиазмом — и остаться одному, добиться славы одному — все это великая тяжесть, которая пригибает книзу. И все-таки мне кажется, что, несмотря ни на что, в «Творчестве» я подметил в наиболее важных тонкостях все старания моего дорогого Сезанна. Но что тут можно сделать! Это был последовательный провал, хорошие старты и внезапные остановки, мозг, который больше не хотел думать, рука, которая бессильно падала… Никакой возможности реализовать замыслы».
Эти выражения вряд ли могли принадлежать самому Золя. Скорее всего, сам Коке написал их, услышав общее суждение о «Творчестве» как истории художника, который не мог достичь своих высоких целей. После 1886 года Золя, в общем, оставил мир искусства и перестал интересоваться тем, что там происходит.
Здесь нам следует остановиться, чтобы рассмотреть некоторые черты, в значительной степени общие для Сезанна и Золя. Эти черты позволили Золя с симпатией проникнуть в мир страданий и борьбы Сезанна. Оба они страстно смотрели в прошлое, в мир их совместных юных дней, и оба черпали сильную моральную и эстетическую поддержку в этих воспоминаниях. Известно, насколько Золя любил описывать вновь и вновь годы, проведенные в Эксе совместно с Полем и Байлем. Знаем мы, с другой стороны, и что воспоминания об этом периоде лежат в основе постоянного обращения Сезанна к теме купальщиков. «Сегодня память является единственной радостью, в которой находит отдохновение мое сердце», — писал Золя в «Сказках Нинон». Оба друга обладали и глубоким, почти патологическим страхом перед женщинами и сексуальным опытом. Доктор Е. Тулуз прокомментировал застенчивость Золя с этой точки зрения. Золя в письме к русскому корреспонденту, который собирался переводить книгу доктора, писал: «Это правда, и я принимаю ее». В «Исповеди» рисуется уже глубокий разлад, порожденный мучительным воздержанием, усугубленный тягой к матери. «Моя душа столь требовательна, что ей надобно полное обладание тем существом, которое любишь, так было и в детстве, и во сне, и вообще во всей жизни». Чрезвычайная сосредоточенность на полудетских переживаниях, связанных с образом матери, сказалась впоследствии в том, что безраздельный и доверчивый союз с любой женщиной оказался практически невозможен. Сандоз — Золя в «Творчестве» утверждает, что женщина является разрушительным началом для художника. В другом произведении Золя писал: «Целомудренного художника сразу можно распознать по сильной мужественности всего, чего он касается. В момент творчества он преисполнен желанием, и это желание, стремительно выплескиваясь из-под его пера, рождает великие произведения» («Вольтер», 1879, 5 авг.).
В «Странице любви» (1878) он начал серию, в которой вышел наружу скрытый страх секса, понимаемого как разрушительная сила. Это было продолжено романами «Нана», а также «Накипь». В «Нана» показано разложение высших слоев общества из-за проституток, в «Накипи» средний класс разрушает себя беспорядочными связями. Эти же темы проходят и в «Дамском счастье», и в романе «Человек-зверь». И для Сезанна, и для Золя одержимость работой отчасти проистекала от страха перед отношениями полов, это было попыткой доказать «мужественность» путем создания значительных произведений искусства. Любовь и искусство воспринимались не как взаимодополняющие сферы, стимулирующие друг друга, но как непримиримые соперники, подстерегающие друг друга, чтобы отнять силу. Эти представления были общими для Поля и для Золя, который, обладая большей адаптационной способностью, контролировал себя лучше, чем Сезанн.
Такого рода растравляющие душу представления в свою очередь порождали фантазии из сексуальной сферы, которые персонифицировали в женщине спровоцированные ею страхи удушения и обессиливания. Картинам Поля со сценами насилия и убийства можно уподобить сцены ревности у Золя или сцены чудовищного блудного греха: Нана толкает Хюгона к самоубийству, а Мюффа к религии; в «Жерминале» изображается агония Хеннебо; «Человек-зверь» открывается сценой насилия; в романе «Труд» Дельво заживо сжигает себя вместе с женой.
С этими воззрениями связан постоянный страх смерти и болезни. Поль терзался этим страхом с ранних лет, особенно после смерти отца он жил со слепым убеждением в предстоящем конце. Нервические припадки матери Золя, которым она была подвержена с юности (и которые ослабели с годами), произвели большое впечатление на писателя. Его мать страдала болезнью печени и умерла от сердечного приступа — болезни Аделаиды Фуке в «Карьере Ругонов» были, видимо, списаны с нее. Золя сам с юных дней воображал себя весьма болезненным, об этом содержится ряд заметок в «Дневнике» Гонкуров. Тем не менее, хотя он и находил у себя симптомы практически всех болезней, проведенное после его неожиданной смерти вскрытие показало, что все органы у него работали нормально. Страх смерти терзал Золя постоянно. Он не отваживался лечь спать без ночника, иногда он вскакивал с постели в безотчетном страхе. Свои фобии он описал в рассказе «Смерть Оливье Бекайля» (1879). Подобно Полю, Золя переживал периоды острой депрессии.
Важно подчеркнуть чрезвычайную близость темпераментов художника и писателя, но в то же время необходимо указать и на некоторые различия. Золя имел более сильную волю, чем Поль. Он умел справляться со своими страхами и фантазиями, мог управлять ситуацией. Искусство Золя было весьма экспансивным, тогда как искусство Сезанна было обращено внутрь, было более концентрированным, того типа, который доступен лишь одиноким и погруженным в себя людям. Таким образом, несмотря на множество общих черт, способы выражения этих двух людей были различны. Оба они использовали своих женщин как щиты, прикрывающие их от мира возбуждающего сексуального опыта, которого они и жаждали, и боялись одновременно. Но Золя умел прийти к своего рода рациональному союзу, тогда как Поль пытался найти выход в отдельных случайных встречах. Так, в момент неожиданного порыва он мог поцеловать служанку, но в дальнейшем ничего из этого не извлекал. Вскоре после этого события Золя также захотел поцеловать служанку, но пошел дальше и прижил с нею двоих детей. (Осенью и зимой 1888–1889 годов он снимал в Париже квартиру для Женни Розеро, которая была швеей у мадам Золя. Женни родила ему первого ребенка в сентябре 1889 года, второго — спустя два года.)
Теперь мы можем вернуться к Полю, находившемуся в то время на юге. Примерно через три недели после получения «Творчества» он поддался давлению матери и Мари и официально сочетался браком с Ортанс в мэрии Экса. Свидетелями его были Максим, служащий, и мелкий чиновник из Гардана Пейрон. При церемонии присутствовал его сын, которому было уже четырнадцать лет. После Поль отправился пообедать со свидетелями, а Ортанс в сопровождении родственников поехала в Жа де Буффан. Брачное свидетельство было подписано Луи-Огюстом и его женой. Религиозная церемония состоялась на следующее утро в церкви Иоанна Крестителя на улице Секстия. Но свадебная церемония отнюдь не означала возрастания роли семейной домовитости, не означала она и то, что Ортанс с распростертыми объятиями примут в семейное лоно. Напротив, разрыв между Полем и его женой окончательно уже оформился, и все семейство объединилось в нелюбви к Ортанс. В результате всего этого она предпочитала жить отдельно с сыном в Париже. Поль продолжал жить в Жа де Буффан, и женщинами, принимавшими в нем участие, были его мать и сестра Мари. Последняя установила строгую опеку над братом, а мать ревновала его к Ортанс.
Письмо Сезанна, написанное Виктору Шоке из Гардана 11 мая 1886 года, показывает, в каком состоянии духа он оказался в результате женитьбы. Он страдал «от плохой погоды и плохого самочувствия». В свойственном ему стиле Поль противопоставляет свои увядшие мечты и процветающую семейную жизнь Шоке.
«Я не собираюсь давить на Вас, я имею в виду в моральном отношении, но раз уж Делакруа сдружил нас, то я позволю себе сказать Вам, что я хотел бы иметь Вашу моральную уравновешенность, которая позволяет Вам твердо идти к намеченной цели. Ваше милое письмо и письмо мадам Шоке свидетельствуют о Вашей жизненной устойчивости, именно этого мне не хватает, и об этом я и хочу поговорить с Вами. Случай не наградил меня таким самообладанием, это единственное, чего мне не хватает на земле. Остальное у меня все есть, я не могу пожаловаться. Я по-прежнему наслаждаюсь небом и безграничностью природы.
Что касается осуществления самых простых желаний, то злая Судьба как будто нарочно вредит мне: у меня есть несколько виноградников, и так хотелось увидеть уже распускающиеся листья, но неожиданный мороз их погубил. И я только могу пожелать Вам успеха в Ваших начинаниях и пожелать расцвета растительности; зеленый цвет самый веселый и самый полезный для глаз; кончая письмо, скажу, что занимаюсь живописью и что в Провансе таятся сокровища, но они еще не нашли достойного истолкователя».
Поражение цветения любви и дальнейшие рассуждения о зеленом как бы говорят, что вслед за разочарованием может вернуться надежда. Любовь разрушает, а живопись восстанавливает. Так как Ортанс неприязненно приняли в Жа де Буффан, он снял для нее квартиру на бульваре Форбен, улице с четырьмя рядами платанов на краю старого города. Временами Поль ходил по вечерам в кафе, где встречался с местным доктором и Жюлем Пейроном, муниципальным деятелем, который иногда представлял город в парламенте. Осел, купленный для перетаскивания художнических принадлежностей, доставлял Полю массу хлопот — иногда он отказывался идти, а иной раз упрямо тащился вперед. Случалось, что в конце концов Поль подчинялся его воле. Он любил на несколько дней уйти из дома, странствуя по окрестным холмам, обедая с крестьянами и ночуя в случае необходимости в сараях. Все время Поль писал окрестности Гардана и гору Сент-Виктуар. Время от времени по воскресеньям приходил Марион, художник-любитель; его замечания о геологической структуре и катаклизмах, ее породивших, были полезны Полю, они помогли ему понять подспудный порядок природы.
Монтичелли, которого в ноябре 1885 года хватил удар, умер 29 июня 1886 года. Примерно в это же время Поль ненадолго отправился в Париж. Он зашел к Танги, у которого стены были плотно увешаны картинами его неудачливых клиентов, к коим теперь прибавились еще Гоген и Ван Гог. Танги время от времени удавалось дешево продать картину. Своих «Сезаннов» он разделил на больших (по сто франков) и маленьких (по сорок); некоторые холсты, на которых было по нескольку этюдов, он, по словам Воллара, разрезал и продавал бедным любителям искусства. Когда он показывал картину, он шел в заднюю комнату своей лавки, доставал из ящика работу, медленно разворачивал ее, и глаза его при этом затуманивались чувством. В конце концов Танги устанавливал картину на стул и молча ждал. С теми, с кем он был получше знаком, он позволял себе комментарии — поднимал палец и говорил: «Посмотрите на небо, на дерево, оно удалось, не правда ли?» Он по-прежнему подкармливал молодых и нуждающихся художников, несмотря на свою собственную бедность. В прошлом году Танги, вынужденный платить своему землевладельцу, написал письмо Полю, чей счет у него достигал четырех тысяч франков. Этот бедняк назначал высокие цены на любимые им произведения искусства, чтобы их подольше никто не купил, а он мог бы ими любоваться сам. Разговаривать о своих художниках с теми, кого он недостаточно хорошо знал, он не любил. С тех пор как Танги вернулся в Париж, отбыв наказание за участие в Коммуне, он боялся шпионов полиции; он полагал, что правительство способно бросить независимых художников (принадлежавших, как он говорил, к школе) в тюрьму.
Мы уже приводили примеры того, что свободомыслящие художники действительно приравнивались к социальным революционерам. Ниже приведем еще несколько примеров. Гоген в письме от 24 мая 1885 года писал о своей выставке в Копенгагене: «Все какие-то интриги. Весь клан старых академиков трепещет, будто речь идет о Рошфоре в живописи. В общем-то, это болтовня, но эффект ужасен». Дюре писал, что, слава богу, полиция, которая пришла арестовывать Танги как коммунара, не обыскала его дом и не предъявила суду картины его друзей и клиентов. «В противном случае его наверняка бы приговорили к расстрелу!» Он же пересказывал историю о дилемме, стоявшей перед Чуди, директором Берлинской Национальной галереи, когда германский император нанес визит в музей. Чуди показал ему работы Мане и импрессионистов, императору они все не понравились, и он приказал засунуть их подальше. Показать ему Сезанна директор даже не осмелился. Однажды, когда Дюре пересказывал этот эпизод некоему коллекционеру живописи XVIII века, тот спокойно заметил, что он очень хорошо понимает поступок Чуди, так как это живопись анархиста, способная лишь вызвать ужас у императора. «Я нашел это суждение о живописи Сезанна весьма типическим. Он всегда воспринимался традиционалистами как некий повстанец и расценивался как анархист, что было эквивалентно коммунару».
Перед тем как вернуться на юг, Поль провел некоторое время вместе с семейством Шоке в Аттенвиле, в Нормандии. Шоке наконец освободился от своих личных денежных затруднений благодаря получению неожиданного наследства, но счастливым себя не чувствовал из-за смерти своей единственной дочери. Поль написал его портрет и вернулся в Экс. Этим же летом на юг к нему приехал Ренуар с женой и сыном, чтобы отдать визит, нанесенный Полем в прошлом году. Ренуар снял жилье у Кони ля в Монбриане и провел там несколько месяцев.
Двадцать третьего октября в возрасте 88 лет умер Луи-Огюст. При разделе его имущества Поль получил около четырехсот тысяч франков. Наконец-то он мог избавиться от всех своих денежных затруднений и связанных с этим страхов. Но в то же время он со свойственными ему возрастающими страхами почувствовал в таком освобождении новую опасность. Долгое ожидание смерти отца наконец закончилось и ударило по нему самому. Когда мы прибавим к этому все остальные удары, обрушившиеся на Поля в 1885 и 1886 годах — неудачу в сразу оборвавшемся любовном приключении, унижение, которому он подвергся, отведенный чуть не под конвоем к алтарю с женщиной, уже давно ничего не значившей для него, и то потрясение, которое он испытал, читая «Творчество», мы можем понять, почему он, в возрасте сорока семи лет, был уже вполне старым человеком, уверенным, что смерть не заставит себя долго ждать; здоровье его было совсем расшатано. Но поскольку самое худшее уже свершилось и ему больше нечего было бояться, кроме как возможности стать инвалидом, неспособным к работе, то он посвятил себя своему искусству с возросшим усердием. Сознание того, что у него мало времени, могло бы деморализовать другого человека, но у Сезанна это стало источником неиссякаемой силы, заставлявшей его вкладывать всю оставшуюся энергию в чрезвычайно сосредоточенное изучение натуры и попытки самовыражения. Этот род давления издавна двигал им, но лишь теперь он достиг своей крайней величины. Сезанн не просто нуждался в постоянной работе, он также нуждался в том, чтобы посвятить все свои силы битве за углубленное понимание чувства цвета и формы, точнее, цветоформы, то есть модуляций цветовых планов, компонующих пространство.
Глава 3
Снова вперед
(1887–1889)

1887 год Поль провел на юге, неустанно работая. Его состояние того времени выражает «Автопортрет с палитрой». Погруженность в работу выражена тем, что линии палитры и мольберта ограждают художника и составляют своего рода жесткую, держащую взаперти фигуру художника структуру. Этот эффект еще усиливается тем, что вверху и слева оставлено свободное пространство, а также тем, как моделирована фигура. Тело как бы вырастает из ограждающего «ящика», но вместе с тем и поглощается им. Возникает впечатление, что человек одновременно и свободен, и связан. М. Шапиро писал об этом портрете: «На лице, выписанном широкими угловатыми плоскостями, внутренняя граница волос и бороды изгибается той же линией, что и закругленная сторона палитры. Выступ бороды на щеке соответствует выступающему из палитры большому пальцу, а также внутренняя линия бороды симметрична лацкану пиджака под ней. Таким образом одна из самых человечных деталей сопрягается с формами вещного мира, и все в равной степени стабильно и четко. Подобная слитость достигает наивысшей точки в удивительном совпадении линии палитры и рукава, которые по вертикали образуют как будто одно тело, параллельное раме».
Совершенно плоская палитра без всяких перспективных сокращений или пространственных ракурсов выглядит преградой, которая защищает собственный мир художника, мир сосредоточенности и одиночества. Лицо, и в особенности глаза, не закончено, но это, пожалуй, лишь усиливает впечатление дикой, неприрученной силы. Художник слишком погружен в созерцаемую им реальность, чтобы казаться живым в обычном смысле. Его жизнь стала одним целым с актом творения. Он и удален от мира, и мощно в нем присутствует.
В результате сильных эмоциональных потрясений, которые Сезанну довелось пережить в 1885–1886 годах, развитие его искусства несколько задержалось. В стиле этих лет он использовал параллельные мазки для передачи резко очерченных диагональных плоскостей, отрезков, сужающихся к концу клиновидных плоскостей, которые относятся к наиболее законченно-типическим из всех Сезанновых формул. Этот стиль возник в результате естественного смешения достижений семидесятых и начала восьмидесятых годов. Потрясения тех лет привели к тому, что впервые за все время Сезанн стал топтаться на месте и потерял руководящий импульс. Он все больше стал повторяться. Разработка глубины пространства вновь, как когда-то, стала неглубокой, в основном Сезанн занимался поверхностью картины, результатом чего явился сухой линеарный стиль. В этот период он больше чем когда-либо ранее оставлял работы незаконченными. «Он резко свернул со старого пути и отказался от того умения, которым он овладел в болезненной борьбе с природой и самим собой», — писал Гаске. Примером работы в этом линеарном стиле является картина «Ореховые деревья в Жа де Буффан» (1885–1887), в которой мазки не связаны, как раньше, в систему, а сложная вязь вертикалей и наклонных линий первого плана резко оттеняется смутно различимой горой Сент-Виктуар вдали и строениями по краям композиции.
Какое-то время Поль продолжал сухой диагональный стиль 1886 года. Картина «Гора Сент-Виктуар и большая сосна», которую Сезанн подарил Гаске, написана, по всей видимости, в 1887 году. Она хорошо иллюстрирует этап тщательно конструируемых работ. Деревья на первом плане обрамляют удаляющиеся планы, которые очень подробно и правильно построены. Вероятно, к предыдущему году принадлежит картина «Дом в Провансе», с ее мощными горизонталями, противопоставленными простой структуре дома, прямым деревьям и расщелинам на холмах. Во всей композиции виден чрезвычайно простой и конструктивный порядок, все формы даны в их обнаженной простоте, без скидки на подвижность и взаимодействие, какое обычно бывает в реальной жизни. Листва, например, дана столь обобщенно, что превращается попросту в глыбы цвета. Такого рода сухая и решительная живопись вела к более мягкой и подвижной, но достаточно простой и конструктивной. Под конструктивностью мы понимаем здесь попытки низвести изображаемое до его первичной и ясной незамутненной сущности, без попыток абстракций любого рода. И тем не менее, несмотря на упрощение и схематизм, композиции Сезанна полны движения жизни.
Поль чувствовал, что только в такой работе ему удастся выразить и вместе с тем победить горечь одиночества, которое он тяжело переживал в 1885–1886 годах. Он достиг мира с собой посредством выражения себя в больших пространственных формах, трактуя эти формы с новой, более глубокой объективностью и одновременно наполняя их глубоким созерцательным присутствием. Внешний холодный, каменистый мир жестоко отделен от художника в своем независимом существовании, но вместе с тем он является его частью.
В натюрмортах этого времени можно наблюдать тот же объективистский и аналитический стиль, но выражен он в более мягкой форме.
После смерти Луи-Огюста, как свидетельствует племянница Поля, он перестал работать в старой мастерской и перебрался в гостиную на первом этаже, немедленно внеся туда большой беспорядок: «Цветы, фрукты, белье, на каминной полке — три черепа, Распятие из эбенового дерева с фигурою Христа из слоновой кости — распятие бабушки, оно все еще существует».
В 1888 году Поль, почти исчезнувший из парижского окружения, решил нанести новый визит в столицу. Несомненно, что он перед этим прятался, чувствуя истощение от всех потрясений предыдущих двух лет, а также воображая, что каждый знакомый в Париже будет видеть в нем Клода Лантье. Он снял квартиру в старом мрачном доме на набережной Анжу, № 15, к северу от острова Сент-Луи. В соседнем доме № 13 жил Гийомен. Довольно странно, но он выбрал именно то место, которое Золя в «Творчестве» отвел для жилища Клода. Эту квартиру Поль не менял в течение двух лет, часто он прогуливался из своего района в Шантийи или бродил вдоль Марны. Возможно, что в эти годы он наезжал в Экс, но в точности это неизвестно. Золя так описывал этот район Парижа: «маленькие, серые, испещренные вывесками дома с неровной линией крыш, за ними горизонт расширялся, светлел, его обрамляли налево — синий шифер на башнях ратуши, направо — свинцовый купол собора Св. Павла… Река была усеяна какими-то причудливыми тенями — спящей флотилией лодок и яликов, к набережной была пришвартована плавучая прачечная и землечерпалка, у противоположного берега стояли баржи, наполненные углем, плоскодонки, груженные строительным камнем, и над всем возвышалась гигантская стрела подъемного крана».
Дом № 15 был построен около 1645 года; № 17 назывался Отель Лозан, в нем в молодые годы некоторое время жил Бодлер. Этот мирный район издавна привлекал художников: в доме № 9 в течение семнадцати лет обитал Домье, а на набережной Бурбон жили Филипп де Шампень и Мейсонье.Последний построил там башенку, стилизованную под средневековую.
Поль, постоянно чувствовавший слабость своего здоровья, ощущал, что не отдыхает как следует за работой дома или в мастерской, снятой на улице Валь-де-Грас. Шоке попросил его расписать свой дом на улице Монси-ньи, но, сделав два наброска, Поль утратил к этому интерес. Он долго работал над картиной «Масленица» («Пьеро и Арлекин»), для которой ему позировали собственный сын (в образе Арлекина) и сын сапожника Гийома (Пьеро). Как обычно, он требовал от своих моделей бесконечного неподвижного стояния, и в один прекрасный день Пьеро упал в обморок.
После полудня Сезанн ходил в Лувр, а иногда заходил к Танги и смотрел его коллекцию, которую подчас называл комнатой ужасов, а время от времени музеем будущего.
Четвертого августа Гюйсманс написал статью в «Краваш» (перепечатанную на следующий год в «Сертэн»), в которой он описывав Сезанна как эксцентрика из одной компании со второразрядным художником Тиссоном и «воскресным художником» клоуном Вагнером. Гюйсманс обнаружил в Поле своеобразную, но неправильную экспрессию: «Истины, столь давно оставленные, наконец постигнуты вновь, странные, настоящие истины… Эти незаконченные пейзажи, попытки, оставшиеся в забвении, усилия, чья свежесть испорчена исправлениями и отделкой; по-детски варварские начинания, поразительное равновесие. Дома, склонившиеся, как пьяные, смятые фрукты в искривленных сосудах, обнаженные купальщицы, неистово очерченные с пылом Делакруа, — все это к вящей славе глаза и без очистки видения или изящества мазка… Он явный колорист, который больше, чем Мане, внес вклад в импрессионистическое движение, но это художник с больными глазами, который в диких неправильностях своего видения обнажил предостерегающие симптомы нового искусства».
В этом, 1888 году, возможно, произошла первая встреча Сезанна с Ван Гогом. Это могло случиться незадолго до отъезда последнего в Арль. Об этом сообщает в своих воспоминаниях о Сезанне Бернар: «Однажды, когда Сезанн зашел к Танги, он встретился с Винсентом, который там обедал. Они немного поболтали об искусстве вообще и после этого принялись делиться своими собственными идеями. Ван Гог подумал, что он не сумеет лучше объяснить свои представления об искусстве иначе, чем показом самих картин, и спросил мнение Сезанна о них. Он вытаскивал перед Сезанном самые разные картины — портреты, натюрморты, пейзажи. Сезанн, который был, несмотря на застенчивость, довольно груб, заявил, просмотрев все работы: «Воистину, вы пишете как сумасшедший».
Сезанн вернулся на юг зимой, в то время как Ренуар проезжал по тем краям. Тот был поражен, увидев дальнейшее развитие в работах Поля. «Как ему удается делать это! Он не может положить и двух мазков без успеха». Тем не менее Поль, благодаря своему обычному нраву, мог запросто порвать холст или просто оставить его на пленэре и вернуться домой в полном отчаянии. Однажды, когда мимо проходила какая-то пожилая женщина с вязаньем, Сезанн закричал в ярости: «Гляньте на эту приближающуюся старую корову», — и, несмотря на протесты Ренуара, он сгреб свои принадлежности и поспешил прочь, будто преследуемый дьяволом. Возросшая неуравновешенность Сезанна выражалась в том, как он обращался с Ренуаром, своим старым другом. Поль пригласил Ренуара на обед в Жа де Буффан отведать «превосходный укропный суп», приготовленный старой мадам Сезанн, которая любила поболтать и похвастать своими рецептами. Ренуар позволил себе между делом пошутить по поводу банкиров, на что Сезанн гневно повернулся к нему, а мадам Сезанн поддакнула: «Воистину, Поль, в доме твоего отца!» Если мы вспомним, как горько и зло отзывался сам Поль в своих ранних письмах о семействе и сколь нечестивым он считал и банковское дело, и право, нам станет ясно, насколько глубокие перемены произошли в нем после событий 1886 года. Он все больше и больше попадал в зависимость от своей матери и сестры и в итоге стал разделять семейное прославление покойного отца.
Кроме того, с началом диабетической болезни неуравновешенность Сезанна еще больше возросла. В тот день в результате резкой вспышки Поля Ренуар в смятении покинул Жа де Буффан и перебрался в Монбриан, сняв помещение у Кониля.
Гаске сообщает, что Поль обычно отзывался об отце с похвалой. «Да, это был человек, который знал, что делал, когда выплачивал мне содержание. Да, да, я говорил вашему отцу, Анри, если у кого-то есть сын-художник, то ему следует выплачивать денежки. Своего отца нужно любить. Да, а я никогда не любил своего в должной мере… Я никогда не показывал отцу свою любовь». Если бы у нас не было еще свидетельства Ренуара, то было бы невозможно поверить, что после всей долгой и тяжкой борьбы взгляды Поля могли столь радикально перемениться.
Когда Поль вернулся в Париж, в точности неизвестно, но в 1889 году он снова живет на набережной Анжу. В этом году он второй раз выставился в публичной галерее — на Всемирной выставке. (Это был год открытия Эйфелевой башни.) Каким образом Сезанну удалось пробиться на выставку, остается неясным, но можно не сомневаться в том, что это было следствием каких-то закулисных усилий. Воллар писал: «И на этот раз он попал на выставку в результате покровительства, а точнее, благодаря сделке. Комитет попросил у мсье Шоке кое-что для обстановки в залах экспозиции, тот согласился, но поставил непременным условием показ картины Сезанна. Нечего и говорить, что картина была повешена так высоко, что сам художник едва разглядел ее». Была представлена работа «Дом повешенного», в каталоге Поль был объявлен парижским жителем. На той же выставке были три картины Моне, две вещи Писсарро, но ни одной работы Ренуара, Сислея, Гийомена или Моризо. 7 июля Поль написал записку Роже Марксу (1859–1913), одному из первых критиков, выступивших в защиту его картин.
В конце 1889 года Сезанн получил приглашение принять участие в выставке в Брюсселе. Там в 1884 году независимые художники организовали «Группу двадцати». Б течение десяти лет они устраивали ежегодные показы, в которых могли принять участие и посторонние художники, включая иностранцев. (В 1894' году группа распалась, и на ее основе возникло общество «Свободная эстетика», просуществовавшее до 1914 года.) «Группа двадцати» уже приглашала Фантен-Латура, Гогена, Бракмона, Форена, Гийомена, Моне, Моризо, Писсарро, Ренуара, Родена, Сёра, Синьяка и других французских художников. В 1890 году вместе с Сезанном приняли участие Сегантини, Сислей и Ван Гог. Сначала он отказывался, но в ноябре, 27 числа, ответил Октаву Маусу: «Я благодарю Вас за лестное для меня письмо и с удовольствием принимаю Ваше предложение. Но разрешите мне отвергнуть обвинение в надменности, которую Вы мне приписываете на том основании, что я обычно отказываюсь принимать участие в художественных выставках. Дело в том, что мои долгие поиски не дали пока положительных результатов, и, опасаясь справедливой критики, я решил работать в уединении, пока не почувствую себя способным теоретически защитить результаты своей работы, но ради удовольствия быть в такой хорошей компании я, не колеблясь, изменяю свое решение и прошу Вас принять, мсье, благодарность и привет от Вашего собрата».
В этом письме можно легко заметить смесь гордости, чувства обидь? и природной скромности. На выставку «Двадцати» Поль послал три работы. В одной из своих вежливых записок (от 18 декабря) он просил Шоке одолжить «Дом повешенного» (который тот получил в обмен от графа Дориа); через три дня Сезанн снова написал Маусу. Шоке по своей инициативе добавил «Домик в Овере», а Поль еще решил послать этюд «Купальщицы». «Я прошу Вас назвать эту вещь в каталоге как «Пейзажный этюд» — писал он.
Когда в январе 1890 года выставка открылась, работы Сезанна прошли незамеченными. Пресса была занята яростными нападками на Ван Гога, хотя один журналист назвал Поля «искренним мазилой». 15 февраля Сезанн написал Маусу еще одно письмо, где поблагодарил его за присланный каталог, который был «очень живописен».
Несмотря на ухудшившееся здоровье, Сезанн по-прежнему по многу часов сражался с живописью у мольберта — начиная с пяти или шести утра и до захода солнца, с перерывом на завтрак. Он все больше уходил в себя. Бернар приводил его слова, сказанные в старости: «Одиночество, вот чего я заслуживаю. По крайней мере никто не наложит на меня лапу».
В пятьдесят один год волосы Сезанна побелели. Он был вынужден ограничивать себя диетой, которую довольно часто нарушал. Нередко ему доводилось раздражаться и терять душевное равновесие. Известно, что одно лишь упоминание имени члена Института или преподавателя Школы изящных искусств приводило его в ярость. Точно так же он реагировал на уличный шум, на скрип колес или говор прохожих. Из-за этого Сезанн некоторое время собирался сменить жилище и наконец переехал на Орлеанский проспект. Шоке умер, Поль тяжело переживал потерю.
Умер и отец Ортанс. Сама она решила заняться семейным ремеслом в департаменте Юра и съездить р Швейцарию. Мари не было поблизости, чтобы держать Ортанс под контролем, а Поль по слабости уступил. По дороге в Швейцарию (а может быть, на обратном пути) семейство остановилось в Безансоне, где Поль написал три пейзажа. Ему путешествие по кантонам западной Швейцарии с заездом в Берн, Фрибург, Лозанну и Женеву не понравилось. Большую часть времени он вместе с Ортанс и с сыном провел в отеле «Солейль» в Невшателе, где Поль чувствовал себя более-менее дома. Швейцарские пейзажи, похоже, не слишком затронули его, он написал всего лишь два незаконченных вида Невшателя. Он оставил их в гостинице и позже их дописал другой художник. В Швейцарии он часто говорил: «Здесь нет ничего, кроме этого» — и показывал на небо. Во Фрибурге, гуляя с женой и сыном, Сезанн затесался в антикатолическую демонстрацию. Чрезвычайно этим напуганный, он исчез. После того как Поль не пришел в гостиницу даже ночью, Ортанс пустилась на поиски по всему городу, но безрезультатно. Наконец пришло письмо из Женевы, куда через четыре дня отправилась и Ортанс. Как он объяснил, его напугала не причина демонстрации, а шумная толпа, в которой таились озлобленность и грубость.
К этому времени Сезанн разделил семейные финансы, составлявшие примерно 25 тысяч франков в год, на двенадцать частей, а каждую из этих месячных порций еще на три. Его сыну исполнилось к этому времени восемнадцать лет, Сезанн чрезвычайно гордился им. «Поль — это мой восход (orient)», — приводил Воллар высказывание Сезанна, а Алексис добавлял: «Какие бы глупости ты ни сотворил, — говаривал Сезанн, — я никогда не забуду, что я твой отец». Он не хотел повторять ошибок Луи-Огюста, но юноша никак не проявлял интеллектуальных или художественных наклонностей. Поль, однако, был приятно изумлен, увидя, что сын способен заниматься обыкновенными житейскими делами. Что касается Поля-млад-шего, то он относился к отцу с уважением и предупредительностью. Он никогда не дотрагивался до руки отца, чтобы поддержать его, без слов: «Простите, вы позволите мне, папа?»
Племянница Сезанна, рассказывая о семейной традиции, сообщала, что Ортанс звали Королева Ортанс. «Его жену редко упоминают, но она была не без положительных качеств. В ней в равной степени наличествовали чувство юмора и терпеливость по отношению ко всему. Когда Сезанну не спалось, она читала ему по ночам, и это иногда продолжалось часами. Ее свекровь, которая особой нежности к ней не питала, тем не менее признавала терпеливость Ортанс. В конце концов, она дала Сезанну сына». Поль после долгой работы любил хорошо поспать. Его экский приятель нарисовал карикатуру, изображающую храпящего на спине Сезанна, на рисунке имеется надпись: «Тихо! Сезанн спит».
К концу 1880-х годов относятся различные попытки отойти от сухого стиля работ середины десятилетия. Однако природная пышность и сочность, присущие Полю всегда, в них уже смягчены; их прекрасная конструктивная построенность ведет к новой, более рассудочной системе. Можно заметить также странное возобновление идущей от Делакруа темы — темы Вирсавии. В более ранней версии Сезанн исходил из рембрандтовской трактовки сюжета, позже он подошел к теме, используя точку зрения, близкую к Пуссену (в «Воспитании Вакха» в Лувре). А в картине конца восьмидесятых годов наличествовали все черты его стиля этого времени, в частности типичным было помещение на заднем плане вида горы Сент-Виктуар, нарисованной по памяти. Этот мотив Сезанн не писал до 1880-х годов. Линии фигуры обнаженной, прислонившейся к стволу дерева, следуют линиям склона горы; служанка очертаниями своего тела соответствует собравшимся над женщинами облакам. Предыдущая картина с обнаженными в пуссеновском духе имела похожую композицию, хотя основные ее принципы были менее явно выражены, а горы не соответствовали реальным прототипам.
«Большая сосна», выполненная около 1880 года, была написана в Монбриане. В этой картине, как и в некоторых других композициях с заброшенными домами, вновь появляется мощный заряд романтизма. В «Провансальском подлеске» присутствует богатая призматическая гамма цвета, а для моделирования объема использованы крупные разнонаправленные мазки.
В это время Поль также предпринял явные попытки к развитию своей живописи с фигурами. Уже упоминалось, что он писал своего сына в образе Арлекина, а другого мальчика в образе Пьеро. В гордую, хотя и несколько неуклюжую позу Арлекина Поль постарался вложить все свое восхищение открытым характером сына. Что именно происходит в этой картине, не вполне, ясно. Предполагалось, что Пьеро за спиной Арлекина собирается схватить его шутовской меч, его символ силы и величия. Таким образом, атакующий может представлять Золя, а сам Арлекин оказывается Полем, бестрепетно продолжающим свой прямой путь. Но, пожалуй, маловероятно, чтобы события 1886 года, которые столь сильно потрясли Сезанна, могли бы выражаться в этакой легкомысленной символике, в которой трагические переживания Поля были сведены к маскараду. Возможно, здесь имела место общая идея, а именно — выражалась надежда, что сын может идти по жизни легко, относиться к ней, как к карнавалу, и не будет убиваться из-за насмешек, столь тяжко воздействовавших на его отца. В этом отношении картину «Масленица» можно рассматривать как своего рода попытку преодолеть и залечить болезненные потрясения 1886 года.
В портретах Ортанс, выполненных в период конца восьмидесятых годов, можно заметить новое движение к уверенному и твердому рисунку. По меньшей мере три работы могли быть написаны на набережной Анжу, в комнате, обшитой деревянными панелями с увенчивающим их ободком-карнизом. Здесь же, по всей видимости, были выполнены три картины, изображающие мальчика в красном плаще. В этих работах Поль снова показывает свой интерес к полноте объемов, хотя в отдельных деталях он чрезмерно обобщает массы. В это время он особенно жаждал простого величия формы; в мальчике, закутанном в красный плащ, он, несомненно, стремился передать поэтические и туманные черты юности, отсутствующие в «Масленице», с ее по-петушиному надувшимся Арлекином и тяжелым, с невыразительным лицом, Пьеро.
Часть пятая
Последние годы
Глава 1
Бегство из Живерни и Парижа
(1891–1895)
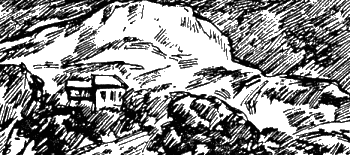
В феврале 1891 года Алексис был в Эксе. Его письмо от 13 числа позволяет предположить, что Золя просил его разузнать о Поле и вообще разведать ситуацию.
«Это унылый, удручающий, усыпляющий город. Единственный, кого я вижу, — это Кост, но он не всегда забавен… К счастью, Сезанн, с которым я встречаюсь в последнее время, вносит жизнь и свежее дыхание в мое существование. Он полон энергии и экспансивен, Он сердится на Буль (прозвище жены Сезанна, принятое в окружении Золя. — Дж. Л.), которая после года жизни в Париже заставила его торчать пять месяцев в Швейцарии, обедать за табльдотом… где он нашел общий язык лишь с одним пруссаком. После Швейцарии Буль, сопровождаемая своим сынком, отправилась в Париж. Однако, сократив ей денежное пособие, Поль привлек ее обратно в Экс…
Днем он пишет в Жа де Буффан, где ему позирует какой-то работник. На днях я поеду посмотреть, что он там делает. Наконец, чтобы дополнить его портрет: он обратился опять к католической религии, верит и исполняет все обряды…»
Золя просил также и Коста писать ему о Поле, примерно в это же время последний написал из Экса:
«…Непонятно, как это у скупого и жесткого банкира могло родиться такое существо, как наш бедный Сезанн. Я его недавно видел, он здоров, и с физической стороны у него все хорошо. Но он стал робким, наивным и моложе, чем когда-либо. Он живет в Жа де Буффан со своей матерью, которая, между прочим, в ссоре с Буль, а та не в ладах с сестрами Сезанна, а те, в свою очередь, не ладят между собой. Таким образом, Поль живет сам по себе, а жена сама по себе. Удивительно трогательно, что этот добрый малый сохранил всю свою детскую наивность и, забывая все разочарования и все мучения борьбы, безропотно, но упорно продолжает стремиться к произведению, которое он никак не может создать».
Итак, Поль стал из-за своей близости к матери ревностным прихожанином церкви. Страх смерти, который кризис 1886 года сделал еще более острым, играл все более сильную роль в этом обращении. Ранее мы обращали внимание, что в молодости он разделял антиклерикальные тенденции и радикальные взгляды Золя, Писсарро, Моне, Танги и других представителей его парижского круга. В письме Алексиса явственно ощущается удивление старого приятеля по поводу духовной метаморфозы Сезанна, Он говорил Алексису: «Это все мой страх. Я не был уверен, что мне осталось на земле больше четырех дней. И после этого я стал верить, что выживу, и я вовсе не хочу заигрывать с вечностью». Воллар писал: «Хотя Сезанн и избегал, насколько возможно, общаться с монахами, он все же находил некие положительные качества в религии, а именно — «элемент респектабельности» и «моральную поддержку». Поэтому он частенько ходил в церковь и выстаивал мессы по воскресеньям». К этому Воллар добавлял со свойственной ему беззаботной приблизительностью о том, что касалось молодых лет Сезанна: «Впрочем, он с юности выказывал религиозное чувство. Однажды его отец шутливо заметил своему приятелю: «Мы сегодня позавтракали с некоторым опозданием, поскольку нынче воскресенье, дамы отправились закусить Телом Христовым». Услышав это, его сын, обычно такой робкий и послушный, резко сказал: «Должно быть, папа, вы начитались в «Сьекль» рассуждения торговцев вином». Однако, если случалось, что небо по воскресеньям было чистым, то кюре приходилось вести службу без него. Даже во время мессы Сезанн не переставал думать о живописи, если только он не приходил в церковь поспать». (Благочестивость, с которой Поль обратился к отцу, была вызвана, возможно, попросту неприятием банкирских шуточек последнего.) Воллар также приводит историю про то, как некий молодой художник приехал в Экс к Сезанну в воскресенье. Погода была плохая, и поэтому он отправился с приятелем в Сен-Сюльпис; народ как раз выходил после службы, а Поль, к которому они обратились с приветствием, выглядел так, будто только что проснулся. Он от неожиданности уронил свой молитвенник, но, когда ему сказали, что приезжий является художником, заметил: «Ах, вы из наших», застегнул пуговицу и продолжил разговор. Кроме того, Воллар свидетельствовал, что Сезанн в случае малейшей неудачи не останавливался перед тем, чтобы не послать Доброго Бога ко всем чертям, если поблизости не находилось какой-нибудь другой жертвы. Я припоминаю один день, когда сильный туман выгнал его из мастерской, где он писал портрет. На середине богохульной тирады он вдруг вспомнил, что по соседству от него живет художник Каррьер. И вот, потрясая кулаком перед окнами коллеги, с искаженным от сильных страстей лицом, но уже улыбаясь тому, что он сейчас скажет, Сезанн вскричал: «Ну этот-то тип наверху сейчас, наверно, счастлив — у него есть все, о чем он мечтал».
По поводу своих походов в церковь Сезанн испытывал некоторое смущение. Он продолжал отрицательно относиться к священникам, называл религию «моральной гигиеной». Свой подход он называл: «Мой кусок средневековья». Племянница Сезанна сообщает, что он часто повторял эти слова, выходя после службы. Всему своему отношению к церкви Сезанн придавал несколько шутовской характер, говоря: «Поскольку у меня слабый характер, я полагаюсь на мою сестру Мари, которая полагается на своего исповедника, который полагается на Рим». Племянница сообщает, что Луи-Огюст часто говорил: «Поль позволит проглотить себя живописи, а Мари — иезуитам». По этому поводу племянница замечает: «Это не совсем так. Мари, будучи весьма хитрой и жесткой, временами давала милостыню, чтобы совершать какие-то добрые дела, но как вести хозяйство, она знала очень хорошо. А вот что касается Поля…» Незадолго до своей смерти, отзываясь о «кретинском священнике», он едко утверждал: «Я думаю, что быть католиком — это значит быть свободным от всяческой законности, но уметь зорко блюсти свои собственные интересы».
Не сохранилось ни одного его собственного высказывания, из которого бы следовало, что Сезанн относится с почтительностью к Богу, Христу или деве Марии. То, что он искал, было просто некой внешней опорой, которая могла бы помочь ему в вечной борьбе со страхом смерти (или бессилия) и позволила бы ему управлять такими разрушительными эмоциями, как неуверенность в себе, чувство греховности и ущербности. Обращение к церкви, а также чувство опоры, которое он обрел в подчинении сестре Мари, помогли ему выстоять в той ужасной изоляции, что обрушилась на него с 1886 года. Но пытаться найти в этом какой-то элемент метафизической компенсации, которая отразилась в его живописи после 1886 года, было бы неверным. Это была просто церковь его матери, а не сама идея Бога, к которой он обратился. Материнская церковь, в объятия которой он мог теперь спокойно войти, ибо свободомысливший и насмешничавший отец был уже в могиле.
Частью попыток Сезанна упростить жизнь и держать ее всю под контролем было решение прижать Ортанс (возможно, по совету Мари) урезанием доли ее содержания, которую она, наоборот, всегда стремилась увеличить. В результате она была вынуждена покинуть свой любимый Париж и перебраться в Экс на глаза Сезаннов. Поль отзывался о ней с презрением. «Моей жене не нравится ничего, кроме Швейцарии и лимонада». Если она когда-либо пыталась принять участие в его спорах с друзьями, он обычно прерывал ее: «Ортанс, сиди спокойно, дружок, ты говоришь только глупости (betises)». Письмо Алексиса, приведенное частично выше, так описывает приезд Ортанс в Экс:
«Вчера, в четверг, в семь часов вечера, Поль покинул нас и пошел на вокзал встречать семью, из Парижа прибудет также мебель на 400 франков. Поль собирается поместить всех в снятом им помещении на улице Монне и туда будет посылать деньги им на жизнь… А сам он не собирается расставаться с матерью и сестрой, он живет с ними в предместье Экса и чувствует себя там хорошо, лучше, чем с женой. Если, как он надеется, Буль и малыш удержатся здесь, то он сможет время от времени ездить в Париж и жить там месяцев по шесть. «Да здравствует солнце и свобода!» — восклицает он… Между прочим, Поль совершенно не стеснен в средствах. Благодаря своему отцу, которого он теперь почитает… ему есть, на что жить».
Далее Алексис приводит таблицу расходов Сезанна — весь доход делится на двенадцать месячных долей, а каждая доля еще на три части — ему самому, жене и сыну. «Но Буль не очень-то деликатна и, кажется, всегда стремится захватить себе часть Поля. Теперь, поддерживаемый матерью и сестрой, он чувствует, что сможет ей противостоять…»
В начале 1890-х годов Сезанн вернулся к работе над портретом и к композициям с живой модели на новом уровне изображения массы и объемов. Он достиг впечатления скульптурности и монументальности, не утратив при этом достижений в области цвета и движения. В «Человеке с трубкой» он изобразил папашу Александра, садовника в Жа де Буффан, который также позировал ему для левой фигуры в трех маленьких вариантах «Игроков в карты». Тяготение к скульптурности подчеркнуто связью складок в картинах Сезанна с драпировками флорентийских бюстов XV века. «Женщина с кофейником», для которой Сезанну позировала служанка, написана в более сложном интерьере, но обнаруживает те же цели. «Игроки в карты» Ленена в музее Экса отчасти вдохновили интерес Поля к этой теме и вызвали несколько композиций, изображающих игроков в карты в кафе. Моделями ему служили крестьяне, и кроме отдельных этюдов с них Сезанн делал групповые зарисовки с пятью, четырьмя или двумя фигурами. (Всего известно пять живописных полотен на эту тему.) Делались попытки усмотреть в «Игроках» символический смысл, дескать, карточная игра — это битва в искусстве, и Поль здесь выступает победителем. Это выглядит чересчур натянутым, равно как и попытки связать эту тему с грубым рисунком на тему Уголино в раннем письме. Несомненно другое. Поль наблюдал за игроками в кафе, обратил внимание на их сравнительную неподвижность, которая позволила ему длительное время их изучать. Поэтому, когда он перешел к работе над данным мотивом, модели, оставаясь недвижными, позволили ему успешно работать над их передачей. Кроме этого, мы можем лишь признать привлекательность темы выбора и судьбы или, что тоже немаловажно, темы игры на деньги. Эта тема под несколько другим углом привлекала также Малларме, который уподоблял поэтический процесс метанию костей. В своих композициях Поль достиг монументального образа в передаче противоборства двух человек, погруженных в игру и подчиненных картам, в которых записаны секреты судьбы, а в то же время игроки используют эти карты по своей-собственной воле. В этом глубоком и простом смысле заключена глубокая символика, особая сила которой придается тем, что оба игрока, поданных столь величественно, являются простыми работниками.
Сезанн начал работу над этой темой, возможно, осенью 1890 года и продолжал работу над ней в течение нескольких лет. В композиции с пятью фигурами упор сделан на криволинейные формы, которые напоминают барочные и позволяют связать эту картину с интересом Поля к композиции Пюже «Галльский Геракл». Этот поворот к барокко виден еще более явно в натюрморте с гипсовым Купидоном, в котором между яблоками и луком Сезанн поместил статуэтку, сделанную, по его мнению, с работы Пюже из Лувра. (В верхней части картины он расположил кусок так называемой «Анатомии», приписывавшейся Микеланджело, но в манере, совпадающей со своим собственным стилем.) Преобладание криволинейных линий можно видеть также в портретах Ортанс в красном платье. Вскоре, однако, эти тенденции вновь попали под контроль строгих архитектонических конструкций, как, например, в поздних «Игроках» или в «Женщине с кофейником», «Гипсовый Купидон» является хорошим примером того, как Сезанн организовывал свои формы в пространстве. Статуэтка образует сильную вертикальную ось, вращающуюся вокруг себя. Это движение подхватывается движением диагоналей. Точка зрения сверху — любимая позиция Поля — подчеркивает внутреннее напряжение статуэтки Купидона, изображенного в динамическом ракурсе. Искусствовед Гамильтон писал об этой вещи: «Благодаря этому большая часть тела и основание статуэтки находятся в разных отношениях с верхней и нижней частями картины. Ноги и база статуэтки являются кульминацией натюрморта на столе. Взгляд затем скользит вверх и обращается к пространству комнаты и к картине за торсом Купидона. Связь статуэтки и фигуры на картине за ней приоткрывает здесь глубинные свойства изобразительности, найденные Сезанном: мы знаем, что предметы в пространстве существуют сами по себе, но когда они наблюдаются вместе, то они входят в бытие друг друга».
С точки зрения символики этой картины следует заметить, что голова Купидона, персонифицирующая Любовь, уравновешивается в правом верхнем углу изображением скульптуры «Анатомия», приписывавшейся Микеланджело. Эта скульптура издавна привлекала Поля, и он сделал с нее много зарисовок. Не приходится сомневаться, что его интерес был по преимуществу анатомическим, к тому же следует прибавить то, что он считал эту вещь работой Микеланджело, которого он глубоко почитал. (Любопытно, что среди картин на христианские сюжеты, которые он копировал в Лувре, преобладали сцены страстей и смерти, а не воскресение и тому подобные.) Пожалуй, мы можем уподобить изображение человека в «Анатомии» черепу в качестве эмблемы с многообразными значениями в сознании Сезанна. В данном случае Человек с содранной кожей «Анатомии» противостоит Жизни. Но можно пойти еще дальше. В «Цветах зла» есть стихотворение «Скелет-землероб» (I860 год), которое не могло не запечатлеться глубоко в сознании Поля. В стихотворении говорится о старинных анатомических рисунках:
«Давно таблицы стерлись там,
Но кажется, художник ветхий,
Подправил их иглою меткой,
Придал красивость их чертам,
И чтобы таинство за гробом
Возможно явственней открыть,
Он предоставил землю рыть
Лишенным кожи землеробам».
Эти странные фигуры намекают на своего рода жизнь в смерти, когда
«еще придется нам, наверно,
Покинуть кладбища свои,
Для земляных работ проснуться
И грубых заступов коснуться
Ногой в запекшейся крови…»
(Перевод П. Антокольского)
В более мягком варианте Человек с ободранной кожей становится Работником или самой Землей, Художником, улетающим в неведомые сферы. (Например, картина Милле «Человек с плугом», написанная в 1862–1863 годах, изображает труженика с чрезвычайно огрубленным лицом и тяжелым, словно бы мертвым телом, с трудом отделяющимся от земли, — великолепная иллюстрация одного из возможных аспектов образа.) На эту картину в свое время все яростно ополчились как на грязную и злостную клевету. «А как же тогда, — вопрошал в ответ Милле, — можно достаточно простым образом показать человека, обреченного добывать хлеб свой в поте лица своего?» (Если я прав, то можно сказать, что Поль использовал образ Человека с содранной кожей в качестве горького комментария для образа Любви, окруженной своими обычными яблоками и проросшими луковицами, которые имеют фаллические коннотации, подобно грушам в «Обнаженной».) Любовь, таким образом, не существует в своем обособленном пространстве, череп или Человек с содранной кожей напоминает о смерти, а также символизирует угрызения совести; бесчеловечность трапезы Уголино превратилась в нормальную часть буржуазной трапезы и, вообще, того мира, где Труженик оказывается Человеком с содранной кожей или наоборот.
В окончательном варианте «Игроков в карты» основные формы размещены, насколько возможно симметрично, бутылка посередине между двумя мужскими фигурами является сильным выражением центральной оси. Однако легкие отклонения от строгой симметрии в деталях (опрокинутый стул, предметы на стене и т. д.) придают этой работе при всей ее монументальности элемент повседневности. Жесты, а также выражения лиц, разная степень их сосредоточенности придают композиции, в целом неподвижной, некое дыхание. Однако то, что придает картине впечатление жизненности, — это прежде всего движение пространственных планов и цветовые переходы.
В январе 1892 года Алексис попытался дать Полю возможность выставиться на «Выставке независимых», объединения, которое было основано в 1884 году по принципу: никакого жюри, никакого отбора. Поль долго не соглашался, потом дал себя уломать, затем отказался снова: возбуждение и предвкушение возможной неудачи и вообще все, что было связано с публичными выставками, было слишком пугающе. Его работы можно было увидеть только у Танги, позже они появились также в комнатах Воллара. Бернар так описывал помещение Танги:
«Туда входили, как в музей, чтобы посмотреть несколько набросков неизвестного художника, который жил в Эксе, неудовлетворенный своей работой и миром. Он сам уничтожал свои этюды, хотя для других они были объектами восхищения. Выдающиеся качества этих картин представлялись еще более оригинальными из-за легендарного характера их автора. Члены Института, влиятельные передовые критики, все приходили в скромный магазин на улице Клозель, который, таким образом, сделался достопримечательностью Парижа. Не было ничего более смущающего, чем эти картины, в которых выдающаяся одаренность соседствовала с детской наивностью. Молодые видели в них руку гения, старики — безумные странности, завистники — только творческое бессилие. Мнения чрезвычайно разделялись, глубокие дискуссии переходили в раздраженные перепалки, были и ошеломительные потрясения и преувеличенные похвалы. Гоген, увидев густую живопись этих полотен, воскликнул: «Ничто так не похоже на мазню, как шедевр». Элимир Бурж кричал: «Это живопись из сточной канавы». Альфред Стевенс неудержимо смеялся».
Следует заметить, что эффект усиливался еще странностями характера Танги и его дома. На тонких губах старого торговца бродила таинственная улыбка, когда он распаковывал картины. Его замечания о картинах лишь усиливали легенды.
«Папаша Сезанн, — говорил он, — никогда не удовлетворяется тем, что он делает, он всегда бросает работу перед концом. Когда он съезжает с квартиры, он непременно оставляет на старой свои холсты, когда он пишет на пленэре, он непременно забудет их в поле. Сезанн работает чрезвычайно медленно, малейшая вещь обходится ему неимоверными усилиями, в своей работе он не допускает никаких случайностей». Естественно, что любопытство посетителей после этого только возрастает. После этого Танги добавлял с выражением восхищения: «Сезанн каждое утро ходит в Лувр».
Американский критик, который в 1892 году побывал у Танги, так описывал торговца: «Папаша Танги оказался низкорослым, толстоватым стариком, с седой бородой и большими сияющими темно-синими глазами. У него была забавная привычка сначала посмотреть взглядом любящей матери на картину, а потом перевести взор на вас, как бы приглашая разделить вместе с ним восхищение «любимым дитятей».
Среди приходивших к Танги кроме уже перечисленных были Морис Дени, Поль Синьяк (который купил одну картину Сезанна), Жорж Сёра, Ж.-Э. Бланш и Амбруаз Воллар. Эжисто Фаббри купил у Танги шестнадцать картин. Дени позже заявлял, что молодых художников весьма привлекала редукция натуры до простых изобразительных элементов у Сезанна.
Интерес к Полю медленно рос. Жорж Леконт написал с симпатией о нем в «Искусстве импрессионистов». В том же 1892 году по приглашению «Группы двадцати» он прочел о Сезанне лекцию в Брюсселе. Бернар опубликовал краткое эссе биографического плана. Золя в ходе интервью для «Ревю иллюстре» был спрошен о своих любимых художниках, композиторах и писателях. Он не назвал никаких имен, но сказал, что предпочитает «тех, кто может видеть и выражаться ясно». В разговоре с Жеффруа о Мане, Сезанне и импрессионистах он отрицал, что у последних есть необходимые в произведениях искусства композиционные элементы. Жеффруа писал: «Я приводил ему его собственные старые аргументы, а также новые идеи, которые родились из эволюции художников, ранее им самим поддержанных. Он неожиданно и резко вернулся к теме необходимости композиции, приводя в пример свою собственную работу над книгой; среди своих старых товарищей в искусстве он видел теперь лишь отдельные куски и наброски».
Одна группа в особенности интересовалась Сезанном или по крайней мере тем, что они ему приписывали. Это была группа «Наби», состоявшая из учеников Академии Жюльена, у которых были довольно сильны символистские тенденции. Они были также учениками Гогена, который обычно говорил, начиная работу: «Давайте сделаем «Сезанна». От Гогена восхищение Сезанном перешло к группе «Наби». В нее входили Дени, Вюйар, Серюзье. Насколько смутно в действительности они представляли себе искусство Поля, показывает тот факт, что, когда Серюзье предложил Дени написать о Сезанне статью, Дени почувствовал, что это будет ему довольно трудно, так как он не видел ни одной картины мэтра. Но Синьяк взялся показать ему свою коллекцию, и Дени был обескуражен. Один натюрморт попросту ужаснул его, и он решил больше никогда не упоминать об этом художнике. Но мало-помалу Дени стал признавать «величие и благородство» Сезанна. Никто из членов группы «Наби» никогда не видел Поля. Танги не мог дать ясного представления о нем, другие вообще утверждали, что его никогда не было и что под этим именем скрывается один знаменитый художник, который хочет скрыть свои экспериментальные работы. Немногие говорили, что Сезанн — это Клод, описанный Золя.
Художники группы «Наби» почему-то вбили себе в головы, что Поль занимается искусством для искусства и стремится реальную сцену свести к абстрактным живописным элементам, поэтому они принимали его в каком-то смысле за своего, то есть за художника-символиста. На самом деле они искажали реальную картину, тогда как то, что искал Поль, было полным проникновением в действительность. Он искал некий концентрированный образ, по необходимости несколько упрощенный и вместе с тем и сложный, но в нималой степени не являвшийся абстракцией «живописных элементов» во имя некой высшей реальности, моральной или эстетической. Бернар в своем эссе в «Ом д’ажурдюи» (№ 387) заявил, что Поль открыл «удивительную дверь в искусство, это живопись ради себя самой». Он так анализировал «Искушение святого Антония»: «В этой картине та сила своеобычности и мастеровитости, которую мы всегда ищем и которую столь редко можно найти в работах живописцев нынешнего поколения». Леконт был на более безопасной почве, когда заявлял, придерживаясь общих слов, об «очень целостном искусстве, которого достиг художник благодаря своему удивительному природному дарованию». (Интересно, что он говорит это так, словно Поль был уже мертв или прекратил заниматься живописью.)
Все эти отзывы были, по всей видимости, прочитаны Волларом, торговцем картинами. Он был креолом, в то время дела его шли не слишком хорошо, но он обладал проницательностью и был полон надежд. В то же время на черный день он держал бочонок морских сухарей. Осмотревшись среди художников, он увидел, что из всех импрессионистов только у Поля не было своего настоящего торговца. Однако его решение заняться продажей Сезанна осложнилось тем, что Танги, прочитав статью Бернара, решил придержать оставшиеся у него картины Поля.
От 1893 года документов и письменных источников практически не дошло. Но известно, что в начале 1894 года Поль в очередной раз приехал в Париж. 6 февраля этого года от рака желудка умер Танги; спустя пятнадцать дней после этого умер Кайботт — через восемнадцать лет после своего пессимистического завещания. Он умер от простуды, которую подхватил у себя в саду, ухаживая за розами. Поль снял квартиру в квартале Бастилии на улице Лион-Сен-Поль, неподалеку от улицы Ботрей, где он останавливался тридцать лет назад. Жил. он уединенно. Поль Синьяк рассказывал, что однажды они шли с Гийоменом по набережной и навстречу им двигался Сезанн.
Они собрались дружески его поприветствовать, но он умоляюще замахал руками, чтобы они не останавливались. Сбитые с толку и смущенные, они перешли на другую сторону. В другой раз Поль столкнулся на улице Амстердам с Моне, с которым они всегда были в хороших отношениях. На этот раз, говорит Моне, «он наклонил голову и скрылся в толпе». Такого рода случаи привели к тому, что Ренуар, очутившись в Эксе вместе с Альбером Андре, побоялся в последний момент зайти к Сезанну, хотя всегда относился к нему очень тепло.
В Париже Поль ходил рисовать в Лувр. Город казался ему чрезвычайно шумным и деловым, чтобы спокойно работать на набережных, как некогда в прошлом. В Лувре его особенно привлек Рубенс, кроме того, он зарисовывал классическую и современную скульптуру в Лувре и в Трокадеро.
В марте Дюре продавал свою коллекцию. Специалисты посоветовали ему не включать в состав продаваемых вещей работы Сезанна, так как они-де могли бы испортить впечатление от всего собрания. Однако три картины Сезанна были проданы за 680, 660 и 800 франков. Для сравнения заметим, что Моне шел по 12 тысяч. Через несколько недель, когда коллекция Танги пошла с аукциона, шесть полотен Сезанна были проданы за суммы от 45 до 250 франков — всего на 902 франка. Пять картин приобрел Воллар. Жеффруа в связи с этими событиями осмелился опубликовать хвалебную статью о Поле («Журналь», 1894, 25 марта). Он называет Сезанна предшественником Гогена, символистов и Ван Гога и добавляет:
«Сезанн подходит к природе без деспотичного намерения подчинить ее правилу, которое он сам придумал, без желания приспособить ее к формуле своего идеала. Это не значит, что у него нет программы, закона, идеала, но они рождаются у него от страстной любознательности, от стремления овладеть вещами, которые он видит и которыми восхищается. Этот человек глядит вокруг себя, опьяняется этим зрелищем и хочет отразить это свое ощущение на ограниченной поверхности холста. Он принимается и ищет способа, как можно правдивее осуществить это переложение».
Жеффруа весьма заинтересовался Сезанном и снова писал о нем в третьем номере журнала «Вье Артистик» за тот же год: «Долгое время положение Поля Сезанна было очень странным: он был одновременно знаменит и неизвестен. Его работы редко появлялись на выставках, и хотя его высоко ставили беспокойные и ищущие художники, но знали только немногие. Он жил в суровом уединении, появлялся среди своих друзей всегда неожиданно и так же неожиданно исчезал». Жеффруа описывал далее начавший складываться миф о Сезанне как о художнике, работы которого практически нельзя увидеть и который живет, нимало не заботясь о том, чтобы играть какую-либо роль в художественной жизни. «Ренуар говорил мне, что Сезанн за мольбертом — это незабываемое зрелище: в это время он действительно был один во всем мире, внимательный, страстный, сосредоточенный, смиренный. Он приходил на другой день и все последующие дни, продолжая упорно работать. Иногда он уходил отчаявшись, бросив свой холст где-нибудь на камне, на траве, во власти ветра, дождя и солнца, и засыпанный землей пейзаж возвращался к окружающей природе».Жеффруа находил в картинах Сезанна «обостренную восприимчивость и редкостную цельность существования. Конечно, этот человек жил и живет, заключал Жеффруа, прекрасной внутренней жизнью, и демон искусства владеет им». Жеффруа принадлежал к радикальному крылу публицистов, он сотрудничал в «Жюстис» у Клемансо. Он был большим мастером полемики и защищал права всех обездоленных, к которым причислял и непонятых художников-бунтарей. Из всякого факта он выводил моральный и социальный его смысл. Главная книга Жеффруа, в которой он описывал жизнь и воззрения социалиста Л. Бланки, вышла в 1896 году, как раз в то время, когда Поль писал его портрет.
Двадцать шестого марта из Альфора Поль написал краткую записку Жеффруа, в которой выражал признательность за статью. «Вчера я прочел Вашу большую статью о моих поисках в живописи. Я хочу поблагодарить Вас за сочувственное понимание, которое я у Вас нашел». Поль должен был быть очень благодарен, ибо эта статья была первым свидетельством поддержки и уважения за все годы.
В том же году Сезанн возобновил отношения с Ольером. Он согласился хранить у себя в мастерской холсты Ольера, одолжил ему денег и оплатил счета в магазине Танги. Ольеру было уже 62 года, он был «старым и сморщенным», как писал Писсарро. В течение нескольких лет Ольера не было во Франции, он писал конные портреты испанского короля, а теперь, приехав в Париж, он был ослеплен чистыми тонами импрессионистов.
Некоторое время Поль провел в Живерни, около Вернона, в том месте, которое облюбовал еще восемь лет назад Моне. Поль любил Моне и восхищался им. Среди его записанных высказываний есть такие слова: «Небо голубое, не правда ли? А первым заметил это Моне», или «Моне — это ничего, кроме глаза, но зато какого глаза!» В Живерни Поль остановился в гостинице, но часто ходил в гости к Моне в поисках поддержки, о которой он часто упоминал в письмах этого времени. Вдохновение и отчаяние чередовались у него теперь чаще, чем раньше, и к тому же с большей остротой, в разговорах он дико сверкал глазами и перевозбуждался. Моне в письме Жеффруа от 23 марта 1894 года писал: «Какая жалость, что у этого человека нет опоры в жизни. Он настоящий художник, но уж слишком сомневается в себе. Ему нужна поддержка, поэтому он так тронут Вашей статьей…»
Любопытный портрет Сезанна описан Мэри Кэссет, дочерью банкира из Филадельфии, близкой к Дега: «Наш кружок прибавил блеска благодаря личности первого импрессиониста, мсье Сезанна — изобретателя импрессиониста, как называет его мадам Д. Мсье Сезанн происходит из Прованса и похож на того южанина, который описан Доде: «Когда я впервые увидел его, он показался мне громилой весьма устрашающего свойства, с красными белками навыкате, огромная, почти седая борода и возбужденная манера речи, во время которой дрожали тарелки». Позднее я поняла, что первое впечатление было ошибочно, в нем не оказалось ничего от злобного громилы, это был благороднейший человек, «comme un enfant», как он сам говорил. Его манеры сначала испугали меня — он тщательно выскреб свою тарелку, потом поднял ее и дал вытечь последним каплям, он даже держал отбивную в руке и срезал так мясо с кости. Своим ножом он сопровождал всякий свой жест, не выпуская его из руки до конца обеда, пока не встал из-за стола. Но несмотря на все это, он выказывал такую предупредительность к нам, дамам, которой не было у всех прочих мужчин. Он не позволил Луизе обслужить его раньше, чем нас, хотя это и противоречило обычному движению за столом. Он даже почтительно приветствовал эту глупую девицу и стянул перед ней свой старый берет, который он носил, прикрывая лысину… Во время обеда за столом говорили в основном об искусстве и кулинарии. Сезанн является одним из самых свободных художников, насколько мне известно. Всякое свое высказывание он начинает со слов «Pour moi» это так-то и так-то. Он убежден, что все должны честно следовать своим взглядам, а в то, что кто-то может видеть одинаковым образом, он не верит».
Любезность Поля с женщинами, особенно если вдуматься в нее в свете его обычных, во всех остальных отношениях грубых манер, проистекает от его женобоязни. С ними он чувствовал необходимость держаться подчеркнуто официально. Его обычный грубый язык в присутствии женщин становился чрезвычайно чопорным.
Сезанн редко ходил обедать в кабачки. Однажды он был там с Волларом, который пересказывал ему газетные новости. Сезанн вдруг остановил его жестом руки. Когда прислуживавшая им официантка отошла, он объяснил: «Я остановил вас, потому что нехорошо говорить такие вещи при девушках». — «При каких девушках?» — «Ну как же, при официантке!» — «Но она и так знает все это достаточно хорошо. Можете быть уверенным, что ей известно нечто и побольше, чем нам». — «Возможно, — ответил Сезанн, — но нам лучше вести себя так, будто мы не знаем, что она знает».
В конце ноября Моне пригласил несколько гостей на встречу с Полем — Жеффруа, Клемансо, Родена и писателя Октава Мирбо, которого Поль уважал. Встреча была назначена на 28-е. Моне, зная непредсказуемый характер Поля, был обуреваем страхами. Он писал Жеффруа: «Мы сговорились встретиться в среду. Надеюсь, что Сезанн еще не уедет и придет, но он такой чудак, так боится чужих людей, что может подвести, хоть очень хочет познакомиться с Вами. Однако Поль пришел и был необычно общителен, несколько даже чересчур возбужден. Он покатывался со смеху над шутками Клемансо и, отведя в сторону Мирбо и Жеффруа, сказал им со слезами на глазах: «Роден совсем не гордец, он пожал мне руку!» Во время обеда он сделался еще более лихорадочно доволен и откровенен. Он не признавал художников, учившихся его приемам, и называл их грабителями. Со вздохами и сожалениями он сказал Мирбо: «Этот Гоген, вы только послушайте… этот Гоген… У меня очень мало ощущения, совсем мало ощущения, лишь одна частица, вот такусенькая. Но это мое собственное маленькое ощущение. Ну а этот Гоген в один прекрасный день отобрал его у меня. И удрал с ним. Он потащил эту мою штучку на кораблях… через Америку, Британию и Океанию, через плантации сахара и грейпфрута… к землям негров и уж не знаю кого там еще. Как я узнаю, что он делал с моим открытием? И что мне теперь делать самому? О, мое маленькое бедное ощущение». После обеда, когда все гости высыпали в сад, Сезанн был столь переполнен эмоциями, что упал перед Роденом на колени, дабы поблагодарить его за пожатие руки».
К Гогену Поль питал особые подозрения. Моне обычно предупреждал всех: «Никогда не упоминайте о Гогене в присутствии Сезанна». Он же вспоминал: «Так и слышу, как он кричит со своим южным акцентом: «Где этот Гоген, я сверну ему шею». Несомненно, что сама личность Гогена раздражала Сезанна, но также он глубоко не доверял тем тенденциям, которые внес в искусство Гоген. Что ему действительно не нравилось, так это не столько «украденное ощущение», сколько неумение строить форму на этом ощущении и уплощение формы.
Описание обеда принадлежит Жеффруа, поэтому есть все основания верить ему. Да, Полю было свойственно этакое экстатическое самоунижение, потеря контроля над собой, все это к тому же было усилено вином. Его слова «немного ощущения» в глупой болтовне про Гогена никогда не появлялись в другом контексте, но были подхвачены критиками, жаждавшими выразить его особенный подход к природе. На самом деле, конечно, у него было отнюдь не «немножко ощущения», а глубокое и проникновенное понимание натуры. В униженном тоне он говорил «о кусочке ощущения» лишь в качестве плохой шутки. Он не думал, разумеется, что Гоген понял его искусство или даже имеет о нем ясное представление. В основе его диатрибы лежало чувство обиды по поводу того, что его имя связывается с другими художниками и используется ими для их собственных целей.
Другой обед, устроенный Моне, не был столь успешным. На этот раз Поль был в одной из самых своих ужасных фаз. Присутствовали Ренуар, Сислей и несколько других близких друзей, и Моне надеялся, что удастся подбодрить его атмосферой дружбы и доверительности, которой так не хватало Сезанну. Для начала Моне решил создать настроение маленькой речью. «Мы все собрались здесь, и мы все счастливы воспользоваться случаем и сказать тебе, как мы все тебя любим и сколь глубоко мы чтим твое искусство и восхищаемся им». Поль остановился перед ним в оцепенении и произнес дрожащим от отчаяния голосом: «И ты тоже делаешь из меня посмешище».
Он схватил свое пальто и выбежал вон. Из Живерни Поль убрался столь стремительно, что даже оставил в гостинице несколько незаконченных полотен, которые Моне потом сложил вместе и отправил ему в Экс.
Представляется весьма интересным, что Сезанн смеялся антиклерикальным и антирелигиозным выпадам и шуточкам Клемансо, но в то же время они пугали его. «Это все потому, что я слишком слаб. А Клемансо не сможет защитить меня, только церковь сможет». Клемансо со своим подшучиванием и авторитарным тоном должен был напомнить Полю Луи-Огюста.
В конце этого года, вероятно, в декабре, он написал Мирбо благодарственное письмо за «недавние знаки симпатии». Мирбо опубликовал в «Эко де Пари» от 13 февраля статью о Танги, а 25 декабря — о наследстве Кайботта, где он упоминал Поля. Сезанн просил Мирбо свести его с торговцем, после смерти Танги понадобился кто-то, кто бы мог показывать его работы в Париже. Писсарро подбивал Воллара заняться делами Поля.
В этом году произошло еще одно событие, которое вновь остро поставило вопрос об импрессионистах. Вокруг дара Кайботта разыгрались споры. В завещании говорилось о том, что все картины должны быть вместе повешены в Люксембург, в противном случае ни одна из вещей не будет принадлежать государству. Директор музея после долгого сопротивления и попыток учинить всякие ограничения подписал наконец акт приемки с оговоркой об исключении некоторых произведений. Душеприказчики были вынуждены согласиться с этим, хотя такой поворот нарушал прямую волю Кайботта. Потоки красноречия тратились на то, чтобы доказать необходимость спасения музея, в котором ранее хранились произведения настоящего чистого искусства, от загрязнения дурными поделками. Молодые люди, вещала администрация, которые приходят в Люксембург учиться на образцах, отвернутся тогда от серьезных работ. В Институте, в Сенате, в прессе гремели громы по поводу «навозной кучи — этой выставки, которая бесчестит французское искусство прямо в национальном музее». Но как ни странно, Поль не был выбран в качестве мишени для поношения, и две его работы вошли в музей Люксембург в 1895 году.
В апреле 1894 года «Журналь дез Ар» провел опрос среди ведущих художников и критиков. Жером был в ярости. «Мы живем в столетие упадка и слабоумия». В современном искусстве он усматривал связь с политическим протестом. «Они все сумасшедшие и анархисты! Уверяю вас, что все эти мазилки похожи на тех, что малюют собственным дерьмом у доктора Бланша». (Бланш был психиатром.) В помещении коллекции импрессионистов в Люксембург Жером усматривал «конец Франции как нации». Ему вторил Бенжамен Констан: «Эти картины — откровенная анархия». Портретист Ж. Феррье попросту считал, что все эти художники пробрались в музей с заднего входа. Однако другие из опрошенных были помягче. Т. Родер-Флери в картинах импрессионистов усматривал серьезные эксперименты. «Тот день, когда к этим экспериментам примкнет человек с чистым гением и хорошим образованием, возможно, явится днем возникновения нового искусства». Писатель Жип заявил, что он любит импрессионистов. «Они все живые люди, в их работах можно уловить прекрасную солнечную атмосферу». Широкий интерес, который вызвали импрессионисты, отчасти можно объяснить тем, что за их картины, в отличие от работ академиков, не надо было платить огромные суммы денег. В 1886 году Бугро, например, получил за свои работы 100 500 франков, в следующем году за одну картину Мейсонье, «Фридланд», было заплачено 336 тысяч франков. Вся сумма, заплаченная на распродаже собрания Танги, укладывалась в 14 621 франк, один лишь Моне шел за приличную сумму в 3 тысячи.
31 января 1895 года Поль, будучи в Париже, написал еще одну коротенькую записку Жеффруа. «Мсье, я продолжаю читать Вашу книгу очерков «Сердце и разум», на которой Вы так любезно сделали надпись, посвященную мне. Читая, я понял честь, которую Вы мне оказали. Прошу Вас и в дальнейшем сохранить ко мне это сочувственное отношение, которое я очень ценю». Эта книга состояла из четырнадцати очерков, герой одного из которых говорил, высказывая точку зрения Сезанна.
Весной Поль попросил Жеффруа позировать ему. «День прибавляется, — писал он, — погода становится милостивее. Я свободен все утро до того часа, когда цивилизованные люди садятся обедать. Я намерен приехать в Бельвиль, чтобы пожать Вам руку и предложить Вам на рассмотрение один проект, который я обдумываю и то отвергаю, то опять принимаю». Это письмо от 4 апреля имело подпись «Поль Сезанн, живописец по сердечной склонности». В течение примерно трех месяцев ежедневно Поль ходил писать Жеффруа на фоне его книжных полок за большим рабочим столом, заваленным бумагами, с цветами в вазе и с гипсовой статуэткой работы Родена. Поскольку работа двигалась медленно, в вазу он поставил бумажные цветы. Исходя из своего извечного неприятия малейших изменений в обстановке Поль мелом отметил на полу, где должны стоять ножки кресла. Но наконец в один прекрасный день Сезанн прислал за своим мольбертом, красками и кистями, объясняя в письме, что это предприятие оказалось выше его сил, что он напрасно взялся за портрет, и просил извинить, что он отказывается его кончить. Жеффруа умолил его вернуться, и Поль действительно писал еще в течение недели. Но он уже потерял веру, отказался в итоге окончательно и уехал в Экс. Портрет он оставил Жеффруа и больше к нему не возвращался.
Эта вещь была на самом деле одной из самых замечательных картин Сезанна. В ней было и богатство деталей, размещенных в точно переданном пространстве, и также общая уравновешенность композиции. Неоконченная голова Жеффруа («О, это под конец», — говорил Поль) покоится на точке пересечения разных линий и цветовых зон, она блестяще объединена с руками. Если обратить внимание на книги, лежащие на столе и стоящие на книжных полках сзади, то можно сказать, что они образуют своего рода интеллектуальное пространство картины. Композиционные линии всех деталей ведут к голове и рукам модели, и можно только восхищаться тем, как Сезанн трактовал этого человека.
Роджер Фрай писал, анализируя портрет Жеффруа, что в нем великолепно уловлено взаимодействие пластики и движения всех элементов. Конструирование единого пространственного организма с вычленением характерных особенностей всех форм является заслугой Сезанна и после него прочно вошло в практику художников XX века. Он был первым, кто все неисчерпаемое многообразие природных форм стал сводить к сбалансированному единству, прибегая при этом к геометрическим упрощениям. Следует помнить, впрочем, что у него не было заранее заданной схемы, к которой он подгонял все естественные формы; его интерпретация была, скорее, постепенным очищением форм в результате продолжительного созерцания.
К этому следует еще добавить, что на характер интерпретации кроме геометрического очищения формы влияло в значительной степени ц эмоциональное отношение Сезанна к изображаемому. В частности, в портрете Жеффруа предельная ясность и вместе с тем сложность системы являются к тому же и выражением личного чувства к модели.
Этот результат явился плодом чрезвычайной симпатии, которую Поль испытывал к критику, — в истоках этой симпатии лежала благодарность за печатные отзывы Жеффруа о его искусстве. За работой Поль обычно разговаривал. Например, он следующим образом отзывался о Моне: «Он самый великий из всех нас, Моне… Отчего же, я сравню его и с Лувром». Новейшие школы типа дивизионизма и тому подобные вызывали у Сезанна смех. Он высказывал восхищение Клемансо и выступал против широких обобщений Жеффруа, который настаивал на глубинной связи между импрессионизмом, последними атомарными гипотезами и биологическими открытиями. Поль со своей экзистенциалистской сосредоточенностью на конкретном моменте боялся подобных обобщений, которые грозили лишить его личные поиски самостоятельности и непосредственной значительности. Когда Поль работал над портретом Жеффруа, он часто запросто завтракал с ним, а также с матерью и сестрой писателя, иногда он отправлялся с Жеффруа в ресторанчик на озере Сен-Фаржо. Там он обычно приходил в возбуждение и заявлял: «Я ошеломлю Париж моими яблоками». Здесь уместно будет подчеркнуть полную гармонию между Сезанном и Жеффруа, существовавшую в то время, так как позже Поль под влиянием Гаске будет иначе оценивать ситуацию.
Ройер в 1906 году опубликовал описание внешности Сезанна в те годы. Будучи пятидесяти четырех лет от роду, он выглядел на шестьдесят четыре. «Для провансальца он был высокого роста, у него был яркий цвет лица, почти белая борода, редкие волосы, удивительно пронизывающий взгляд, чрезвычайно подвижное лицо. Вид грубоватый, почти крестьянский. Он был очень беспокоен, не мог ни минуты усидеть на месте, то громко смеялся, то вдруг впадал в мрачность. Тики выдавали его обостренную чувствительность. С первого взгляда было ясно, что это незаурядная личность. Увидев одну из его работ, я выразил восхищение. Он стал серьезным, волновался. Взяв меня за руку, он сказал дрогнувшим голосом: «Я простой человек, не надо делать мне комплименты и хвалить меня из вежливости». «Я говорю, что я думаю», — возразил я. Поверив в мою искренность, Сезанн растрогался до слез».
6 июля 1895 года Поль писал Моне из Экса: «Я сейчас у матери, ей уже немало лет, она больна и одинока». А где, можем мы спросить, была в это время Мари, которая должна была присматривать за матерью? Она сняла в Эксе отдельную квартиру, потеряв с матерью общий язык, впрочем, это не оправдывает ее отсутствие во время материнской болезни. «Мне пришлось пока оставить начатую у Жеффруа работу, — писал далее Поль. — Он так щедро отдавал мне свое время, что я несколько смущен малыми результатами, которых я добился после стольких сеансов и стольких увлечений и разочарований, следовавших друг за другом. И вот я опять на юге, откуда, наверно, никогда не должен был уезжать в несбыточной погоне за искусством. В заключение письма я бы хотел выразить, как я счастлив был найти у Вас моральную поддержку, которая подбадривает меня и побуждает к работе. Итак, до моего возвращения в Париж, где я должен закончить работу, я обещал это Жеффруа…» Из письма ясно, что в это время Поль определенно собирался закончить портрет.
Днем раньше Поль написал намного менее дружественное письмо своему старому приятелю Ольеру, который приехал в Экс. «Мсье, — начал Поль, зачеркнув перед этим «дорогой». — Мне не нравится тон, который Вы приняли по отношению ко мне в последнее время и, когда Вы уезжали, Ваша невежливая манера держать себя. Я решил больше не принимать Вас в доме моего отца». (Здесь любопытно отметить интересную манеру обозначения Жа де Буффан, Поль словно прикрывается мантией Луи-Огюста.) «Уроки, которые Вы позволили себе мне преподать, таким образом, принесли плоды. Итак, прощайте». Писсарро описал этот эпизод в письме сыну Люсьену со слов Ольера. «Сезанн с экспансивностью южанина выказывал Ольеру самые дружеские чувства. Ольер доверчиво решил последовать за Сезанном в Экс-ан-Прованс. Свидание было назначено на следующий день за вокзале. «У вагонов третьего класса», — сказал Сезанн. Итак, на другой день Ольер ждет на перроне. Он проглядел все глаза, но Сезанна нет как нет. Поезда уходят, его все нет. Ольер в конце концов решает: «Он уехал, подумав, что я уехал раньше» — и отправляется в путь один. В Лионе у него похищают кошелек с 500 франками. Не зная, как быть, он на всякий случай посылает Сезанну телеграмму, Сезанн уже был дома (в Эксе), приехав первым классом. И вот Ольер получает от него ответ. Если бы ты видел это письмо! Сезанн больше не хочет его знать и спрашивает, неужели Ольер принимает его за дурака. В общем, ужасное письмо. Честное слово, это вариант того, что произошло с Ренуаром. Видимо, Сезанн зол на всех: «Писсарро — старая кляча, Моне — хитрец, у них нет ничего за душой, только у меня есть темперамент, только я умею положить на холст красный цвет». Агияр присутствовал при одной такой сцене. Как врач он уверил Ольера, что Сезанн болен, что не надо обращать внимания на его выходки, что он за них не отвечает. Как печально и досадно, что человек, одаренный таким прекрасным живописным темпераментом, так неуравновешен…»
Обмен письмами с Ольером на этом не кончился. 17 июля Поль писал: «Мсье, Ваше шутовское письмо меня не удивило. Но сперва в отношении денежных дел — Вы не должны были бы забывать, что я оплатил Ваш счет у мсье Танги. Умолчим о неудавшейся попытке занять деньги у мадам Ш. Наконец, я не понимаю, как я могу отвечать за потерю денег, которую Вы понесли, по Вашим словам, во время Вашего пребывания в Лионе. Вы можете взять Ваш холст в мастерской на улице Бонапарт, начиная с сегодняшнего дня и до 15 января следующего года. Можете не возвращать деньги, которые я Вам дал взаймы, и остальные. Я надеюсь, что благодаря перемене Вашего отношения Вы сможете продолжить пребывание у доктора Агияра».
Агияр был кубинец, старый друг Писсарро и Ольера, врач и художник-любитель. Поль познакомился с ним через этих своих друзей.
21 сентября 1895 года Поль послал счет своему торговцу красками в Мелене, который, как ему казалось, обсчитал его на 1 франк 20 су. «Я полагаю, что Вы зачтете мне это в мой следующий визит в Мелен». Обретение благосостояния не изменило былых привычек Сезанна времен его бедной молодости. Но он не всегда пребывал в дурном расположении духа. Дружеское письмо Моне написано на следующий день посде надменного послания Ольеру, а в ноябре того же года он отправился на прогулку с друзьями давних лет. 8 ноября Эмиль, сын Филиппа Солари, записал: «Вчера ходили на экскурсию. Мой отец, Сезанн, Ампрер и я. Мы посетили Бибемус, загородный дом удивительной архитектуры. По соседству в каменном карьере были видны странные пещеры. Сезанн, высокий и с белой бородой, и Ампрер, маленький и неправильно сложенный, составляли странную пару. Можно было представить себе карлика Мефистофеля в сопровождении пожилого Фауста. По дороге, пересекая заросшую небольшими деревьями местность, мы неожиданно увидели незабываемый пейзаж с горой Сент-Виктуар на заднем плане и с убывающими планами Монтагюэ по правую руку и с марсельскими холмами по левую. Горы выглядели огромными и в то же время соразмерными нам. Внизу простиралась зеленая вода за плотиной на канале Золя. Обедали мы в Сент-Марке под фиговым деревом провизией, купленной в придорожном трактире. Ужинали в Толоне после прогулки по каменистым склонам. Мы вернулись в прекрасном расположении духа, огорченные лишь падением Ампрера, он был слегка пьян и больно ударился. Мы отвели его домой».
Филипп Солари, после того как ему довелось поработать в Лионе, Блуа, Рейнё, Тарасконе, вернулся в Экс, по-прежнему мечтая о больших работах в старых дворовых постройках на улице Лувра. И он, и Ампрер оба были очень бедны, время от времени Поль их подкармливал. Вместе с обоими Солари он часто карабкался на гору Сент-Виктуар. Восхождение было неопасным, но довольно утомительным и занимало около трех часов. Й Поль, и Филипп в юности часто лазали на эту гору, но теперь прежней легкости уже не было. Предыдущую ночь они провели в селении Вовенарг около подножия горы, в комнате, где на балках под потолком висели источавшие ароматы окорока. С рассветом они были уже на ногах. «Сезанн был очень заинтересован, когда я ему заметил, что на рассвете в утреннем свете зеленые кусты вдоль дороги кажутся голубоватыми». Он заявил: «Этот мошенник заметил это сразу, хотя ему только двадцать, а у меня ушло тридцать лет, чтобы понять это». На вершине путешественники позавтракали в развалинах часовни Кальмадуль на месте одного из эпизодов «Анны Гейерштейн» Вальтера Скотта. Сезанн с моим отцом вспоминали события и приключения их юности. Дул очень сильный ветер весь день». На обратном пути Поль решил показать, что он сохранил былое проворство, и пытался взобраться на небольшую придорожную сосну. Но он был уже усталым, и попытка удалась не очень хорошо. «Да, Филипп, а помнишь, как раньше это нам ничего не стоило?»
Воллар со свойственной ему проницательностью, скрываемой под маской врожденной лени, пытался правильно оценить ситуацию с Сезанном. Он решил, что настало время для создания в широком обществе репутации, которой уже пользовался Поль в среде художников. В своей галерее на улице Лафитт, 39 (она была открыта в 1893 году) он уже устраивал выставки рисунков Мане и работ Форена. Подбадриваемый Писсарро, а также Ренуаром и Дега, он почувствовал, что можно попробовать вполне безопасно устроить показ работ Сезанна. Об этом говорил еще Сёра незадолго до своей смерти. Но, с другой стороны, шум, поднявшийся в связи с даром Кайботта, был столь силен, что мог создать плохую атмосферу. Тем не менее Воллар решился начинать, но прежде всего ему нужен был виновник всей затеи. Писсарро не знал, где находится в данный момент Поль. Воллар пошел по следу по лесу Фонтенбло, обходя деревню за деревней. «Я слышал, что у Сезанна есть мастерская в Фонтенбло, но владелец мастерской сказал, что арендатор уже уехал в Париж и не оставил адрес. Единственной приметой, осевшей в его памяти, было название улицы, в которой имя святого сочеталось с каким-то животным. Воллар сумел угадать, что это была Лион-Сен-Поль, однако, когда он пришел туда, оказалось, что Поль уже уехал в Экс. Но дома был его сын, который обещал написать отцу. Поль согласился на выставку и прислал около ста пятидесяти полотен. Прислал он их в свернутом виде, потому что подрамники занимали слишком много места и обеспечивали к тому же худшую сохранность в частых переездах. Поль проявлял мало интереса ко всему предприятию, возможно, потому, что множество разочарований закалили его и воспитали нечто вроде стоической апатии».
Выставка открылась в ноябре, вход был свободный. Она вызвала шумный интерес, большей частью враждебного характера. 1 декабря «Журналь де артист» писал о «кошмарных видениях жестокости» и выражал опасение, что созерцание этой живописи вызовет сердцебиение у деликатной дамской публики. Но тем не менее выставка, на которой были представлены картины Поля всех его периодов, имела и своих почитателей. Вера в него среди старых друзей-художников возросла. Писсарро писал Люсьену: «Мое восхищение — ничто перед восторгом Ренуара. Даже Дега поддался чарам этого утонченного дикаря. Моне тоже, и все мы… неужели мы можем заблуждаться? Я не верю в это». Моне приобрел три картины, Дега — одну или две, Писсарро обменял бывший у него этюд на «Маленьких купальщиц» и автопортрет Сезанна.
Некоторые критики были настроены дружественно. Т. Натансон из «Ревю Бланш» в статье от 1 декабря отзывался о Поле как об оригинальном творце, одержимом одной идеей. А. Александр в «Фигаро» от 9 декабря в заметке вывел Поля под именем Клода Лантье, увидев его с близкой Золя точки зрения — «изобретательный, но несовершенный, сильный, но не умный». В то же время он упрекал автора «Творчества» за преувеличение благодаря пресловутому «лирическому романтизму» достаточно простых вещей. Из меданского кружка пришел ответ. Тибо-Сиссон, критик из «Темп», писал о Сезанне так, словно он был подлинным Клодом Лантье. «Он остается и сегодня таким, каким был всегда, — неспособным к самооценке, неспособным взять от новой концепции всего того, что могут извлечь из нее умные люди, одним словом, он слишком несовершенен, чтобы уметь реализовать то, что сам видит, и воплотить свои представления в законченные и ясные работы». Жеффруа воспользовался выставкой, чтобы еще раз высказать свою высокую оценку творчества Сезанна. В статье в «Журналь» от 16 ноября он писал, что «если Сезанн, с одной стороны, традиционалист, увлеченный теми, кого он склонен назвать своими учителями, то с другой, он добросовестный наблюдатель, как примитив, ищущий истины. Он знает искусство и желает выявить его непосредственно через сами вещи». Жеффруа называет Сезанна далее «великим правдолюбцем, горячим, простодушным, упорным и очень сложным». В свое время он непременно придет в Лувр. «Все, что есть темного и легендарного в биографии Сезанна, — заканчивает Жеффруа, — со временем уйдет, и останется только чистота, истекающая из собрания его картин». Этой надежде вряд ли суждено осуществиться, Воллар хорошо выбрал момент. Писсарро писал, что многие зрители были сбиты с толку и не знали, как следует относиться к работам Сезанна, но новые собиратели заинтересовались и стали покупать картины: например, Пеллерен, маргариновый магнат, или бывший король Сербии, который заявил: «Почему бы вам не посоветовать вашему Сезанну писать хорошеньких женщин?» В этом же году старый друг Поля, В. Лейде, ставший уже сенатором, пытался выхлопотать ему орден Почетного легиона, но безуспешно.
Глава 2
Жоашим Гаске
(1896)

Жоашим Гаске (1873–1922) вошел в жизнь Сезанна в 1896 году. Привлекательный, энергичный и разговорчивый молодой человек, он был сыном бакалейщика Анри Гаске, старого друга Поля. Юный Гаске горел желанием стать лирическим и пасторальным поэтом; горячий сторонник Мистраля, он был одаренным импровизатором, чей обращенный в прошлое романтизм оборачивался временами в своего рода зачаточный фашизм. Делами семейной лавки он не занимался, процветающий отец не спешил оставлять ее. Анри, «маленький человек с цветущей наружностью, с бритыми губами и подбородком и пышными бакенбардами, придававшими ему аристократический оттенок», известен нам по портрету Сезанна. Его сын женился 23 января 1896 года на Мари Жирар, носившей в кругу друзей титул Королевы провансальских поэтов, приятели устроили из свадьбы грандиозный фестиваль. Тщеславный и самодовольный Гаске является самым ненадежным из биографов Поля, но полностью избегать записей его встреч с Сезанном не стоит. Сдается, что Гаске услышал в Париже, что Сезанн пользуется признанием среди лучших художников и литераторов, и решил завести с ним знакомство. К тому же в некоторых кругах Экса стало зарождаться смутное ощущение того, что в конце концов Сезанн — это не просто повод для шуток, что, возможно, всеобщая молва явилась следствием грубого промаха. Эти сомнения прежде всего циркулировали в Обществе художников-любителей, друзей искусства, президентом которого был Вильвьей. Следует ли им пригласить Сезанна на задуманную ими выставку или лучше попросту игнорировать его? После долгих размышлений Общество решило предложить ему выставить две картины. Послали двух делегатов. Поль был удивлен, польщен и испуган. От нахлынувших чувств он тут же предложил обоим посланцам выбрать в подарок по понравившейся им картине. Один из них принял приглашение, другой отказался. «Моя жена приходит в ужас от современного искусства», — объяснил он. На выставку Поль решил отдать пейзаж с пшеничным полем и вид горы Сент-Виктуар с большой сосной. Обалдевшее при виде этих полотен Общество любителей искусства решило повесить их над входной дверью с внутренней стороны, рассчитывая, что в этом случае, они, бог даст, не привлекут внимания. Однако картины были замечены и осмеяны.
Поль пришел на торжественный ужин по случаю закрытия выставки. Один из выступавших заявил: «Господа, наш период будет назван периодом Бугро и Кабанеля», на что Поль закричал: «Ваш Бугро — это величайший идиот из всех возможных».
Жоашим Гаске писал, что впервые он увидел Сезанна на террасе кафе «Ориенталь» в компании с Солари, Костом и своим отцом.
«Под старыми платанами бульвара Мирабо уже темнело. Разряженная публика возвращалась с «музыки». Город затихал, наступал тихий провинциальный вечер. Друзья Сезанна говорили, а он сидел, скрестив руки, слушал и глядел. Лысый череп, на затылке длинные, еще густые седеющие волосы, бородка и густые полковничьи усы, закрывавшие чувственный рот; свежевыбритый, с ярким цветом лица — его можно было бы принять за старого служаку в отставке, если бы не высокий, шишковатый, прекрасной формы лоб и властный взгляд налитых кровью глаз, взгляд, который сразу схватывал окружающее и больше не отпускал вас. В этот день на нем был хорошо сшитый пиджак, облегавший его крепкую фигуру крестьянина, работника. Низкий воротник открывал шею. Черный галстук был красиво завязан. Иногда он бывал небрежен в одежде, ходил в деревянных башмаках, в старой шляпе. Но когда хотел, он был хорошо одет. Наверно, в это воскресенье он был у своей сестры.
Я тогда еще был никем, едва ли не ребенком (в его-то 23 года и в его женатом положении. — Дж. Л.). На какой-то случайной выставке в Эксе я видел две его картины, и все величие живописи Сезанна открылось для меня. Те два пейзажа открыли мир цвета и линий, и в течение недели я ходил совершенно покоренный этой неизвестной ранее вселенной».
Все последующие комментарии Гаске не показывают сколько-нибудь серьезного проникновения в природу искусства Сезанна, поэтому можно сомневаться в искренности вышеприведенных слов. Согласно Гаске, Сезанн в ответ на изъявления чувств сказал: «Это гора Сент-Виктуар вам так понравилась, что ли? Я завтра пришлю ее вам и подпишу».
Картина действительно была послана Гаске. Это был один из лучших видов Сент-Виктуар, написанный около 1887 года со стороны Бельвью. Продолжим выписку из Гаске: «Затем Сезанн повернулся ко всем остальным. «Вы продолжайте беседу, а я поговорю с этим малым. Пожалуй, я уведу его отсюда. Не пообедать ли нам вместе, Анри?» Он опустошил стакан и взял меня под руку. Мы вышли в темноту и дошли по бульварам до городской окраины, Сезанн был в состоянии невообразимого возбуждения. Он раскрывал сердце, рассказывал мне о своих разочарованиях, одиночестве, подстерегавшем его в старости, о живописи, которая стала для него мученичеством… Я был уверен в его гениальности, я просто чувствовал ее. Никогда бы раньше я не мог поверить, что можно быть столь великим и столь несчастным. Когда я расстался с ним, я не мог понять, — был ли я захвачен святостью его человеческих страданий, или было ли это поклонением его блестящему таланту».
Гаске мог застать Поля в один из периодов его возбуждения, которые сменяли мучительную депрессию. Импульсом к раскрытию внутреннего состояния и помыслов могли послужить комплименты Гаске, облегчившие художнику его мучительное одиночество.
«В течение следующей недели мы виделись ежедневно. Он пригласил меня в Жа де Буффан и показывал там свои картины. Подолгу мы гуляли вместе. Он заходил обычно утром, мы уходили и возвращались уже в темноте, усталые, покрытые пылью, но полные воодушевления, готовые к завтрашним прогулкам. Это была прекрасная неделя, во время которой Сезанн, казалось, родился заново. Мне кажется, основой нашей связи послужила наша общая простота, проистекавшая от моего юношеского неведения и его умудренной и ясной старости. Он никогда не говорил просто о себе, но обычно говорил, что хотел бы передать мне часть своего опыта, поскольку я еще-де только вступаю в жизнь. Он сожалел о том, что я не художник. Загородные пейзажи возбуждали нас. Он со всеми подробностями рассказывал мне о своих взглядах на поэзию и искусство. Мой энтузиазм его вдохновлял и освежал. Все, что я мог ему дать, это была моя молодость, которая делала и его моложе. Он хотел написать мой портрет, а также портрет моей жены. Но начал он с моего отца, однако бросил работу после первого же сеанса, соблазненный нашими прогулками в Толоне, к мосту через Арк или к мельнице, прогулками, омываемыми старым вином и чистым воздухом. Была весна. Он с восторженными глазами упивался деревенской стороной. Первые бледные листочки трогали его до слез. Его вообще все трогало. Он останавливался, чтобы посмотреть на белую дорогу или на облако, проплывавшее над головой. Он вбирал в ладони влажную землю и подносил к лицу, чтобы быть поближе к почве и впитать ее своей кровью.
«В первый раз я увидел весну по-настоящему», — говорил он».
Конечно, Поль с его тоской по ушедшей молодости должен был всей душой откликнуться на поклонение юноши. Гаске со своей непринужденной, хотя и поверхностной поэтичностью, со своим энтузиазмом по поводу провансальского прошлого мог без труда вызвать в Сезанне то возбужденное состояние счастья и доверительности, которое он описывает. «Это приводит меня в хорошее настроение, мне доставляет радость легко закипать», — нередко говорил Поль. Но это вскипание и возбуждение вскоре, как правило, сменялось унынием и тоской. Гаске писал: «Вернулась его уверенность в себе. Он начал даже говорить о своем гении. Однажды под вечер он перестал сдерживаться и заявил: «Я есть единственный из всех ныне живущих художников». Вслед за этим он стиснул кулаки и погрузился в угрюмое молчание. Домой он шел мрачно, будто стряслось какое-то бедствие. На следующий день он не пришел ко мне. Отказался он также принять меня в Жа де Буффан. В течение нескольких дней я ходил туда безрезультатно».
Полю нравился провансальский патриотизм Гаске. Для него такой патриотизм был, в сущности, благоговением перед днями юности и дружбы с Золя, перед землей, по которой он ступал с любовью. В определенном смысле глубочайшие стороны его искусства выражают борьбу за то, чтобы обнажить и полностью понять эту землю, которой он интуитивно наслаждался. Но патриотизм Гаске был совсем другого толка. Он был вскормлен литературными честолюбивыми устремлениями и включал в себя мистическое возвращение к глубоко средневековым, в сущности, позициям. Жалу позднее определял это как «сбалансированное и уравновешенное мышление, живую иерархию, не закосневшую в систему, революционное (фактически антиреволюционное. — Дж. Л.) движение и возвращение к нашей исконной традиции, к выражению нашей чистой национальной философии и наших обычаев». Жалу написал это в защиту вишистского фашизма в «Литературные сезоны» в 1942 году. Возможно, мы зашли бы слишком далеко, называя Гаске середины девяностых годов четко выраженным протофашистом, но он ощутимо воплотил в себе тот подход, который при обострении социальных конфликтов и при более развитом капитализме (при монополиях), фактически составил важную часть фашистской идеологии. И точно: в 1917 году Гаске опубликовал книгу «Выгоды войны». Поверхностная религиозность Сезанна этих лет была, по его собственному утверждению, просто выражением слепого страха смерти, безволием перед умершим Отцом (который теперь довольно причудливым образом перевоплотился в Доброго Бога). Также обращение Поля к церкви вызывалось потребностью ощущать некий защитный покров, который сделал бы менее острым его духовную изоляцию. Религиозность Гаске была религиозностью совсем иного толка. Это была активная вера, несколько театрализованное приписывание Богу собственных своих стремлений и резкая оппозиция всем либеральным или радикальным взглядам. До того как Гаске появился в жизни Сезанна, Поль мог ходить в церковь не без некоторого смущения или даже легкого стыда перед лицом таких антиклерикалов, как Жеффруа, Моне, Писсарро или Клемансо. При случае он немного униженно защищался, но на отношениях это не сказывалось. Еще в конце 1895 года он искренне был дружен с Жеффруа, Моне и другими (хотя его разрыв с Ольером вызвал смешанную реакцию среди друзей, списавших эту выходку на счет параноического всплеска). Теперь же под воздействием мистических тирад Гаске он постепенно начал поворачивать к полному отказу от старых друзей. Так, постепенно он отвернулся от Жеффруа, который по-настоящему глубоко понимал его искусство, и взамен связался с Гаске, который не понимал искусства вовсе.
Можно привести такое (довольно свободно изложенное Волларом) высказывание Сезанна: «Вам следует прочесть «Сердце и разум». В этой книге есть некоторые совершенно замечательные вещи, например сказка под названием «Чувство невозможности». Воллар спросил, почему Сезанн больше не встречается с Жеффруа. Поль ответил: «Понимаете, Жеффруа славный человек и имеет немалый талант, но он все время рассуждает о Клемансо, так что я решил спастись от этого, удрав в Экс». «Значит, Клемансо не принадлежит к людям ваших взглядов?» — спросил Воллар. «Послушайте, мсье Воллар, у него есть, конечно, темперамент, но такому человеку, как я, изнуренному жизнью, лучше все же полагаться на Рим». Если Поль в действительности говорил все это, что довольно вероятно, то эти слова проясняют ту позицию, которую он занял под давлением Гаске.
Тридцатого апреля Сезанн написал Гаске письмо.
«Дорогой мсье Гаске, сегодня вечером я Вас встретил на Бульваре; с Вами была мадам Гаске. Мне показалось, что Вы очень сердиты на меня.
Если бы Вы могли заглянуть мне в душу, Вы не сердились бы. Значит, Вы не понимаете, в каком я печальном положении. Я не хозяин самому себе, я не существую как человек, а Вы, который хотите быть философом, Вы собираетесь меня доконать? Но я проклинаю Иксов (Жеффруа. — Дж. Л.) и прочих шалопаев, которые, надеясь получить 50 франков за статью, выставили меня напоказ публике. Всю жизнь я работал, чтобы добиться признания, но я думал, что можно писать хорошо сделанные картины и не выставлять перед всеми свою частную жизнь. Конечно, художник хочет подняться как можно выше в интеллектуальном смысле, но как человек он должен оставаться в тени. Удовлетворение он должен получать от самой работы. Если бы только мне давалась реализация, я бы спокойно сидел в своем углу с несколькими старыми товарищами по мастерской, с которыми мы, бывало, отправлялись распить стаканчик. У меня есть один приятель с той поры (может быть, Ампрер. — Дж. Л.), он неизвестен, хотя в тысячу раз талантливее тех пройдох, увешанных орденами и медалями, так что тошно смотреть. И Вы хотите, чтобы я в моем возрасте еще чему-то верил? Да я уже почти умер. Вы молоды, и я понимаю, что Вам нужно добиться успеха. Но мне, что мне остается делать, как не смириться, и, если бы я так не любил природу родного края, меня бы давно здесь не было.
Но я Вам уже достаточно надоел и после того, как я объяснил Вам мое положение, надеюсь, Вы не будете смотреть на меня так, как если бы я покушался на Вашу безопасность. Учтите мой возраст, дорогой мсье, и примите мои наилучшие пожелания».
Нельзя не удивляться той зависти, с которой Поль на протяжении всей своей жизни относился к вульгарным знакам общественного успеха, те самыемедали, «на которые тошно смотреть», он всегда жаждал получить. Также любопытно отметить, как трансформировалась борьба таких людей, как Жеффруа, за привлечение серьезного внимания к работам Сезанна в дешевые попытки «выставить перед всеми его частную жизнь». Поль довольно неблагодарно переложил ответственность за то, что серьезного внимания он не добился, на тех, кто в наименьшей степени был повинен в этом. Преувеличенное поклонение Гаске, перемежавшееся нападками на радикалов, лежало в основе изменившихся взглядов Сезанна. «Творчество» Золя еще можно было бы назвать попыткой выставить напоказ его личную жизнь, но Жеффруа в подобных поползновениях нимало не повинен. Создается впечатление, что Поль обратил против всей группы радикально настроенных литераторов те чувства, которыми он кипел по отношению к Золя.
Гаске продолжает: «По получении я ринулся в Жа де Буффан. Увидев меня, Сезанн простер свои объятия… «Садитесь сюда, я собираюсь написать ваш портрет». Однако вскоре Поль потерял интерес к этой работе, которая прекратилась через пять или шесть сеансов». Нюма Кост сообщал о плачевном состоянии духа Сезанна в письме Золя, написанном в апреле 1896 года: «Я встретил недавно и с тех пор продолжаю видеть часто Сезанна, который живет здесь уже некоторое время… Сезанн очень удручен, и его часто одолевают мрачные мысли. Хотя его честолюбие должно быть до некоторой степени удовлетворено: его работы успешно продаются, он к этому не привык. Но его жена заставляет его делать массу идиотских вещей. Он должен ехать в Париж или возвращаться оттуда в зависимости от ее приказов. Чтобы сохранить мир, он вынужден был все отдать, а его замечания, которые иногда прерываются, позволяют понять, что сейчас у него остался лишь скудный месячный доход в сотню франков. Он снял маленькую хижину в каменоломнях рядом с плотиной и проводит там большую часть времени».
Судя по этому свидетельству, Мари перестала защищать Поля от Ортанс, если последняя и вправду ввергла его в столь плачевное состояние.
В качестве моделей Сезанн продолжал использовать крестьян и поденщиков, приходивших в Жа де Буффан. Одна крестьянка была написана в образе кухарки, а ее сын был запечатлен сидящим за столом, на котором лежит череп. Когда не было моделей или старых набросков, Поль использовал иллюстрации из журналов сестры.
В записке от 21 мая Гаске Сезанн писал: «Дорогой мсье Гаске, я должен рано вернуться в город сегодня и не смогу больше быть в Жа. Прошу извинить меня за это. Вчера вечером с пятичасовой почтой я не получил «Сердце и разум» Жеффруа, а также статью из «Фигаро». Об этом я уже протелеграфировал в Париж. Следующая встреча, если Вы не против, в пятницу, в обычный час». Нам известно, что экземпляр книги Жеффруа Поль получил еще в 1895 году и тогда же письменно благодарил автора. Зачем ему понадобилась еще одна книга того самого человека, которого он столь сильно хулил в предыдущем письме Гаске? Можно лишь предположить, что, поливая Жеффруа, дабы удовлетворить Гаске, он делал вид, что вовсе не читал книги. Номер «Фигаро», по всей видимости, имелся в виду от 2 мая, в котором Золя написал статью, названную Жеффруа «победными фанфарами в ритме погребального марша». Золя вспоминал в этой статье битву, которую он начал тридцать лет назад, битву за признание Мане и всех остальных. Золя писал: «Я вырос чуть не в одной колыбели с моим другом, моим братом Полем Сезанном, великим художником-неудачником, в котором только теперь разглядели черты гениальности». Далее, повествуя о своих отношениях с художниками, Золя добавил: «Предположим, если хотите, что я проспал тридцать лет. Еще вчера, сгорая от лихорадочного желания покорить Париж, мы с Сезанном бродили по улицам города. Только вчера я был в Салоне 1866 года вместе с Мане, Моне и Писсарро, чьи картины так грубо были отвергнуты тогда». «И вот теперь, — продолжает Золя, — что я увидел? Перемены налицо, но это — «самая непредвиденная нелепость». Все стали похожи на Мане, Моне и Писсарро». «Конечно, те (картины 1860-х гг. — Дж. Л.) были чересчур темны, но теперешние чересчур белы. Жизнь куда разнообразнее, горячее и тоньше». Бледная немочь пришла на смену черному мраку, а теорию рефлексов за истекшие тридцать лет довели до безумия. «Мы справедливо утверждали, что освещение предметов и лиц зависит от той обстановки, в которой они находятся; под деревьями, например, обнаженное тело принимает зеленые отсветы; и так существует бесконечная перекличка рефлексов, которые должен улавливать художник, если он хочет, чтобы его картина воспроизводила истинную природу освещения. Свет непрерывно меняется, дробится, разлагается на составные части… Когда в этих исканиях художники пересаливают, умничают, они быстро скатываются до карикатурности. Кого, в самом деле, не обескуражат эти разноцветные женщины, эти фиолетовые пейзажи и оранжевые лошади, которых нам преподносят, поясняя якобы научным образом, что они стали такими благодаря определенным рефлексам или благодаря разложению солнечного спектра. Мне искренне жалко даму, лицо которой художник изобразил с одной стороны синим, потому что он осветил его луной, а с другой стороны желтым, потому что он осветил его лампой под абажуром! А чего стоят пейзажи, где деревья на горизонте розовато-лиловые, воды красные, а небеса зеленые! Это ужасно, ужасно, ужасно». Золя хвалит Моне и Писсарро за их правдивость, но настаивает, что всякое направление утрируется и вырождается в ремесленничество и ложь, как только им завладевает мода. «Любая справедливая и благородная теория, которая вначале заслуживала, чтобы за нее проливали кровь, попав в руки к подражателям, становится чудовищным заблуждением, и его надо безжалостно искоренять, очищая злаки истины от заглушающих их плевел».
В конце статьи Золя вопрошает: «Неужели я сражался за это?» И отвечает: «Придут новые художники, проложат новые пути; но те художники, которые определили развитие искусства своей эпохи, останутся в веках даже на развалинах созданных ими школ. Только творцы, создатели человека торжествуют в искусстве; только гений плодотворен и творит жизнь и истину!»
Можно предположить, что Гаске слышал о статье Золя и хотел убедиться, что Поль читал ее. Он стремился, видимо, узнать, насколько глубоко задела Сезанна фраза о «великом художнике-неудачнике». На самом же деле мнение Поля об «издержках импрессионизма» было не так уж далеко от взглядов Золя, так же как и Золя, Сезанн верил в плодотворного гения, который творит жизнь и истину. Он всю жизнь боролся за то, что очертил в своей статье Золя, даже если Золя ясно и не знал этого (хотя, если верить позднему разговору, записанному Гаске, Золя незадолго до смерти видел зрелые работы Сезанна и начал понимать их значение).
В начале июня 1896 года Поль отправился в городок Виши с Ортанс и Полем-младшим. Там в конце июня он получил второй номер журнала, который начал выпускать Гаске, «Муа Доре» (это название должно было напоминать о «Золотых стихах» Пифагора). Затем в июле Сезанны перебрались на озеро Аннеси (в горной Савойе), оттуда 21 июля Поль писал Гаске: «Озеро, сжатое здесь с двух сторон крутыми берегами, как будто создано для упражнения молоденьких мисс в рисовании. Конечно, это все равно природа, но такая, какую мы видим в альбомах юных путешественниц».
В июльском номере своего журнала Гаске опубликовал эссе под названием «Июль», в котором был длинный и многословный пассаж о Поле без сколько-нибудь точного понимания его работ. Там он сравнивал Сезанна с Клоделем. Когда Гаске заявил, что хочет написать о Поле книгу, то тот не ответил, что настроен против попыток привлечь к нему внимание, как это было в случае с Жеффруа.
Двадцать третьего июля, находясь в гостинице аббатства в Талуаре, Сезанн написал Солари: «Когда я был в Эксе, мне казалось, что мне будет лучше в другом месте, теперь, когда я здесь, жалею об Эксе. Моя жизнь становится смертельно однообразной. Я ездил в Экс три недели назад, видел Гаске-отца, его сын был в Ниме. В июне я пробыл один месяц в Виши, там хорошо кормят, здесь еда тоже неплоха». Мысли Поля обращались к прошлому. «Твой сын, наверно, скоро приедет в Экс, Поделись с ним воспоминаниями, расскажи о наших прогулках в Пейриер, на гору Сент-Виктуар, и, если ты увидишь Гаске, который, вероятно, наслаждается отцовскими радостями, передай ему от меня привет»: Далее Поль описывал озеро: «Здесь не очень интересно, но озеро с высокими холмами вокруг (считается, 2000 метров высоты) очень красиво, однако никакого сравнения с нашими местами; когда родился на юге, уже ничто другое не нравится. Надо бы иметь здоровый желудок и не бояться хорошей выпивки; «виноград мать вина», как говорит Пьер, ты помнишь? И подумать только, что в конце августа я вернусь в Париж».
В назначенное время Поль переехал из Талуара в Париж. Он искал мастерскую на зиму. В письме Гаске от 29 сентября он сообщал, что находится на Монмартре вместе с работами — на «расстоянии ружейного выстрела от Сакре-Кер, башенки и кампанилы которой уносятся в небо». В Париже Поль читал Флобера и номера журнальчика, которые исправно присылал ему Гаске. «Это не дает мне забыть Прованс», — говорил Поль. С мастерской у него были трудности. Батиньоль его не устраивал, и в конце декабря Сезанн перебрался на улицу Сен-Лазар, 73, где сразу свалился на месяц в постель с гриппом.
В том же 1896 году, летом, когда Поля, по всей видимости, не было в городе, в Экс приехал Золя, чтобы погостить у Нюма Коста несколько дней. По возвращении в Париж он писал: «Мое краткое путешествие в Экс показалось мне почти сказкой, словно частица моей юности ненадолго вернулась, и я снова увидел тебя, мой старый друг, тебя, который был частью моей юности». Можно не сомневаться, что Золя не знал, что Поля нет в Эксе, и надеялся повидаться с ним. История, которую приводит в этой связи Воллар, полностью придумана и не соответствует истине. Поль, по его словам, работал над пейзажем, когда ему сообщили, что в Экс приехал Золя. «Я тут же, даже не собрав вещи, побежал в гостиницу, где он остановился. По дороге, однако, я встретил приятеля, который сказал, что накануне кто-то спросил Золя: «Не хотите ли вы встретиться за обедом с Сезанном?» — на что Золя ответил: «Что ж хорошего будет сидеть и смотреть снова на этого неудачника?» Поэтому я повернулся и побрел обратно к моему пейзажу».
Мерой недостоверности Воллара может служить его замечание о том, что Поль побывал в Амстердаме, на. основании того, что Сезанн похвалил голландские музеи и в комнате художника висела репродукция «Ночного дозора». (Видимо, в истоках ошибки лежит опечатка каталога выставки, в которой пейзаж в Овере был напечатан как «Anvers», то есть Антверпен.) Воллар там же приводит характерное высказывание Поля по поводу «Ночного дозора»: «Нет ничего более нелепого, чем публика, которая толпится перед «Ночным дозором» с восторженным видом, — эти же самые люди плевали бы на Рембрандта, если бы вдруг цены на его картины стали падать».
В этом году Воллар приехал в Экс за картинами Сезанна. Увидев Поля, он опознал в нем одного из посетителей выставки Форена, показанной около двух лет назад. Он тогда осмотрел все с самым пристальным вниманием, писал Воллар, и, «уже взявшись за ручку двери, обратился ко мне: «Году в 1875-м я как-то был в Лувре и увидел там молодого человека, который копировал Шардена; я подошел к нему, посмотрел на его работу и подумал: из него будет толк, потому что в рисунке он дает форму! Это и был ваш Форен».
Сезанн принял Воллара очень радушно. «Сын часто говорил мне о вас. Вы извините меня, мсье Воллар, я немного отдохну перед обедом: я только что пришел с мотива. А Поль покажет вам мастерскую».
Первое, что поразило Воллара, едва он переступил порог мастерской, была большая фигура крестьянина, исполосованная на куски мастихином. «Стоило ему заметить, что у сына утомленный вид и, стало быть, сын ночевал «на стороне», — беда той картине, которая оказывалась под рукой!» (Любопытно заметить, что таким образом — нападением на полотно — Сезанн выражал ревность.) Поль-младший вырос довольно пустым бездельником, частенько посещавшим веселые дома. Большую часть жизни не получая в должной мере отцовского влияния, он находился на попечении пустоголовой Ортанс, от которой приобрел замашки маленького буржуа. Сезанн, однако, был вполне доволен, потому что молодой человек не слишком обременял его, не качал, как говорится, своих прав и иногда помогал отцу вести дела.
На полу мастерской, описывает Воллар, валялась толстая папка, набитая акварелями; на тарелке догнивало несколько яблок. На стенах висели гравюры и фотографии: «Аркадские пастухи» Пуссена, «Живой, несущий мертвого» Луки Синьорелли, несколько вещей Делакруа, «Погребение в Орнане» Курбе, «Успение» Рубенса, «Амур» Пюже, несколько Форенов, «Психея» Прюдона и даже «Римская оргия» Кутюра.
За обедом, передает Воллар, Сезанн был очень весел и чрезвычайно вежлив. Ко всякой просьбе он добавлял: «Извините, пожалуйста». Воллар следил за каждым своим словом, чтобы ненароком не вызвать гнев вспыльчивого и раздражительного Сезанна, однако не уберегся от опасного промаха. За столом был упомянут Гюстав Моро, и Воллар заметил, что «он отлично преподает, этот профессор». Когда Воллар начал эту фразу, Сезанн подносил к губам стакан; он тут же замер со стаканом в одной руке, а другую приложил рожком к уху, поскольку был слегка глуховат. «Профессоры, — воскликнул он и таким яростным движением поставил стакан на стол, что тот разлетелся вдребезги, — профессоры все сволочи, кастраты, дерьмо! За душой у них нет ни черта!» При виде осколков стакана Сезанн ненадолго смутился, потом нервно засмеялся и снова заговорил о Моро: «Этот изысканный эстет пишет одно только старье, потому что его стремления в искусстве порождены не ощущением природы, а чужой живописью, на которую он нагляделся в музеях, и еще большей склонностью философствовать, проистекающей от слишком усердного изучения старых мастеров. Попади этот почтенный художник в мои руки, я бы сумел внушить ему здоровое, живительное и единственно правильное понятие о том, что настоящее искусство развивается только в контакте с природой. Самое главное, поймите, мсье Воллар, это выйти из-под эгиды школы, каких бы то ни было школ! Так что Писсарро вовсе не заблуждался, правда, он заходил, пожалуй, слишком далеко, говоря, что надо сжечь все некрополи искусства». (Скорее всего, эта сцена представляет собой скомпонованные Волларом высказывания, причем, видимо, на основе предыдущих чужих записей, а не по собственным воспоминаниям.)
Через некоторое время за той же трапезой кто-то упомянул имя юного уроженца Экса, который незадолго до того получил в Париже звание бакалавра наук. Желая выразить уважение Эксу и довольный, что может сказать заведомую банальность, которая уж не должна будет вызвать возражения, Воллар заметил, что Экс должен гордиться этим будущим ученым. Поль-младший сделал Воллару тайный знак, чтобы тот молчал, и, когда все вышли из-за стола, объяснил парижанину, что отец терпеть не может ученых, в его глазах ученый в науке и профессор в искусстве стоят один другого.
После этого беседа за столом текла более или менее спокойно об искусстве и литературе. Поль одобрительно отозвался о Курбе, оговорившись, что «выразительные средства у него несколько тяжеловаты». Воллар заговорил о Верлене, вместо ответа Сезанн встал и продекламировал «Падаль» Бодлера:
«Вы помните ли то, что видели мы летом,
Мой ангел, помните ли вы
Ту лошадь дохлую под ярким белым светом
Среди рыжеющей травы?
Полуистлевшая, она, раскинув ноги,
Подобно девке площадной,
Бесстыдно, брюхом вверх лежала на дороге,
Зловонный выделяя гной».
(Перевод В. Левика)
Воллар снова попытался вернуться к Верлену, но Поль прервал его: «Уж если кто силен — так это Бодлер. Его «Романтическое искусство» великолепно, а главное, он не ошибается в своих оценках художников». (Эту фразу Воллар позаимствовал из более позднего письма Сезанна к сыну.)
Воллар подтверждает, что Поль терпеть не мог ни Ван Гога, ни Гогена. Торговец попытался сказать Сезанну, с каким восхищением относится к нему Гоген, но Поль не слушал. «Поймите, мсье Воллар, — говорил он, — у меня есть маленькое, но присущее мне одному ощущение, но мне никак не удается выразить его до конца. Я подобен человеку, у которого есть кусок золота, но он не может им воспользоваться». (Если Поль и вправду использовал здесь выражение «маленькое ощущение» — petite sensation, то, несомненно, он припомнил свое самоуничижительное шутовство в Живерни, но, скорее всего, Воллар попросту повторяет это выражение вслед за Жеффруа.)
Затем, говоря о «Ночном дозоре» Рембрандта, Сезанн заметил, что грандиозное искусство в конце концов утомляет. «Согласитесь, мсье Воллар, ведь было бы тошно иметь у себя в спальне «Плот «Медузы». Внезапно он переменил тему: «Ах, когда же наконец я увижу одну из моих картин в музее!» Как раз незадолго до этого директор Национальной галереи в Берлине Чуди выразил намерение приобрести один из пейзажей с видом Жа де Буффан. Воллар высказал при этом сожаление по поводу предубеждения германского императора против школы импрессионистов. «Он совершенно прав, — возразил Сезанн, — эти импрессионисты до добра не доведут. На самом деле нужно иное — преобразить Пуссена в согласии с природой. Вот где вся суть». (Позднее мы еще вернемся к толкованию фразы о Пуссене, которую Воллар взял у Бернара, а не непосредственно у самого Сезанна.)
Воллар сказал Сезанну, что император Вильгельм заметил по поводу Каульбаха: «И у нас теперь есть свой Деларош!» — на что Сезанн сразу взорвался: «Я не признаю живописи кастратов». Зашла речь о Коро. Давясь от смеха, Сезанн произнес: «Эмиль уверял меня, что Коро дал бы ему более полное наслаждение, если бы населил свои леса не нимфами, а простыми крестьянками». Сезанн вскочил и, грозя кулаком воображаемому Золя, закричал: «Ну и кретин!» В следующий миг гнев его утих, и тоном, в котором еще слышалось волнение, он произнес: «Извините меня, я так люблю Золя!»
На следующий день Поль повел Воллара посмотреть картины домой к Мари, но эта набожная старая дева была в церкви — был час вечерни. Дожидаясь Мари, Сезанн с Волл аром гуляли по саду. «Редко какая прогулка была столь полезна моей душе», — говорил Воллар. Они прошли затем к реке; приложив руку козырьком к глазам, Сезанн рассматривал пейзаж у реки: «Как хорошо бы написать здесь обнаженную модель». Потом он добавил: «Посмотрите на это облако. Я бы хотел уметь передать его. А вот Моне может, у него есть мускулы».
Воллар рассказывал много историй об отношении к картинам Поля в Эксе. Некоторые владельцы даже не хотели глядеть на этакую мазню и держали полотна в кладовках. Одна графиня в ответ на замечание Воллара о том, что в погребе картину могут пожрать крысы, величественно сказала: «Что ж, пусть грызут. Я не лавочница».
Когда местные жители узнали, что в Экс приехал торговец картинами, множество любителей ринулось к нему, чтобы продать свои произведения. Но ему удалось все же приобрести несколько «Сезаннов». Так, одна чета после долгого совещания запросила у Воллара тысячу франков за несколько полотен. Воллар согласился. Последовало еще одно продолжительное совещание, затем владельцы заявили, что не дадут картин, покуда в банке не установят подлинность банкноты. Мужу хозяйки, который отправился для этого в банк, жена посоветовала обменять там же билет на золото, если он окажется настоящим («так будет безопасней в случае пожара»).
Один из жителей Экса заявил Воллару: «Я понимаю, что все это значит: парижане покупают его работы, чтобы выставить нас на посмешище». Впрочем, водилась у Поля и одна поклонница в Эксе. То была некая аптекарша, которая хотела получать от него советы и поощрение в своих опусах, — в свободное время она писала маленьких овечек в хлеву. Поль говорил Воллару: «Мадам С. просила меня давать ей уроки. Я ей сказал: «Следуйте моему примеру. Нужно прежде всего делать все возможное, чтобы развить собственную индивидуальность». Она неплохая труженица, если ей продолжать еще лет этак двадцать, из нее получится великолепная последовательница Розы Бонёр. Если бы я был так же умен, как мадам С., то я уже давно бы попал в Салон». Воллар замечает, что Поль не собирался высмеивать художницу-аптекаршу, поскольку он искренне уважал любого, который честно работал, чтобы развивать свою индивидуальность. Он не находил такой искренности и отпечатка личности в работах академистов типа Синьоля и Дюбюфе, но в искусстве Бугро он усматривал больше честности. Иногда в припадке ярости из-за трудностей с «реализацией» Сезанн кричал: «Я бы хотел стать Бугро!» — и пояснял: «Этот тип сумел-таки развить свою индивидуальность». Воллар здесь, пожалуй, преувеличивает, но несомненно, что Поль временами испытывал зависть к ловкости и умелости, которых ему самому недоставало. А огромное желание попасть в официальный Салон, не оставлявшее его на протяжении всей жизни, лишь подогревало эту зависть. Сначала он, конечно, стремился попасть в Салон, чтобы поразить своих эк-ских хулителей и убедить отца в своем таланте, ибо только такой официально, установленный успех мог утвердить его в глазах обывателей Экса и впечатлить Луи-Огюста. Но недостаток «искусности», неумение идти каким-либо иным путем, кроме того, на который толкали его собственные эмоции и ощущения, действенно пресекали все возможности успешно социализоваться. Поэтому в сознании Сезанна всегда оставался разрыв между стремлением к официальному успеху и глубинными попытками «реализации».
В 1896 году Сезанн написал картину «Старушка с четками». Принятая датировка этой вещи периодом 1900–1904 годов неверна, так как Гаске упоминает ее в своей статье этого года. Там, в частности, сказано: «В течение восемнадцати месяцев Сезанн писал в Жа де Буффан свою «Старуху с четками». Когда полотно было закончено, он задвинул его в угол. Оно покрылось толстым слоем пыли, валялось на полу, по нему чуть не ходили ногами. Однажды за печкой я сумел заметить эту картину. На ней валялись куски угля, а в один угол дул теплый воздух из трубы. Каким-то чудом живопись не пострадала, я вытащил ее и почистил». Сезанн забросил этот холст, потому что ему не вполне удался рисунок (левое плечо было неточно написано, хотя он пытался переписать его). К тому же в сравнении с другими работами этих лет ему удалось хуже передать объем.
Эту картину вряд ли возможно было писать восемнадцать месяцев, как говорит Гаске. К работе над ней Поль приступил вскоре после знакомства с Гаске и его приятелями (старушка была бывшей служанкой одного из них), то есть это было вскоре после бегства Сезанна из Парижа от Жеффруа. Если сравнить неудачную передачу структуры объемов и цветовых соотношений в «Старушке с четками» с логически ясной системой организации пространства в портрете Жеффруа, то мы сможем представить, почему художник резко бросил ее. Более того, контраст между этими двумя работами позволяет понять те душевные сдвиги, которые произошли в Сезанне после того, как он прервал работу над портретом Жеффруа и познакомился с Гаске. Почувствовав поражение в борьбе за крайнюю степень рациональности в портрете Жеффруа, Поль решил взяться за темы крайней подавленности, болезненного приятия благочестивой старости, но и здесь он потерпел поражение.
Гаске, возможно, понял в этой работе стремление Поля отречься от мира Моне и Жеффруа и войти с головой в экскую благочестивость и следующими словами описывал эту картину в статье 1896 года: «…старая женщина, служанка, со страстью и смирением сжимает в старческих руках бусинки четок. От ее простого опущенного лица исходит свечение». Позже он вдохновенно сочинил целую историю — женщина была монахиней, потерявшей веру, в семьдесят лет она с помощью лестницы перелезла через стены своей обители и устремилась прочь. Поль увидел ее, слабую духом и телом, блуждавшую вокруг монастыря, и нанял в служанки, а также использовал в качестве натурщицы. Она приворовывала у него, но художник благородно не хотел замечать этого. Однажды, когда она была больна и не смогла позировать, Сезанн сам обрядился в ее одежды и стал себя писать в этаком виде. Вся эта история рисует Поля не таким, каким он был, а каким его хотел видеть Гаске. Пассаж с переодеванием в женскую одежду полностью измышлен. Когда мы вспомним, что Поль требовал от своих моделей полного соответствия раз принятой позе, то какая вообще могла быть ему польза от шутовского переодевания в старуху?
Но все же был свой смысл в утверждении того, что Поль отождествлял себя с миром работников и крестьян Прованса, ибо сердцем он принадлежал миру Луи-Огюста. Мы видели, что когда он в 1860-е годы приехал в Париж, он был близок к радикальным и даже революционным кругам. Экономический кризис 1882 года явился провозвестником его личного кризиса 1885–1886 годов. Разумеется, эту связь нельзя упрощать, но, поскольку Сезанн не мог глубоко проникнуть в законы общественных изменений, он мог лишь смутно чувствовать, что нарастает конфликт между его собственными взглядами, глубоко укорененными в лоне традиционных крестьянских представлений, и радикальной позицией, олицетворявшейся политиками типа Клемансо. Это внутреннее напряжение и позволило ему расстаться с Жеффруа и сблизиться с Гаске. Все, что Сезанн мог понять в окружающем мире, — было ощущением постепенного падения и исчезновения привычного ему уклада и его ценностей, что, конечно, значительно усугубляло чувство его изоляции.
Эта социальная позиция оказалась важной для искусства в следующем аспекте. Самоощущение стоящего на земле крестьянина углубило чувство конкретности у Сезанна, для него невозможно было последовать увлечению абстрактным началом в импрессионистическом методе, как это было, например, с Моне, более близким среднему классу. Сезанн тяготел к конкретному объекту, в этом он разделял потребность вещности, составившей сильную сторону голландского искусства и воплотившейся в существенных аспектах искусства французского, которое всегда сохраняло тесные связи с полукрестьянским и полуремесленным средним классом (например, Шарден). Глубинные силы, которые заставили Сезанна трансформировать импрессионизм в искусство прочных форм, структуры и плотности, в искусство взаимодействия пространственных планов разной глубины, были тесно связаны с подспудной крестьянской основой художника. Луи-Огюст манипулировал деньгами, и Поль восставал против такого вида деятельности. Однако для Луи-Огюста деньги были просто отражением разного рода конкретных вещей (собственностью его клиентов, их характерами и ремеслом). В этом смысле деньги были еще далеки от своих абстрактных свойств, которые они приобретали на уровне чистых финансов. В борьбе Поля с Луи-Огюстом проявились наиболее полным образом основополагающие качества их общего мира. В нем ремесленник со своими орудиями труда, крестьянин со своей фермой продолжали вести образ жизни, еще не связанный в значительной степени с денежным обращением, — все это лежало в основе неосознанной борьбы Сезанна за проникновение в мир конкретности и за овладение им, за схватывание предметов во всей их полноте, в их четкой обособленной самости и в их взаимодействии. Его любовь к земле, родной земле его юности и юношеских радостей, была связана с ощущением, что истинному гармоническому контакту мешает что-то чуждое и неопределенно-абстрактное. Обладание благодаря радости было для Сезанна противоположностью обладанию благодаря силе денег. Луи-Огюст, как представитель власти денег, был врагом, которому должно было сопротивляться. (Тот факт, что Поль по-своему любил Луи-Огюста, осложняет его психологический портрет и является причиной частой смены настроения — от чувства мятежного и вольного сопротивления до ощущения собственной неблагодарности, что в итоге вело его к мысли о неотвратимом возмездии, о конечной потере, о смерти.)
Если рассматривать в широком плане, то мы можем связать частный конфликт Сезанна со всей ситуацией, которая стала развиваться в обществе с начала XVIII века, когда усиление роли денег и рыночных отношений, сопровождаемое экспроприацией крестьянства, породило в умах общее чувство потери почвы, ностальгическую тягу к фольклору, народным песням и традициям — то есть к тому, что лежит в самой основе романтизма. Романтическое движение зародилось в Англии, где соответствующие общественные процессы протекали с большой интенсивностью. Для нас сейчас процесс обезземеливания и искоренения крестьян представляется чрезвычайно медленным и неочевидным делом — во Франции он оказался в какой-то степени успешным лишь в XIX веке; но, не рассматривая в подробностях экономические аспекты, мы можем видеть, что в области культуры было зафиксировано несколько значительных потрясений. Ощущение утраченной земли, потери почвы отозвалось подъемом современной пейзажной живописи. Это естественным образом пришло из Англии, достигнув высшего выражения в творчестве Констебла и Тёрнера. С достижением буржуазией полного триумфа романтическое движение в Англии стало слабеть и хиреть, авангард романтической битвы переместился во Францию, где он сначала был вовлечен в непосредственную политическую борьбу, отражавшуюся в историческом жанре живописи. Высшим выражением этих тенденций было творчество Давида, Гро, Жерико и раннего Делакруа. Революция 1830 года принесла конец этой фазе движения, возник настоящий и полный романтизм, во главе которого встал Делакруа. Отчасти благодаря ему, а отчасти из-за заслуг барбизонской школы роль пейзажной живописи еще более возросла. Однако лишь после поражения наиболее радикальных и социалистических элементов в революции 1848 года жанр пейзажа стал главенствовать в романтическом движении. Тем временем элементы системы Давида, Гро и Жерико были развиты в реалистической школе Курбе, который сознательно противопоставил себя академической живописи, признававшейся высшей буржуазией. В молодости Сезанн пытался придерживаться обеих тенденций: идущей от Курбе и попавшей через Коро и Писсарро в импрессионизм, и в то же время он вдохновлялся Делакруа, с чьей помощью стремился обрести способ выражения глубоких внутренних конфликтов и чувственного возбуждения.
Та роль, которую Сезанн играл в развитии живописи, определялась в конечном итоге поисками прочной структуры для передачи полной вещественности объектов и их взаимосвязи, выраженной пространственными цветовыми модуляциями. Мы можем уверенно связать эти поиски с упрямым крестьянским миром, которого он никогда не переставал отражать. В конечном итоге его можно назвать единственным художником, проникшим во все эстетические проблемы своего века, единственным, кто попытался со всеми ими схватиться. Хотя Сезанн и не преуспел в попытке создать полный рубенсовский мир, который грезился в молодости ему и Золя, он сумел достичь новой конкретности, новой согласованности структуры и взаимосвязей, которые вполне соответствовали этим эстетическим проблемам, и, таким образом, достижения Сезанна знаменовали собой новое рождение искусства. И он не виноват в том, что никто не последовал за ним по открытой им дороге. Почему так произошло и что случилось вместо этого, мы рассмотрим несколько позже.
Сейчас остановимся еще на некоторых соображениях по поводу среды обитания Сезанна, его жизни среди работников и ремесленников родной округи. Во-первых, следует учесть, что его наиболее удавшиеся фигурные композиции выполнены с простых людей, которых он неплохо знал, — в особенности это были работники и садовники в Жа де Буффан. В ранние годы Поль писал дядюшку Доминика или своих друзей: по мере того как его искусство мужало, Поль достигал все больших успехов, работая над образами своих старых знакомых, например над портретами Бойера или Шоке, у которого он чувствовал себя как дома. Для многих картин ему позировала Ортанс, сидя в своей застывшей манекенной позе. Но подлинного, большого триумфа Сезанд достиг начиная с «Масленицы». Успех этой двухфигурной композиции был продолжен портретом Жеффруа и даже «Старушкой с четками» и потом достиг наивысшей точки в портретах работников. В изображении крестьян в «Игроках в карты» Сезанн достиг наиболее мощного и одновременно тонкого постижения человека. Это было не случайным. Он мог проникнуть в этих людей — войти в их привычки и жесты, понять их манеру сидеть и стоять и, наконец, проникнуть в особенности их сознания в той степени, в какой он не мог понять никаких других людей. С одной стороны, они, конечно, принадлежали к иному миру, чем одинокий страдающий художник, но, с другой стороны, именно они населяли тот мир, в котором он чувствовал себя спокойно и умиротворенно. Они ничего не требовали от него. Они были просты и незамысловаты, они олицетворяли существенную часть натуры Сезанна, будучи символом укорененности в земле, той укорененности, которой он сам так жаждал достичь. Через этих простых людей Сезанн обретал человечность. Борели приводит следующее высказывание Сезанна: «Я люблю всех, кто живет и стареет, не стараясь изменить обычаи, кто спокойно позволяет себе жить в соответствии с законами времени. Посмотрите на этого старого хозяина кафе — какой стиль! Полюбуйтесь на девушку из магазина — конечно же, она прекрасна. Но ее прическа, ее одежда — что за банальная ложь!»
Во-вторых, чувство конкретных вещей у Сезанна, связанное с причастностью к миру людей, которые производят эти вещи, получило свое полное воплощение в его натюрмортах. Вообще, чувственность пронизывает все работы художника, но здесь, поскольку он имел дело с маленькими предметами из своего повседневного обихода — это прежде всего плоды земли и обычные домашние вещи, то есть предметы, которые хотя и могли быть изготовленными на фабрике, но все же сохраняли связь с несложным ручным промыслом, — с ними-то он и мог сосредоточить всю свою энергию, чтобы, придать изображаемому чувственную полноту. Благодаря пантеизму Гюго и бодлеровскому ощущению взаимосвязи всего со всем, что глубоко вошло в натуру Сезанна, он был способен насыщать свои фрукты, овощи, бутылки, и вазы, и блюда обширным полем ассоциаций и символических значений. С одной стороны, в них были непосредственно явленные особенности формы, криволинейные объемы, которые давали ему возможность самоудовлетворения того же примерно рода, какое он получал от созерцания человеческих тел, особенно обнаженных. Мы уже видели, что яблоко для Сезанна обладало прежде всего глубоким значением в качестве любовной награды, объекта любви, заместителя грудей и задниц. В некоторых поздних натюрмортах сочетание маленьких домашних предметов напоминает горы и долины, сложенные из сделанных человеком предметов. Таковы, например, «Натюрморт с чайником» и «Яблоки с апельсинами». В другой поздней работе белая скатерть и цветные салфетки образуют драпировки, среди которых размещены блюдо с фруктами, тарелка и кувшин. По поводу этой картины М. Шапиро писал: «Ваза с фруктами» вырастает из прекрасно выписанной белой скатерти, а кувшин смешивается с этой скатертью, а также с яблоками и апельсинами и цветной драпировкой. Создается впечатление большой плотности, даже переполненности пространства композиции, как в его пейзажах с деревьями и скалами. Создается необычайно богатый эффект неожиданных цветовых пятен и линий… Больше, чем другие натюрморты Сезанна, эта работа производит впечатление тщательной оркестровки из-за своих ясно выделенных групп элементов, размещенных по всей плоскости холста. Складки белой скатерти выглядят весьма величественными, их обилие и их разнонаправленность, их высота и глубина и тонко тонированный спектр белой поверхности способствуют этому впечатлению. Со сложной разработкой белого цвета и с подчиненными белизне линиями крапчатых драпировок (более теплыми и угловатыми слева и более холодными и изогнутыми справа) взаимодействуют богатые чистые тона фруктов. Они сгруппированы очень просто, образуя различные ритмы, и размещены так, чтобы доминирующей оказалась горизонтальная композиционная ось. Эта ось служит скрытым стабилизатором в гуще множества разнонаправленных наклонных линий».
Я процитировал вдумчивого и хорошо чувствующего произведение критика, чтобы показать, что любой глубокий подход незаметно выведет к тому же типу ощущений, что и перед большим и разнообразным пейзажем. Действительно, далее в своем анализе М. Шапиро пишет о складках в левом верхнем углу как о горной вершине. Перед тем как вернуться к дальнейшим рассуждениям, процитирую еще одного специалиста, который по поводу «Натюрморта с чайником» писал:
«Драпировка размещена относительно стены точно так же, как гора выделяется на фоне неба в поздних пейзажах Сезанна. В картине из Же де Пом («Яблоки и апельсины». — Дж. Л.) с ее мощными диагоналями драпировки заполняют практически весь задний план за исключением верхнего правого угла, где виден кусок стены. Рисунок драпировки на фоне стены напоминает контур горы Сент-Виктуар… В натюрмортах, написанных в мастерской, Сезанн писал свои воспоминания о пейзаже. В маленькие мотивы постановочных композиций художник вольно или невольно вносил нечто от широты реального мира вокруг» (Сильвестр).
Следует, однако, помнить, что процесс взаимодействия пейзажа и натюрморта в творчестве Сезанна был двусторонним — натюрморты помогали ему передавать ощущение цельности пространства в обширных натурных сценах, моделировать бесконечное количество цветовых планов, образующих зримую вселенную.
Натюрморты Сезанна можно рассматривать в двух планах. Во-первых, это декоративная аранжировка материала, во-вторых, это воссоздание предметов в их воображаемой общности средствами живописи. Ле Байль описывал, как Поль ставил натюрморт в 1898 году: «Сезанн с прирожденным изяществом взбил складки скатерти на столе лишь после того, как тщательно разместил персики. Он расположил их таким образом, чтобы заиграли дополнительные цвета, серый к красному, желтый к голубому, он переставлял, крутил и наклонял плоды под разными углами, иногда подкладывая под них мелкие монетки».
В своих натюрмортах Поль писал все ту же природу, но природу, приближенную к формационным процессам, которые он стремился раскрыть. Кроме того, он любил натюрморты еще и за то, что в них можно было выражать чувство гармонии личных отношений и счастья, то есть того самого, чего ему так не хватало в домашней жизни. Натюрморт был одним из самых важных жанров голландской живописи периода ее высшего расцвета благодаря прочной ремесленной основе и крепкой стабильной домашней жизни буржуазии в то время. Шарден выражал те же идеи применительно к французскому среднему классу XVIII века. Сезанн продолжил эту традицию с такой личностной напряженностью, которая сделала его натюрморты наиболее выдающимися во всей истории жанра. В его искусстве можно усмотреть пережитки изначальной природы натюрморта, хотя и без религиозного оттенка, — говоря это, я имею в виду, что натюрморт в римско-эллинистическое время был выражением благочестивого отношения к божествам здоровья, домашнего очага и домовых амбаров. В определенном смысле натюрморты всегда были посвящением этим божествам, вотивным приношением добрым богам, которые могли принести мир и изобилие хозяину дома. Натюрморты Сезанна, пожалуй, ближе к изначальной сущности этой традиции изображения плодов, чем картины голландцев или Шардена. Его натюрморты были отражением и одновременно попыткой моделирования атмосферы счастья и домашнего благополучия, о котором он так безнадежно мечтал. Эти мечты получили выражение в искусстве Сезанна в изображении безопасной и изобильной жизни.
В последние годы Поль много писал акварелью. Обращение к светлой и более свободной технике отразило его возросшее мастерство, а также оказало обратное влияние на живопись маслом, осветлив ее. Акварель дала Сезанну большие возможности в дальнейшей разработке пространственных планов. Он, впрочем, не был увлечен планами как таковыми, планы его интересовали в их взаимоотношениях, в своих переходах от одного к другому. Направление планов также было для него существенным, в видении Сезанна направления теней определяли и глубину, и сам объект. Глубине пространства в живописи Сезанн придал новые качества, понимая цвет как взаимодействие движения, смещение, разделение и направление планов. Предмет и глубина нераздельны у Сезанна благодаря полноте объемов и их пластичности, они в поздних работах никогда не бывают статичны. Пластичность любого обособленного объекта является лишь частным проявлением общей пластичности пространства. Вслед за Глезом мы вполне можем говорить о «пластическом динамизме».
Попутно можно заметить, что попытки обнаружить в пейзажах Сезанна некую мистическую ценность Природы-без-человека несостоятельны. Причина отсутствия фигур в пейзаже заключена в особенностях метода Поля, в его трудностях с моделями, с его неспособностью вводить в композицию фигуры, отделенные от фонов. Его продолжавшиеся попытки писать портреты и жанровые сцены типа «Игроков в карты» или неоднократные подступы к «Купальщикам», продолжавшиеся несмотря на ограниченность возможностей, достаточно показательны для того, чтобы убедиться в желании Сезанна работать с людьми. Что же касается попыток ввести человека в пейзаж, например крестьян за работой, как в «Жатве», то они могли понравиться Ван Гогу, но не могли удовлетворить самого Сезанна.
Глава 3
Зрелый художник
(1897–1899)

13 января 1897 года Поль написал Гийме о том, что болен гриппом, который помешал им увидеться. 30 числа Поль писал Солари, говоря о потере предыдущего письма и о том, что из-за болезни он не выходит из дома еще с конца прошлого года. «Поль меня перевез с Монмартра. Я еще не выхожу, но чувствую себя уже лучше». Далее в письме говорится о том, что Гаске предложил Полю подарить две картины старому профессору из Экса, Ж. Дюменилю. Сезанн, которого эта просьба «очень тронула», попросил Солари в сопровождении Гаске сходить к Мари и попросить ее пустить их в Жа де Буффан, чтобы взять эти работы. «Помимо некоторой вялости, вполне понятной в моем состоянии, я чувствую себя неплохо; было бы хорошо, если бы я мог устроить дела так, чтобы жить там. Но семья принуждает меня к многим уступкам». В тот же деньПоль написал Гаске, прося его сделать все необходимое по всем «формальным штуковинам». «Я буду чрезвычайно счастлив, если профессор философии соблаговолит принять мое подношение… Для меня будет большой честью знать, что две мои работы приняты в столь достойном месте». Далее он благодарит Гаске за посредничество и кончает восклицанием: «Да здравствует Прованс!» Таков был этот человек, который обычно проклинал всех и всяческих ученых и профессоров в искусстве и науке и который обозлился на Жеффруа за настоящую помощь в куда как более важном для самого художника деле. Кстати, какие именно картины Поль подарил Дюменилю, не установлено.
Если мы не ошиблись, усмотрев в «Старушке с четками» отражение периода депрессии, последовавшей за бегством из Парижа, то можно утверждать, что в картине «Итальянка, облокотившаяся на стол», написанной в мастерской на Монмартре приблизительно в это время, Сезанн сумел уже преодолеть эти чувства. Для картины позировала дочь его знакомого итальянца, которого он писал в 1893 году (местонахождение этой картины неизвестно). Она к тому же была близко знакома с неким Микеланджело Ди Роза, с которого Поль написал четыре портрета. (Вообще, в записных книжках Сезанна упоминаются несколько итальянских натурщиков.) В упомянутой картине нет смиренности и отчаяния «Старушки с четками», девушка величаво покоится на ложе, гордо подняв голову. Темный колорит обладает богатством мягких оттенков, которые вполне удачно передают форму.
Этой весной был открыт зал Кайботта в Люксембурге. Открытие состоялось, несмотря на многочисленные вопли протеста, ламентации Жерома и иже с ним и возмущенные выступления в Сенате. В течение последующих двенадцати лет брат Кайботта пытался добиться выставления всей коллекции, но безуспешно. Однако Сезанн наконец мог увидеть свою работу в музее. Он приехал в Париж примерно в апреле, затем провел около месяца в Марлотте, а потом в Меннеси в лесу Фонтенбло. Из отеля де ла Бель Этуаль в Меннеси Поль написал письмо Эмилю Солари, из которого известно, что он собирался вернуться в Париж 29 мая и затем уехать в Экс.
Вернувшись на юг, Сезанн снял старый каменный дом в деревне Толоне и работал там все лето, встречаясь только с Гаске и Филиппом Солари. 18 июля Поль написал Гаске письмо, в котором извинялся за отклонение приглашения в гости, где, в частности, говорил: «У меня больше нет сил. Мне надо быть разумнее и знать, что в моем возрасте (58 лет. — Дж. Л.) нельзя поддаваться иллюзиям, они меня погубят».
Второго сентября Сезанн написал Эмилю Солари, где, в частности, восклицал: «Право, очень трогательно, что среди Ваших парижских занятий и хлопот Вы помните о слишком коротких часах, которые Вы провели в Провансе. Конечно, тут сыграл роль главный волшебник, я говорю про солнце. Хорошему впечатлению от наших краев способствовали еще и Ваша молодость, и Ваши надежды». В конце Поль добавил: «Прошлое воскресенье Ваш отец провел со мной весь день, и я его пичкал теориями о живописи. Как он, несчастный, только выдержал, значит, он очень стойкий». Через неделю Поль написал Э. Солари новое письмо, где сообщал о получении журнала со статьей молодого литератора, а также упоминал о том, что Филипп (Солари-старший) «придет ко мне в воскресенье есть утку, начиненную маслинами. Как жаль, что Вас не будет с нами».
Двадцать шестого сентября Сезанн снова отказался принять очередное приглашение Гаске. «Я ужинаю у своей матушки, а состояние усталости, в котором я обычно оказываюсь к концу дня, не позволяет мне в надлежащем виде представать перед людьми. Вы должны меня за это извинить. Искусство составляет гармоническую параллель с природой, и почему эти слабоумные, которые поучают нас, воображают, что художник непременно должен быть в подчиненном положении к природе!» Семейство Гаске обитало тогда на улице Ар-э-Метье; возможно, уже тогда Поль чувствовал себя не на месте в их показушном мире. Он был по-прежнему непопулярен в Эксе. Его успехи, казалось, лишь дополнительно раздражали толпу, но отнюдь не усмиряли ее застарелую злость, Говорят, что как-то на улице он услышал: «Таких художников надо ставить к стенке и расстреливать».
В октябре, 25 числа, в своем доме в Жа де Буффан умерла в возрасте 82 лет мать Сезанна. Перед концом она сильно ослабела и сделалась крайне раздражительной, но Поль всегда переносил ее с полнейшим терпением и мягкостью. Гаске писал: «Он вывозил ее на прогулки, выводил в Жа посидеть на солнышке. Он выносил мать, высохшую и легкую, как ребенок, из кареты и нес в кресло на руках. Чтобы развлечь и позабавить матушку, Сезанн рассказывал бесчисленные истории». Смерть матери была сильнейшим ударом для Сезанна, в частности, потому, что столкнула его с проблемой вступления во владение имуществом. Нужно было что-то делать с Жа де Буффан, к которому он был сильно привязан, но который не в состоянии был поддерживать в надлежащем виде. К тому же Жа был завещан всем детям, то есть у Поля были права лишь на одну третью его часть, а две другие надо было выкупать у сестер. Поскольку дом был в конце концов продан за ту же сумму, которую в свое время заплатил за него Луи-Огюст, Поль мог бы без особых сложностей купить владение. Однако Жа де Буффан был продан в 1899 году некоему М. Гранелю.
Второго ноября Сезанн написал письмо Эмилю Солари, где поздравлял его с намеченной женитьбой и сообщал о смерти своей матери. В конце он писал о том, что имел удовольствие видеть старого Солари, который обещал прийти в Жа де Буффан в гости. По всей видимости, уже в это время Поль отошел от Гаске и больше полагался на старого друга юности.
А в это время в Париже Золя написал свой первый протест по поводу несправедливой ссылки на Чертов остров капитана Дрейфуса, еврея по происхождению. Моне и Писсарро, которые были немало рассержены последними выступлениями Золя по поводу искусства, тем не менее сразу поспешили встать на его сторону и прислали ему письма с приветствием. Из всех членов импрессионистического движения не поддержали Золя лишь антисемит Дега и упрямый Ренуар, который, видимо, испытывал обиду за статью о живописи 1866 года. Не присоединился к Золя и Поль, подавленный смертью матери, реакционным клерикальным окружением и еще более зависимый от Матери — Церкви и Бога-Отца — Луи-Огюста.
8 января 1899 года скончался Ампрер, дожив до без малого семидесяти лет и не дождавшись ни малейших признаков успеха. До самой смерти он занимался специальными упражнениями, чтобы стать хоть немножко выше. Две-три его работы были вывешены в дешевой харчевне на улице Асгар, и Поль часто ходил туда специально полюбоваться ими.
В мартовско-апрельском номере журнала Гаске «Муа Доре» о Поле снова появилась заметка. Вновь воспевались в многоречивых пышных выражениях сельские добродетели и священная земля Прованса, которые якобы восхвалял Сезанн. В интерпретации Гаске Поль представал этаким провансальским Милле, озабоченным живописанием крестьян, с рассвета бредущих за плугом и сжимающих его своими крепкими руками. Гаске в это время был в Париже, но Сезанн не предпринимал попыток увидеться с ним. Тем не менее публикация Гаске ему понравилась, и они снова стали встречаться. Особенно часто они ходили вместе в Лувр, впоследствии Гаске записал их беседы, по всей видимости, сильно изменив их.
В мае — июне Воллар устроил еще одну выставку Сезанна, сам Поль на нее не пошел. Он терялся перед деловым торговцем, хотя никогда не сопротивлялся ему открыто.
Центром привязанности Сезанна в это время стал его сын Поль. Старший Поль простодушно восхищался здравым рассудком сына. «Мальчик более сообразителен, чем я; у меня самого нет практической сметки». Сезанн понимал, что молодой человек не имеет никакого представления об искусстве, но ценил в нем деловые качества. Сын для него был посредником и защитником от торговцев типа Воллара. Сын к этому времени уже сам осознал, что в работах отца заключены немалые деньги, и активно сотрудничал с Волларом по привлечению покупателей. Поль давал сыну десять процентов комиссионных и надеялся, что с помощью его и Воллара ему наконец удастся зарабатывать в год по шесть тысяч франков. Правда, Поль-младший указывал отцу, что тот заработает больше, если будет больше писать обнаженных натурщиц — «их намного легче продать».
В это время страна была расколота делом Дрейфуса. 13 января 1898 года Золя опубликовал в газете «Орор» открытое письмо президенту республики; Клемансо предложил дать письму название «Я обвиняю». За это Золя был подвергнут судебному разбирательству и осужден. Когда в июле его кассация была отклонена и стал реальным год тюремного заключения, романист сумел выехать в Англию. В результате цены на книги Золя стали сильно падать, но он с горячностью отказывался иметь какую-то выгоду в этой борьбе. Что же касается Поля, то он вырезал из газет антидрейфусарские карикатуры Форена и приговаривал: «Как прекрасно все это нарисовано».
Летом Поль отправился в Монжеро, что неподалеку от Понтуаза. Один молодой художник, Луи Ле Байль, прослышал от Писсарро, что поблизости поселился Сезанн. Он несколько раз приходил к Полю, который наконец почувствовал себя польщенным от неприкрытого поклонения. Они вместе ходили на мотив, и часто Поль, бывая в приподнятом настроении, рассказывал о живописи и отвечал на разные вопросы Ле Байля. Все-де заключается, говорил он, не в теории, а в практике. «Мы идем и переводим наши абсурдные теории в практику». Когда Поля спросили, какие картины ему нравятся более всего, он ответил, что предпочитает свои собственные, если только ему удается реализация задуманного. Но приподнятое настроение Сезанна было легко поколебать. Однажды какая-то девушка остановилась посмотреть на работу художников. Указывая на холст Ле Байля, она заметила, что этот, пожалуй, будет получше. Поль был чрезвычайно раздосадован, возможно, к тому же на него раздражающе подействовала близость девушки, но так или иначе на следующий день он стал избегать молодого художника. Через какое-то время Сезанн потеплел к нему снова и попытался объясниться: «Вы должны простить меня, — сказал он и добавил: — Устами младенцев…»
Вскоре после этого Поль и Ле Вайль работали в поле и увидели приближающихся к ним всадников, которые хотели поговорить с Сезанном. Поль обложил их в свойственных ему выражениях, и те в оторопи ускакали. Ле Байль объяснил вслед за этим, что то были барон Дени Кошен, коллекционер, в чьем собрании уже было несколько «Сезаннов», и его сын. Поль был в полном смятении и позже в письме просил Ле Вайля исправить дело.
Затем неприятное происшествие случилось с самим Ле Вайлем. Поль предложил ему свободно заходить к нему после трех часов, когда он обычно вставал от полуденного, сна. Ле Байль как-то пришел, безрезультатно постучал несколько раз и, не услышав ответа, вошел в комнату. Поль пришел в ярость и так как он был чересчур смущен, чтобы разговаривать с молодым человеком, то, выгнав его, послал вдогонку письмо: «Милостивый государь, мне не нравится бесцеремонность, с которой Вы позволяете себе являться ко мне. В будущем попрошу Вас докладывать о себе. Будьте любезны вручить холст и стекло, оставшиеся в Вашей мастерской, человеку, который явится за ними». Можно предположить, что причиной такой резкой вспышки послужило то, что Ле Байль, стараясь разбудить Сезанна, дотронулся до него.
Несмотря на соседство, Поль не встречался с Писсарро. Это был единственный период их отношений, когда из-за позиции Поля в деле Дрейфуса Писсарро почувствовал между ними холодок.
Зиму и весну 1899 года Сезанн провел в Париже. 16 марта он написал письмо маленькой Марте Кониль, племяннице, которая пригласила его на первое причастие в Марсель. Поль отвечал, что он привязан к Парижу довольно длительной работой (видимо, над портретом Воллара. — Дж. Л.), но надеется поехать на юг в следующем месяце. «Помни меня, когда будешь молиться, в старости находишь утешение и опору только в религии».
Воллар попросил Поля написать его портрет. Первый же сеанс закончился некоторым происшествием. В своей мастерской на улице Эжезип-Моро Сезанн соорудил помост — ящик, установленный на четырех шатких подпорках, а на нем стул. «Вам нисколько не грозит опасность упасть, мсье Воллар, — сказал Поль, — если, конечно, вы будете сохранять равновесие. Впрочем, когда позируют, то незачем двигаться». Вследствие полной неподвижности, которой требовал Сезанн, Воллар задремал, склонил голову, потерял равновесие и свалился с возвышения на пол. Поль был в ярости: «Несчастный! Вы испортили позу! Я же вам говорил, что вы должны быть, как яблоко. Ведь яблоко не двигается!» С этого дня перед позированием Воллар выпивал чашку черного кофе. Если и после этого он начинал клевать носом, то Сезанн бросал на него такой взгляд, что Воллар снова тотчас же застывал в нужной позе. Сеанс продолжался с восьми и до половины двенадцатого утра. После полудня Поль копировал старых мастеров в Лувре или Трокадеро. Он рано ложился, но ночью часто вставал, чтобы посмотреть на небо и определить, каким будет на следующее утро освещение. Воллар писал, что Сезанн работал очень гибкими кистями, типа хорьковых или куньих, и после каждого мазка окунал их в фарбтигель со скипидаром. Сколько бы кистей у него ни было, он пачкал их все во время сеанса и сильно измазывался сам. От всякого рода помех — перемены позы моделью, болтовни, внезапного изменения света или погоды, при шуме грузового подъемника, который он называл «молотобойной фабрикой», или собачьем лае с улицы — Сезанн мигом терял настроение и бросал работу. Однажды, описывает Воллар, он в гневе разрезал подвернувшуюся под руку картину на куски. Причиной гнева послужило то, что служанка вынесла из мастерской старый пыльный ковер с целью его выколотить, Сезанн объяснил, что отсутствие в поле зрения пятна, которое образовывал ковер, столь для него нетерпимо, что он не может продолжать работу. «Когда я работаю, мне необходим покой». Когда портрет был в основном готов, Сезанн заявил, что ему нравится, как написан перед рубашки, но после ста пятнадцати сеансов он уехал в Экс, попросив Воллара не уносить из мастерской одежду, в которой тот позировал. Вскоре эту одежду сожрали крысы.
Особенно Поль не любил собак. Воллар пишет: «Как-то утром, увидев меня, Сезанн радостно воскликнул: «Этот Лепин (префект полиции. — Дж. Л.) просто молодец! Он приказал выловить всех собак! Так написано в «Ла Круа». На этом мы выиграли несколько хороших сеансов». Но однажды, когда Сезанн в очередной раз произнес: «Этот Лепин действительно молодец!» — мы услышали собачий лай. От разочарования Сезанн выронил палитру и воскликнул: «Наверно, вырвалась чертовка!» Тявкающие собаки олицетворяли для Сезанна несправедливо придирающихся критиков — именно так он объяснял значение лающей собаки в картине «Апофеоз Делакруа».
Цены на картины Сезанна наконец поднялись. В апреле по предложению Моне состоялась распродажа в пользу детей Сислея, который умер в крайней бедности 29 января 1899 года. За картину Сезанна заплатили 2300 франков. В мае продавалась коллекция Дориа, и композиция «Снег в лесу Фонтенбло» была куплена за 6750 франков. Часть присутствующей на аукционе публики закричала, что это подстроено. Из рядов поднялся представительный бородатый человек и заявил: «Картину купил я, мое имя Клод Моне». В июне Моне устроил подписку на покупку картины Э. Мане «Олимпия» для передачи ее Лувру. Хотя Поль был в свое время под большим влиянием этой картины, в списке жертвователей его имя отсутствует. Старые друзья по-прежнему ценили работы Сезанна, что показывает хотя бы заявление Моне на аукционе Дориа, но одновременно на него смотрели уже как на человека, враждебного их группе и ее взглядам.
В том же году распродавалась коллекция Шоке. За семь полотен Сезанна владельцы выручили 17700 франков. Поль хотел получить с распродажи картину Делакруа «Цветы», Воллар купил ее для него в обмен на что-нибудь его собственное. Об этой большой акварели в завещании Делакруа говорилось, что цветы в ней как бы случайно помещены на фоне серой стены. Воллар прочел это место Сезанну, придя позировать, на что художник неожиданно завопил: «Несчастный! Вы смеете утверждать, что Делакруа мог писать случайно!» Воллар разъяснил ему недоразумение, и, как бы оправдываясь, Сезанн сказал: «Я ведь так люблю Делакруа!»
В конце года Поль согласился послать три работы в «Салон независимых». Воллар между тем закупал всех Сезаннов, каких только могли найти. В письме Гогену на Таити этот энергичный маршан писал: «Я купил всю мастерскую Сезанна (в Фонтенбло) и сделал на этом уже три или четыре выставки. Постепенно народ начинает стекаться».
Седьмого мая в газете «Мемориаль д’Экс» Гаске опубликовал статью, в которой резко возражал на утверждение Ф. Сарси о том, что Экс превратился в «мертвый город». Гаске утверждал, что никакой другой город не внес такого вклада в «развитие любви к знаниям, в культ науки, страсть к литературе, вкус к созерцанию». В качестве примеров выдающихся людей из Экса Гаске упоминал имена Пейрака, Дю Вера, Малерба, Вовенарга, Мирбо, Минье, Тьера, де Лапрада, Мистраля, но Золя и Сезанна он игнорировал. Хотя как раз таки, чтобы достойно возразить Сарси, он должен был назвать имена живых, а не людей прошлого. Золя Гаске игнорировал потому, что был полностью против всей системы взглядов романиста, в особенности ему не понравилась деятельность Золя в защиту Дрейфуса. В случае с Полем у Гаске вроде бы не было сильных политических причин для умолчания, к тому же он довольно похвально отзывался о художнике в «Муа Доре». Но следует учесть то, что человек этот был оппортунистом. Гаске был готов рассуждать о Сезанне в литературном журнальчике для узкого круга интеллектуалов, но он не собирался компрометировать себя в глазах широкой публики, выступая в защиту Сезанна.
Поль читал статью Гаске. 3 июня 1899 года он написал из Парижа письмо Анри Гаске о «великолепной статье» и чувствах, «которые твой сын возбудил во мне, твоем товарище по пансиону Сен-Жозеф». «В нас ведь не угасли, — писал далее Сезанн, — воспоминания юности, отзвуки впечатлений, вызванных щедрым солнцем Прованса, этим горизонтом, этими пейзажами, этими необыкновенными очертаниями, оставившими в нас глубокие следы…» Интересно отметить, что письмо, навеянное статьей, Поль адресовал не Жоашиму, а старому Анри, и акцент он делал не на саму статью, а на воспоминания юности. От Сезанна с его мнительностью не ускользнуло, что его имя отсутствовало в статье, хотя в ее контексте оно было бы в высшей степени уместным, если только Гаске в самом деле был искренен в своих похвалах. Как раз с этого времени заметно отчетливое сопротивление Поля несколько покровительственному тону, который проглядывал за поклонением Гаске.
Осенью Сезанн приехал в Экс. Нужно было перебираться из Жа де Буффан, с которым столь тесно была слита вся предшествующая жизнь. Перевозя вещи, Поль сжег большую часть этюдов и набросков. Множество из того, что он хранил в качестве реликвий, также пошло в костер, впрочем, похоже, что это Мари выступала здесь главным разрушителем прошлого и действовала, часто не советуясь с братом. «Они бы не ухитрились продать все это. Это были бедные и запыленные старые вещи, вот они и жгли. Кресло, в котором любил дремать папа; стол, за которым он сводил счета в бытность молодым человеком, — они сожгли все, что напоминало мне о нем».
Поль попытался купить Шато Ну ар (дом в Толоне), но ему это не удалось. Поэтому в итоге Сезанн вернулся в дом на улице Бульгон, 23, в красивый дом на той улице, где некогда Луи-Огюст держал банк. Жил Сезанн на втором этаже, мастерская помещалась на чердаке, ее окна выходили на север. Мари подыскала ему экономку, мадам Бремон, женщину лет сорока, «довольно полную и добродушную на вид» (Бернар). Она была хорошей поварихой, следила за диетой Поля, счищала с его одежды краску, убирала и жгла отброшенные холсты. Впрочем, вряд ли вопреки словам Ларгье, очаг в столовой топился исключительно подрамниками и полотнами. Мари жила в благочестивом аристократическом квартале Экса около церкви Св. Иоанна Мальтийского.
Полю было уже шестьдесят лет, выглядел он почти дряхлым. Гаске писал, что Сезанн хотел бы жить подобно монаху, «как, например, Фра Анжелико, так, чтобы его жизнь была бы размеренной и установленной раз и навсегда и свободный от всяческих забот и тревог, он мог бы писать с восхода до заката, предаваясь размышлениям у себя на чердаке и не боясь, что кто-то или что-то ворвется в его созерцательность и отвлечет от усилий». Уместно заметить, что Гаске забыл упомянуть здесь, что способности подчиняться у Сезанна явно не хватало, поэтому любой порядок, идущий свыше, а в особенности монашеский, взбесил бы художника.
Поль вставал рано и шел к ранней мессе. «Месса и душ — вот то, что поддерживает меня», — говорил он. Затем он обычно шел в мастерскую, рисовал в течение часа с гипсов, а потом переходил к мольберту, одновременно прекращая читать своих любимцев — Апулея, Вергилия, Стендаля или Бодлера. После завтрака Сезанн часто отправлялся писать в окрестности Шато Ну ар, вызывая кучера, который приезжал в «старинной закрытой карете, обитой внутри вытертым красным бархатом и запряженной двумя белыми старыми и смирными лошадьми» (Ларгье). На крутых местах Поль сходил на дорогу и шел рядом, часто подолгу забывая сесть обратно. «Мир меня не понимает, а я не понимаю его, вот почему я его избегаю». Иногда он прерывал себя: «Посмотрите на тот голубой, на голубизну под соснами». Однажды Сезанн подарил вознице свой холст. Тот был весьма польщен, благодарил, но, как пишет Гаске, забыл картину взять.
Иногда, перед тем как вернуться домой, Сезанн заходил к Гаске. Его разочарование постепенно росло. Мы уже упоминали, что Жоашиму недоставало деликатности в обращении с Полем, который начинал чувствовать, что «его используют».
Воллар писал, что в то время, как Сезанн работал над его портретом, в мастерской стояло огромное полотно с «Купальщицами». Огромное желание писать обнаженную женскую натуру не угасло у Поля с годами. Но если бы у него даже хватило сейчас сил обращаться с огромным холстом, то найти натурщиц, которые смогли бы вынести его метод, он был не в силах. К тому же Сезанн продолжал страдать от своей фобии прикосновений. Более или менее в безопасности он ощущал себя лишь в обществе старых женщин. Однажды в 1899 году он заявил Воллару, что собирается написать обнаженную модель. «Как, — изумился Воллар, — голую женщину!» Сезанн заверил его, что возьмет только самую старую каргу. В итоге он ее действительно нашел, написал с нее этюд, а позже выполнил два портрета в одежде. Она, по его собственному признанию, напоминала ему о «старухах в романах Бальзака». Бернар приводит запись монолога Сезанна: «Вы знаете, я делал множество этюдов с купальщицами и купальщиками, которые я собирался впоследствии перенести на натуру и выполнить в большом размере. Недостаток моделей заставил меня ограничиться случайными набросками. На моем пути было множество препятствий, например, где найти соответствующее окружение для моей картины — окружение, которое не должно сильно отличаться от видимого мною в воображении, как найти нужное количество натурщиков, как найти таких мужчин и женщин, которые согласились бы подолгу стоять без одежды в заданных мною позах! Кроме того, масса трудностей с перетаскиванием огромного холста, с погодой, с подходящим местом, со всеми принадлежностями и со всем необходимым для столь огромной работы. Поэтому я вынужден был оставить свою затею написать картину в пуссеновском духе, но полностью на природе, а не составлять ее из кусочков — этюдов, набросков, рисунков. Короче, это должна была быть картина живущего ныне Пуссена, написанная на пленэре, с настоящим цветом и светом, а не с каким-нибудь бурым колоритом бледного дневного света без рефлексов неба, как это обычно бывает в композициях, сработанных в мастерских».
К изложенным трудностям следует добавить еще и строгие нравы провинциального города, боясь которых Сезанн не мог отважиться выйти на этюд с обнаженной моделью. Что же касается натурщиц, то их Сезанн со своими мнительными страхами полностью исключил из своей жизни. Бернар приводит историю, которая однажды привела Сезанна в трепет. «У меня довольно долго, — рассказывал Сезанн, — работал садовник. Он имел двух дочерей и вечно толковал о них, когда возился в моем саду. Я делал вид, что с интересом его слушаю, ибо хорошо относился к нему и считал порядочным человеком. Я и понятия не имел, сколько лет его дочерям, и считал их детьми. В один прекрасный день он явился ко мне в сопровождении двух пышнотелых девиц лет восемнадцати — двадцати и представил их со словами: «Мсье Сезанн, вот мои дочери!» Я не знал, как истолковать его намерения, но, поскольку я человек слабый, мне приходится всегда быть настороже. Я стал рыться в кармане, чтобы найти ключ и запереться в мастерской, но по необъяснимой случайности я забыл ключ в Эксе. Я не хотел подвергать себя риску оказаться потом в недостойном положении и велел садовнику: «Принесите топор из дровяного сарая». Он принес топор. «А теперь, пожалуйста, взломайте эту дверь». Он ударил несколько раз топором и вышиб ее. Я вбежал в дом и заперся в мастерской».
Нечто сходное рассказывает Кон иль: как-то в Париже Поль нанял натурщицу, которая пришла и стала профессионально спокойно раздеваться. Но Сезанн с каждой скинутой деталью туалета делался все более скованным. Девушка, раздевшись, уселась перед ним и невинно сказала: «Мсье, вы чем-то встревожены?» Это лишь подлило масла в огонь. Поль попытался взять себя в руки и начать писать, однако он тут же потребовал, чтобы она поскорее одевалась и выставил ее вон с требованием никогда больше не приходить. Как-то Сезанн сказал Гаске, что он уже вышел из того возраста, когда следует обнажать женщин, чтобы написать их. Всех особ женского пола он почитал весьма расчетливыми, только и ждущими случая, чтобы его «заграбастать». Да и какой скандал вызвало бы в Эксе появление в его мастерской натурщицы. Однажды он сказал д’Арбо: «Послушайте, вы встречаетесь с женщинами. Принесите мне несколько фотографий». Так как он не сумел объяснить, что, собственно, он имел в виду, то сконфузил он бедного малого до чрезвычайности.
Впрочем, если Поль чувствовал себя тщательно прикрываемым родственниками, то он мог с удовольствием общаться с молодыми дамами и девушками. Его племянница сообщает: «В году 1902 или 1903-м его племянницы ужасно хотели пойти посмотреть военный парад в день 14 Июля на проспект Мирабо. Однако в девятисотые годы молодым девушкам не принято было посещать военные мероприятия самостоятельно. Поэтому я спросила дядюшку Поля, не согласится ли он служить спутником для четырех юных девиц — нам всем было тогда от тринадцати до восемнадцати, и все были, право слово, прехорошенькие. Сезанн согласился, девушки с гордостью вышагивали рядом с мэтром, по две с каждого его бока. Во время парада он воскликнул: «Что за чудную рамку вы сделали такой старой картине, как я».
Пожалуй, небезынтересно сопоставить отношение Сезанна к женщинам и священству с «Аббатом Жюлем» Октава Мирбо, в то время любимого автора Поля. Аббат был описан как вместилище разнообразных жгучих противоречий — хитрым, нещепетильным, честолюбивым, жестоким человеком со склонностью к самобичеванию. В этом персонаже Поль, наверно, видел много своих собственных черт — по крайней мере в огорчениях и фрустрациях аббата, в его мучительных и горьких переживаниях. Перед смертью Жюль в завещании высмеивает свои буржуазные связи и отказывает все имущество первому монаху, который решит расстричься после его смерти. Когда огромный сундук, который аббат ‘тщательно держал взаперти всю свою жизнь, согласно его завещанию бросают в огонь, он взрывается от жара, и по ветру в клубах дыма и языках пламени разносятся чудовищное количество порнографических гравюр, рисунков и прочих листков. В романе предполагается, что, когда аббат запирался со своим сундуком, он устраивал одинокие оргии с мастурбацией. Мысль о том, что подобного рода интересы обладали определенной привлекательностью для Поля в старости, не лишена смысла.
Ссылка на «Аббата Жюля» напоминает нам, что Сезанн был настроен очень литературно. Его замечания о «литературе», которые он сообщил Бернару в 1904 году, не должны ускользать из нашего внимания. Он, конечно, протестовал всеми доступными способами против неоправданного вторжения теорий или внешних идей в сам процесс живописи. Но вся практика Сезанна и его многолетнее восхищение Делакруа, Рубенсом и венецианцами доказывает, что его аргументы против Бернара не имеют отношения к нему как художнику, который ищет свои темы в той поэтической, литературной или вообще культурной традиции, к которой принадлежит. То обстоятельство, что академическое искусство было плоско иллюстративным, еще не закрывало дорогу настоящему художнику черпать вдохновение в любой сфере культуры или жизни. В периоды по-настоящему большой культуры все формы выражения оказывают друг на друга влияние, художник черпает их из поэтической или мифологической сокровищницы своей эпохи, не думая, что он совершает тем самым нечто не подобающее его собственным формам выразительности. Не должен он также бояться и социального контекста искусства. Посредством связей с другими сферами духа он усиливает и раздвигает границы своего искусства. Между литературой и живописью нет строгой границы. Она возникает лишь в периоды упадка и вырождения культуры. Сезанн со своей любовью к Вагнеру и Бодлеру принадлежал к синтезирующей школе, что само по себе было противоположно его стремлениям оградиться от любых форм внешнего воздействия со стороны общества, давящего своим углубляющимся отчуждением.
Л. Верт в работе о Сезанне 1914 года сказал просто и ясно: «Было осознано, что искусство не имеет своей целью выражение идей. Но несомненно и то, что ни Рембрандт, ни Коро не были просто украшателями. Они не только говорили о тех людях, которых писали, но говорили и о себе. Живопись не должна быть литературной — формула эта очень проста. Но боюсь, что она ничего не значит. Она не должна быть литературной, однако литература как-никак — это предмет эстетики». Грех академической живописи заключается отнюдь не в иллюстрационном методе, но в вялости, в неумении выразить живительную связь с природными процессами. В своих возражениях Бернару или в подозрительности, которую Сезанн питал по отношению к таким художникам, как Гоген, Поль исходил из недопустимости абстракции, чем бы она ни вызывалась — будь то поспешным и незрелым наложением идей на материал художника или умственным сосредоточением на одной из сторон художественного процесса, что приводило к исключению полноты охвата данности. Сам Сезанн войдет в искусство кубизма, экспрессионизма и т. д. под вывеской дурной литературщины, ибо сами они абстрагировали один какой-то аспект художественного процесса или педалировали один из возможных подходов художника к натуре.
Сезанн был глубоко погружен в мир поэзии Гюго, Мюссе и других кумиров его юности, к этому следует добавить восторженное отношение к римским поэтам, известным ему с коллежа. Помимо поэтов Рима Поль любил и Апулея с его глубоко символическим подходом к жизни. Возможно, Сезанн знал Шенье (Золя знал его очень хорошо), а что касается Бодлера, то он был столь близок его сердцу, что томик стихов, по свидетельству Гаске, был весь потрепан, а «Цветы зла» Поль знал наизусть. Это, конечно, преувеличение, но верно то, что Бодлер глубоко вошел в его собственную художественную систему. Де Виньи также был одним из любимых авторов Сезанна. Из писем к Золя известно, что Поль был знаком с Мольером (он даже иллюстрировал «Тартюфа»); также он любил посвященную искусству прозу Бодлера и Стендаля, читал Канта и Шопенгауэра. По свидетельству Воллара, Сезанн увлекался чтением Гонкуров, неплохо знал Мирбо и вообще всю меданскую группу, интересовался Бальзаком. Конечно, не нужно забывать и о прочной связи с Золя вплоть до появления «Творчества». Наконец, как мы уже упоминали, Поль был поклонником произведений Жюля Валлеса. Вообще, по всей видимости, человек с такими широкими литературными интересами должен был читать много больше того, о чем сейчас определенно известно. Так, например, его интерес к теме искушения можно объяснить отчасти чтением Флобера.
Разумеется, в наибольшей степени Сезанна привлекали те произведения, в которых были воплощены его мысли. Например, Гюго и Мюссе усилили и явно выразили его смутные юношеские устремления. Кроме того, привлекали его и такие работы, в которых можно было усмотреть отражение его собственных внутренних конфликтов. К последней категории можно отнести стихи Бодлера, «Жака Вентра» Валлеса, «Манетту Саломон» Гонкуров и (если я не ошибаюсь) «Аббата Жюля» Мирбо. Еще одна работа, которая должна принадлежать к данной группе, — это «Неведомый шедевр» Бальзака, написанный в 1832 году. В этом произведении Поль увидел выражение своих глубочайших творческих переживаний, изложенное с особой силой, как ни в какой другой книге. Френхофер, герой Бальзака, жил в состоянии постоянного возбуждения или отчаяния по поводу степени реализации своих замыслов. Главная его проблема заключалась в передаче пластичности масс. Нечто схожее Леонардо решал при помощи своего сфумато, окружая предметы мягкой туманной дымкой. Уже в старости, после многолетней непрестанной борьбы, собрав воедино все свои достижения и знания, Френхофер наконец достиг своего видения. Но когда он показал картину двум молодым художникам, они увидели всего лишь «краски, наложенные на холст в хаотическом смешении, объединенные множеством странных линий и образующие непостижимую стену живописи». После долгого разглядывания они заметили в углу картины «кончик голой ноги, выделявшийся из хаоса красок, тонов, неопределенных оттенков, — кончик живой ноги» <… > «Под этим скрыта женщина», — воскликнул Порбус».
Но не это поражение в высшей точке работы привлекло интерес Сезанна к данной истории, хотя такая проблема была ему мучительно знакома. Что в особенности поразило Поля, это была близость идей Френхофера к его собственным воззрениям. Френхофер был «человеком, страстно преданным искусству, который видел выше и дальше остальных художников. Он глубоко размышлял о цвете, об абсолютной правдивости линии, но в итоге начал сомневаться даже в самом предмете своих изысканий».
В то самое время, когда писал Бальзак, Тёрнер в Англии создавал свои композиции с вихрящимися кривыми, в которых природа впервые была трактована как взаимодействие силовых полей. В качестве разграничивающего отдельные объекты фактора он во все большей степени использовал свет, в противоположность стародавнему принципу построения формы от темного к светлому. Но Бальзак ничего не знал о деятельности Тёрнера. Он просто тонко отреагировал на глубинное течение в тогдашнем мире, которое, начавшись с Тёрнером, было продолжено Делакруа и далее импрессионистами и (в наибольшей степени) Сезанном.
Торе-Бюрже писал в 1847 году: «Линия или рисунок служит никаким иным целям, кроме как тому, чтобы держать цвета вместе, воплощая их гармонию. Можно даже сказать, что линия в живописи — это всего лишь абстракция, что она не существует, можно лишь допустить ее между двумя различными цветами, подобно тому как в природе она предполагается наличной между двумя массами». Готье категорически утверждал: «В отправной точке живописи кроется ложь, ибо в природе линий не существует. Контуры заходят один в другой, линий нет». Делакруа также заметил как-то, что в природе линий не встречается, они существуют только в сознании человека». Точно так же считал в свое время еще Вазари. Все импрессионисты отрицали существование в природе линии, той, что представляется обыденному взору. Бодлер пошел дальше всех и заявил, что в природе нет ни линии, ни цвета. Оба эти понятия являются абстракциями, которые обязаны своей важностью общему источнику. В обоих случаях природа является стимулом.
Это последнее утверждение ведет уже к субъективизму и не является наиболее диалектичным способом рассмотрения заботившей Сезанна проблемы. Но что показательно и важно во всех этих суждениях — это фокусирование нового типа отношений между предметами и способ рассмотрения этих отношений при помощи цвета.
Я говорил уже, что отнюдь не развязка истории, рассказанной Бальзаком, сделала этот сюжет особенно привлекательным для Сезанна. В то же время в определенном смысле эта развязка была полна для него некоего значения. Рассуждая о возможностях, которые стояли перед романистом начала XIX века (сосредоточить ли внимание на специфическом характере современной жизни или пытаться сформулировать универсальные и вневременные законы), один критик писал: «Первый путь с наибольшим среди современных художников эффектом осваивал Бальзак; этот путь, которым следовал также и Гете в «Вильгельме Мейстере» и «Фаусте», привел к теории современного романа, к безжалостному выражению всех противоречивых сторон и внехудожественного уродства современной жизни, к художественному преодолению противоречий посредством последовательного их вскрытия до конца. Бальзак при этом ясно ощущал, что остается существенное противоречие с эстетическим характером произведения искусства. Его художественное кредо, в особенности «Неведомый шедевр», четко показывает, что продвижение по этому пути до конца, что предписывается современными принципами искусства, должно привести к саморазложению, к разрушению художественной формы» (Г. Лукач).
Давление хаоса и беспорядка, которое Поль ощущал все время и которому он мог сопротивляться лишь посредством медленного и кропотливого анализа, явственно присутствует в его работах. Но это присутствие есть присутствие уже поверженного врага. Однако, когда художники забывали о мучительной внутренней дисциплине Сезанна, давление хаоса стремительно начинало захватывать их. Отчуждение или фрагментаризация давления хаоса становились сильнее по мере сопротивления, обобщающий метод в итоге лопался, на месте его возникали частичные подходы импрессионистского, экспрессионистского, конструктивистского, футуристского или кубистического типа. По мере того как слабела обобщающая интегративная система, чувства, в той или иной степени погруженные в хаос, увязали в интеллектуальных, рассудочных схемах или в стилизации. Таким образом, можно сказать, что Сезанн увидел в Френхофере и свою собственную борьбу за овладение материалом, и то возмездие, которое ожидает при малейшем ослаблении этой борьбы.
Здесь уместно заметить в связи с реакцией Поля на «Неведомый шедевр», что термины «realiser», и «realisation», которые стали для него наиболее удовлетворительными обозначениями его целей, были порождениями XIX века. Фактически они вошли в художественную критику одновременно с термином «реализм» и были явно с ним связаны: они возникли как обозначение исследования реальности новым способом и поставили вопрос об отношении художника к действительности. Делакруа обычно не употреблял глагол «реализовывать» для обозначения процесса живописания до достижения желаемого и адекватного результата, вместо этого он использовал слова «исполнять», «завершать», «достигать» «кончать». Он остро осознавал, что существует проблема определения момента завершимости вещи, но лишь после того, как другие ввели термин «реализовывать», Делакруа подхватил его. Например, в записи от 21 октября 1860 года Делакруа говорит о реализации у Рубенса и о «реализации жизни через пластичность» у Пюже. Это слово было популяризировано критиками, например Кастаньяри. «Реализованная работа, — писал он в «Философии Салона 1857 года», — не является на основе заложенной в нее идеи и ее внешней формы ни копией, ни частичной имитацией природы, но есть совершенно личностное изделие, продукт и выражение чисто личных представлений».
Золя более точно трактовал понятие реализации. Он связывал его с реализмом, поскольку реализация связывала воссоздание природы художником. Реализация подразумевала видение реального мира с точки зрения, связывающей художника с этим миром. Реализм Курбе был связан с таким видением реальности, при котором она представала как нечто подлежащее изменению — в направлении более полной гармонии, всеобщего братства, неотделимого от нового ощущения природы. Делакруа видел реализацию в пластичности как воссоздание жизни со всей ее энергией, силой и радостью. Реализм отнюдь не означал внутреннее отражение внешнего мира, равно как и натурализм в употреблении Золя. Он означал, что художник должен отринуть идеализацию, должен безжалостно отсечь все отжившее, пустое, академическое. Он должен взглянуть на мир непредвзято, будто мир заново создается в данный момент.
Подобный подход был немыслим до XIX века. Первым его провозвестником был Тёрнер. С ним в искусство вошли две новые идеи — углубленное чувство творческого процесса, то есть новый вид самосознания художника, и осознание природы как совокупности процессов. Новое самосознание художника было связано с целой цепью обстоятельств — с разрушением системы покровительства искусству, расширением социального статуса художника от богемы и бунтаря до процветающего джентльмена, с началом промышленной революции и разного рода демократических и революционных идей и движений. Начальным периодом изменений была Великая французская революция и годы ее влияния. Наиболее яркими выразителями новой культурной ситуации были Давид и Тёрнер, несмотря на все различие их методов. В живописи Давида, Гро и Жерико родился новый подход к человеку, в то время как Тёрнер воплотил углубляющийся интерес к процессу жизни. Сразу стало ясно, что для выражения нового подхода к человеку необходимо новое искусство. Разными аспектами его были романтические вихри Делакруа и прямое видение Курбе. Переход от мира ручного ремесла к миру машинного производства (который также был миром новых силовых процессов) отразился в новом осмыслении технических проблем художниками. Творчески думающий художник испытывал все возрастающее отчуждение от омертвевшей академической системы, которая продолжала использовать методы прошлого века для изображения новых проблем и новых социальных отношений.
Сезанн искал свой собственный путь, основанный на личном опыте. Делакруа, Курбе, Коро, Домье, Мане показали первые попытки найти соответствие новой ситуации; существенное продвижение удалось сделать Писсарро, Моне и другимимпрессионистам, которые подхватили революционные нововведения Тёрнера, работая в его направлении с большей тщательностью, но без его широты. Историческая роль Сезанна заключалась в том, что он, будучи большим художником, попытался объединить линии Делакруа, Курбе и импрессионистов. Для выполнения этой всеохватной и гигантской задачи он оказался не вполне подходящим, но в процессе работы Сезанн совершил несколько важных открытий. Рильке в свое время понял, что метод Сезанна был процессуальным методом. Главную цель художника Рильке видел в «выработке некой убедительности, в процессе, в котором вещь становится вещью, в процессе созидания реальности в соответствии с его опытом воссоздается до такой степени, пока не станет нераспадающейся».
Не претендуя на попытку сравнивать конечные ценности достижений Золя и Сезанна, мы можем заметить, что деятельность их обоих принадлежит к второй фазе реализма в искусстве XIX века. Солидная, уверенная форма в том виде, какой она была у Давида, Жерико, Курбе или Бальзака, стала невозможной. Ее разрушение было связано с углубляющимся напряжением и подавлением духа, дальнейшим развитием денежных отношений, разделением труда, давлением государства и механизмом отчуждения в целом. Писатель или художник был вынужден вести яростную борьбу, чтобы сохранить возможность схватывания сущности жизненных процессов. С одной стороны, он был обречен все больше и больше погрязать в субъективизме, часто романтического толка с уклоном в упадничество, поскольку средств уловить хаотически перемешанные связи ему не хватало. С другой стороны, художник был вынужден раствориться в разрозненном материале, не умея свести его воедино, в целостную художественную систему. Флобер описал мучительный конфликт между замкнутым на себе эстетизмом и представлением о художнике как о механизме с Божьим оком. Этот внутренний конфликт он выразил следующими словами: «Во мне существуют, литературно говоря, два человека — один раздавлен лирикой, бахвальством, величественными орлиными полетами и всевозможными благозвучиями фраз и выразительностью идей, другой человек копает и извлекает правду, напрягая для этого все свои силы, который стремится дать вам почувствовать почти материально то, о чем он пишет. «Сентиментальное воспитание» было, насколько я могу судить, попыткой свести вместе две эти тенденции моего духа. Я проиграл». В этом признании есть многое от характера Поля. Золя со своим более живым темпераментом попытался бы преодолевать разрыв, перемешав пылкое поэтическое вдохновение и его прозрения с журналистским собиранием фактических мелочей. В своем творчестве Сезанн вел такого же рода битву, жаждая свести воедино Курбе и Делакруа, поворачиваясь к импрессионизму с его схематизмом и научной точностью воспроизведения сцен природы, и вместе с тем он мучительно искал способа, как из разных составляющих достичь нового реализма или реализации. В основе своей проблема, стоявшая перед Сезанном и Золя, была едина по сути, несмотря на всю разность ее разрешения. В общих чертах корень проблемы заключался в овладении все возрастающим напряжением и разбродом в обществе и в себе самих и в передаче этого посредством схватывания и эстетизации характера порядка-беспорядка, симметрии-асимметрии в их мире (личном, социальном, природном).
Цена, которую приходилось платить вырвавшемуся вперед и идущему своим путем инакомыслящему художнику, заключалась в увеличивающемся чувстве изоляции. Ему приходилось быть готовым к злобному непониманию и яростным нападкам. Тёрнер хотя и стал членом Академии за свои ранние работы, подвергался большую часть своей жизни совершенно беспрецедентному для художника такого ранга поношению. Делакруа хотя и получал важные официальные заказы, часто отвергался Салоном; его персональная выставка, устроенная в 1860 году, была его поздним прорывом сквозь глупость публики и уничижительные нападки, сопровождавшие его всю жизнь. В своем дневнике в записи от 14 мая 1850 года Делакруа писал, перефразируя Б. Констана: «Результатом независимости является изоляция». На это жаловался и Курбе. В письме А. Брюйасу в ноябре 1854 года он писал: «Под известной вам смеющейся маской я прячу внутреннюю печаль, горечь, разочарование, которые гложут сердце, подобно вампиру». Домье, арестованный в 1832 году за свои карикатуры, остался вне художественной жизни, нигде больше не выставлялся, и, ослепнув под старость, он поддерживался одним лишь отзывчивым Коро. Гаварни, по свидетельству Гонкуров от 10 октября 1856 года, «вел чрезвычайно замкнутый образ жизни. Он уже как бы перестал быть человеческим существом, остался один дух… Он не встречается абсолютно ни с кем в своем крытом черепицей чердаке». С непониманием и удручающей бедностью приходилось бороться и Милле, и Писсарро, и большинству других импрессионистов. Ван Гог никогда не продал ни одной картины, сошел с ума и покончил с собой, Гоген кончил жизнь в нищете и болезнях на далеких Маркизских островах, жестоко конфликтуя с властями.
Все эти художники испытывали крайнюю степень чувства потери, изоляции, разделенности, которое углублялось в обществе наряду с процессом, названным Карлейлем денежными сетями, и который Маркс и Гегель называли отчуждением, в котором Рёскин видел дегуманизацию системы и который Уильям Моррис клял за отрыв производителя от творческого труда. Романтические поэты испытывали в углубляющемся гнете отчуждения чувство потери почвы и всех «естественных связей». Бодлер выразил полное осознание нового одиночества людей, одиночество личности, затерянной в пустыне огромного и перенаселенного индустриального города. В творчестве Поля был такой элемент, который позволил ему прямо выразить уродство и одиночество городских сцен. Верт заметил в 1914 году: «В первых своих пейзажах он использовал язык Курбе. В сравнительно малоизвестных его работах видны заводские трубы. С помощью красного и черного цветов Сезанн выражал трагедию промышленной цивилизации. Можно вообразить, что если бы он последовал по этому пути, то он мог бы стать Верхарном живописи». Никто не переживал новые глубины отчужденного бытия человека с таким мучительным чувством, как затворник из Экса. Разбросанные в его письмах замечания показывают, что он не мог не понимать широты проблемы отчуждения. Его позиция неучастия в социальной жизни и противопоставленность денежным отношениям и прочим доминирующим интересам общества должны были питаться радикальными взглядами Золя, Писсарро, Моне и писателей типа Рошфора и Валлеса. Но Сезанн не был мыслителем, способным к систематическому исследованию. За исключением своего искусства, он не выработал твердого основания своим мятежным взглядам. Поэтому после кризисного 1886 года он отошел от всех радикальных политиков и нашел поддержку в Мари и Матери-Церкви. Но эта перемена совершенно не затронула борьбы Сезанна за выражение своего диссидентского духа в искусстве, за стремление противопоставить свои объединяющие ценности миру все возрастающего раскола и распада. В каком-то смысле стремление Сезанна устранить всякую смутность и неопределенность из формы или отношений между вещами было реакцией на растущие тенденции к фальсификации и затуманиванию настоящих общественных отношений, затемнению всей реальности в окружавшем его мире.
В ранних работах запечатлен лишь частично осознанный им конфликт; возможности обобщения не могли еще управлять эстетическим результатом. Но постепенно интегрирующие возможности Сезанна росли. В его зрелом искусстве главной темой стало разрешение конфликта. Оно совершенно триумфально в его лучших пейзажах и натюрмортах, а также в некоторых фигурных композициях, в которых художнику удавалось подавить свой внутренний разброд. Сопровождавшее попытки Поля духовное напряжение требовало лишь прочных и неподвижных объектов в качестве моделей и привело к тому, что в его художественных образах появились примечательные черты солидной уверенности, простоты и покоя. Взаимодействие света и тени в импрессионистическом духе погони за текучестью времени и неповторимостью момента было изгнано, насколько это возможно. Частный момент трактован как момент вечности в той мере, насколько это удавалось без потери его особенности.
Напряжение и борьба между стабильностью и непостоянством были сущностной характеристикой искусства Сезанна во все периоды его творчества, в его лучших и наиболее зрелых произведениях эти свойства наличествуют в наиболее глубокой и сильной форме. В некоторых поздних работах динамические порывы производят впечатление взрыва, хаотических энергий, в которых структурные планы и ритмы ударов кисти сведены воедино с богатой разработкой цветовых объемов. Сложное движение форм в глубину перекликается с гармонией и контрастами цвета.
«Вместо застывания в жесткой данности, которая еще не является стабильностью, но есть лишь ловко построенная конструкция, вместо отказа от согласования себя с пульсацией времени произведение искусства приобретает мобильность и при этом мобильность такого рода, которая становится условием пространственной гармонии. Она связана со всеобщим ритмом, мир картины более не замкнут в своей отделенности от времени и пространства природы и в силу этого уязвимый для новых изменений. Мир картины вместо этого становится составной частью единой движущейся вселенной», — писала Герри.
«Среди всех противоречий, которые возникают при толковании искусства Сезанна, — отмечает еще один исследователь, Сильвестр, — пожалуй, нет более глубоких, чем ощущение текучести жизни и одновременно его постоянства. В «Натюрморте с чайником» и даже в большей степени в видах горы Сент-Виктуар мы видим эти противоречивые качества, проникшие друг в друга. Есть безнадежная печаль в том, что все, на что мы смотрим и чему радуемся, умирает для нас, когда уже оно увидено; есть ясное подтверждение того, что то, на что мы сейчас смотрим, будет там всегда. Мы сталкиваемся с нашими глубочайшими представлениями о жизни и о нашем месте в ней и разрешаем проблему принятием нетерпимого факта, что смертность и бессмертие приобретают смысл лишь по отношению друг к другу».
«Разобщение доведено до такой степени, объемы столь неконструктивно размещены в маленьких указателях движения, разбросанных по поверхности картины, что при первом взгляде у нас создается впечатление, как от некоего неясно организованного ковра. Однако чем больше мы вглядываемся, тем больше разрозненные части начинают играть между собой и составлять ритмические фразы, покуда наконец все не соберутся воедино в строгую и впечатляющую архитектурную конструкцию» (Фрай).
Посмотрим несколько подробней на отмеченные аспекты метода Сезанна. Лидию Поля неплохо описывали как линию, «очерчивающую всякий отдельный объем с постоянно меняющейся степенью интенсивности; иногда она достигает совершенной графической экспрессии, а иногда, наоборот, сводится к неясному и случайному элементу между двумя отчетливыми зонами цвета, иногда она исчезает полностью» (Новотный). Линия у Сезанна — это абрис не столько предмета, сколько указатель границы между колористическими массами. В образовании этого абриса изолирующий эффект контура сведен к минимуму, и в результате достигается другой эффект — каждый объект связан со всяким другим, а пространство, запечатленное в картине, связано с картинными планами. Края в этой системе приобретают огромную важность, так как через них определяется и сущность предмета изображения, и его отношение к другим объектам впереди или сзади, иными словами, определяется его положение в чувственном пластическом пространстве.
Схожая проблема возникает с тем, что обычно называют тенями между объектами в работах Сезанна. По свидетельству Бернара, Поль «начинал с легкой тени, наносил пятно, покрывал его другим, большим пятном, затем третьим, пока все эти цветовые градации, перекрывая друг друга, не вылепливали цветом форму предметов». Таким образом тени, которые разделяли объекты, одновременно и объединяли их, так что картина превращалась в продуманную модуляцию цветовых форм, являвшихся частями чувственного континуума пространства. Отдельные предметы выплывали из бесконечности.
Синий цвет играл особую роль в трактовке пространства, его криволинейной глубины и его динамической непрерывности. Поль много знал об использовании синего импрессионистами, но его собственная работа с синей краской в зрелые годы несопоставима с простым следованием импрессионистской атмосфере. Золя писал в «Творчестве», что жгучей проблемой, поглощавшей Клода, была теория дополнительных цветов. «Наука вторглась в живопись, возник метод логического наблюдения. Требовалось выбрать доминирующий цвет, а затем искать к нему дополнительные». В качестве своего доминирующего цвета Поль выбрал синий, синий более богатый и интенсивный, чем небесная голубизна. Он писал Бернару: «Синий дает другим цветам их вибрацию, поэтому необходимо вводить в картину определенное количество синевы». Бернар добавлял: «Фактически из этой синевы состоит атмосфера, в природе она всегда окружает предметы, а они входят в нее, и тем больше, чем дальше они изображены к горизонту. Способ употребления синего у Сезанна нимало не походил на использование этого цвета импрессионистами; они, скорее, портили свои палитры, меняя теплые оттенки на холодные, синеву они добавляли практически всюду. Сезанн же настаивал на том, что предмету следует оставлять его собственные цвета, синеву он употреблял лишь в качестве стимулирующего элемента и никак не в качестве поглощающего активного вещества». Дени писал о многих акварелях, в которых живые контрасты цвета основаны на размещении прусской синей. «Они выглядели как старый фаянс». Лe Байль замечал, что в старости Сезанн рисовал кистью, насыщенной аквамарином, обильно разбавленным скипидаром; Рильке писал о его «плотном и мягком синем цвете».
Как заметил Ш. фон Тольнай, этот синий является чем-то большим, чем просто воздух; это своего рода истечение материи, одновременно твердое и текучее, такой элемент, в котором все субстанции проникают одна в другую. Можно добавить к этому, что Поль использовал синий цвет как объединяющий элемент, связующий ближний и дальний планы.
«Независимо от того, был ли предмет красным, зеленым или коричневым, желтым, розовым или белым, все тени были для Сезанна голубоватого оттенка, основанными на синем цвете. Поэтому он начинал писать мотив с разложения синего по всем местам, где полагалось быть теням, что и образовывало основу всей композиции. Наложив синий, он начинал модулировать его контрастами, если это требовалось, или распределяя естественные цвета предметов. Поэтому он мог взять темно-красный или ярко-зеленый, глубокий коричневый или легкие оттенки охры и положить их вплотную к синему. Одновременно Сезанн добавлял глубину в тени, накладывая поверх первых легких мазков голубого более темные оттенки синего цвета, и так до тех пор, пока постепенно из теней не начинали вырастать определенные формы» (Бадт).
Не приходится сомневаться, что глубокие синие тени природы юга помогли Сезанну выработать такой метод. В итоге можно заметить, как постепенно решетчатая система (подобная той, что рассматривалась на примере «Вида Медана») и способ раскладки теней пришли на смену черной сетке теней его ранних работ. В этом процессе именно то, что было вначале невнятным и сковывающим, стало теперь динамичным и объединяющим моментом.
Существует еще один угол зрения, под которым можно рассмотреть завоевание пространства Сезанном. Импрессионисты не питали особого расположения к панорамным видам, отчасти потому, что они связывали такие виды с искусством прошлого, а еще потому, что были более упорны в передаче впечатления от объединяющего отраженного света. У Поля, однако, были другие интересы. Он любил писать массивный объект, находящийся прямо перед ним, как, например, виды каменоломни в Бибемусе, но это потому, что тогда у него были проблемы с передачей структуры, объема и цветовых модуляций. Не боялся он также и панорамных видов, будь то вид Марсельской бухты из Эстака пли гора Сент-Виктуар с различных точек зрения. Ввиду того что он испытывал потребность устранить всякую неопределенность, он писал отдаленные планы столь же ясно, что и передний, но одновременно он передавал их удаленность, не выписывая множество деталей.
Однако из этого не следует, что пространственные планы имели умозрительный характер, отличный от того, какой есть в природе, как писал о Сезанне Вентури. Разные объемы с их отличающимися друг от друга наклонами и цветовыми планами образуют в системе Сезанна единый образ воплощенного пространства-времени.
Сезанн никогда бы не смог в полной мере осуществить свои художественные достижения без влияния земли Прованса. Он писал прекрасные картины в тех местах, которые мы можем назвать областью Писсарро; в конце 1880-х годов он работал также в лесу Фонтенбло и писал там такие монументальные формы, как, например, «Скалы в Фонтенбло». Но именно провансальский пейзаж дал Сезанну наиболее полную картину того, что он хотел выразить. Широта и тяжеловесность природных форм Прованса, с сильными контрастами между зелеными и обнаженными сухими склонами, соответствовали его потребности изображать большие архитектонические структуры в сильном и ясном освещении. Кроме того, не следует забывать роль южного ветра, мистраля, который овевает все формы и привносит возбуждение как в самого художника, так и в природный мотив, стимулируя чувство движения и перемен, борьбы за поддержание симметрии и порядка в мире, колеблющемся на грани хаоса.
Теперь у нас есть некоторое представление о том, что лежало в основе достижений Сезанна и почему его в высшей степени стройно организованная система казалась крайне беспорядочной его современникам, за исключением немногих художников. И хотя в задачу нашей книги не входит исследование вклада Сезанна и его влияние на искусство с 1900 года и дальше, необходимо все же дать хотя бы грубый набросок его связи с искусством будущего. Представители нескольких важных направлений первых десятилетий XX века, от фовизма, экспрессионизма, футуризма и кубизма до сюрреализма, взирали на него как на предшественника в том или ином отношении. Особенно много затруднений для художественных критиков вызвало отношение Сезанна к кубизму. Эту связь необходимо исследовать и прояснить, если пытаться разобраться в искусстве XX века. Все эти течения, и в особенности кубизм, в разной степени отвергались и предавались поруганию Сезанном, ибо то, за что он боролся, было прежде всего искусством соединения, интеграции, основанным на неустанном анализе природы. Таким образом возникает парадокс, ибо Сезанн объявляется предтечей или основателем таких течений, которые были основаны на полном или частичном абстрактном методе, что не просто отличалось от его собственного подхода, но было попросту диаметрально противоположным ему. (В качестве примера фальсификации целей Сезанна можно привести его слова относительно шара, цилиндра и конуса, которые он говорил Бернару в апреле 1904 года и которые Бернар заменил на кубы в 1921 году, то есть после наступления эры кубизма, с целью приспособить Сезанна к новой школе.)
Не одного Сезанна причисляли задним числом к предтечам авангардизма. Так, писали, что уже у импрессионистов появилось «чистое видение», освобожденное от естественной гармонии. Писсарро, Ренуар и Моне в 1870—1880-е годы очень удивились бы, услышав нечто подобное. Впрочем, в таких утверждениях был все же элемент правды: импрессионизм ограничил художественное видение определенными аспектами опыта, и, доведя подобное видение до предела, как то случилось в поздних работах Моне, он полностью перевернул свой первоначальный подход, обратив наибольшее внимание на сам способ видения, а не на окружающую природу. Этот путь вел к абстрактному импрессионизму. Однако с искусством Сезанна ситуация была совершенно противоположна, ибо он порвал с импрессионизмом именно из-за его ограниченности, не найдя в нем возможности для создания всеобъемлющего искусства, связанного в каждой своей точке с природой. Некоторые критики сумели заметить эту сторону искусства Сезанна, например Саймон Леви, который писал: «В основу своей работы Сезанн положил ощущения. Остальное служило ему лишь фундаментом, голым скелетом. Он всегда рисовал все свои формы с натуры и никогда не обращался к чисто геометрическим абстрактным, построениям. Его стиль был основан на правдивости передачи, которая заключалась в глубинной выразительности и не зависела от декоративных соображений». Это справедливо, но не слишком раскрывает сущность проблемы. Вентури в своем исследовании идет дальше: «Заранее данная схема, наложенная на действительность, отсутствует, но интерпретация постепенно очищается от преходящих явлений посредством продолжительного созерцания, как писал Фрай. Другими словами, порядок, который вводит Сезанн, является не чем иным, как свидетельством его ощущения. И его контур не похож на тот, что появился в искусстве рисовальщиков типа Энгра. Контур Сезанна то появляется, то исчезает, иногда он обрывается резкими мазками, а иногда оказывается сильным и толстым и гармонизирует свою твердость с эффектом дальности. В результате создается впечатление основательности и объемности, пробивающейся, несмотря на атмосферный характер всех хроматических рефлексов; создается впечатление удивительной простоты, несмотря на разнообразные сложные эффекты в каждой детали. В конечном итоге ясный порядок оживляется чрезвычайно насыщенной чувствительностью… Поэтому фразу о цилиндре и шаре необходимо прочесть в свете сезанновского «ощущения», если только мы не хотим курьезным образом извратить его мысль. Для Бернара, который представлял себе художественный образ в отрыве от реальности, в виде риторической абстракции, для всех кубистов или псевдокубистов, которые воображают, что нашли свои абстракции в так называемых принципах Сезанна, Сезанн оказывается важным в последний год жизни, когда мэтр подводил итог всем своим наблюдениям и достижениям, отличным от метода Писсарро, то есть от импрессионистического принципа естественного ощущения».
Соображения Вентури, однако, не вполне проясняют картину. Все еще не вполне ясно, почему именно Сезанн занял свое особое место в истории искусства, его особую позицию по отношению к искусству XIX века и к искусству века XX.
Правда, пожалуй, заключается в том, что Сезанн явился одновременно и итогом большой традиции искусства, и вместе с тем привнес в эту традицию изменения, обращенные в будущее. Если попытаться разложить его искусство, рассмотреть по отдельности его различные компоненты, то можно действительно продемонстрировать связь между этими компонентами и направлениями искусства XX века, которые сосредоточились на каком-то одном аспекте его творческого опыта в ущерб всем остальным. Поэтому Сезанн имел, конечно, действенное влияние на эти течения, но влияние совсем иного рода, нежели то, которое могло бы ему самому понравиться. Искусство, которое он хотел бы видеть в качестве продолжения своего собственного, было бы совсем другим — искусством, которое впитало бы его представления о взаимосвязи формы и цвета и продвинуло бы их к новым горизонтам, особенно в воплощении рубенсовского мира человеческой активности, человеческой жизни, реализованной во всей широте и полноте ее связей.
Но ни один художник не мог никогда предписать, каким именно образом его работа должна воздействовать на других художников и какие элементы его живописной системы следует потомкам брать на вооружение.
Сезанн имел жизненно важное отношение к течениям типа кубизма и одновременно полностью противостоял им. Можно добавить, что если искусство вообще призвано воссоздавать целостность и полноту, то оно еще вернется к Сезанну каким-либо новым путем и обнаружит, как можно далее продвинуть его интегрирующую систему.
Когда мы перечитываем постоянные призывы Сезанна, обращенные к Бернару, основывать все художественное видение на наблюдении натуры, мы чувствуем, что, обращаясь так к первому из тех, кто искажал его методы, он обращался к последующим художникам, которым предстояло подхватить его искусство совсем не так, как ему бы хотелось. Необходимо в особенности указать на различие и противоположность его методов и кубизма, ибо здесь пролегает глубинный уровень, с которого стало развиваться современное искусство. В своем искусстве Сезанн пытался преодолеть задачу выражения временного процесса, ибо время является основой и сутью всего движения и роста, и не в качестве пассивного предмета, измеряемого, подобно линии, в пространстве, но в качестве бесконечного утверждения конфликта симметрии-асимметрии, который мы уже обсуждали. Подобно Тёрнеру, Сезанн пытался схватить в своих зрелых работах пространство-время как процесс; и его особая система перспективы в определении чувственно воспринимаемого пространственного континуума во всей его сложной и прихотливой криволинейности возникла из этой борьбы. В кубизме эта проблема была абстрагирована и ее разрешение искалось в механическом комбинировании разных видов объекта, в той или иной степени наложенных друг на друга. Футуристическое изображение одновременно разных состояний объекта в движении дает другую сходную возможность подобного подхода. Но кубизм показал неспособность внутреннего развития, разве что в сторону все возрастающей абстракции. Для правдивого и динамического выражения пространства-времени художник должен вернуться к Сезанну и начать борьбу там, где тот ее закончил, даже если возникнут сомнения, сможет ли он оживить замороженный Сезанном механизм и разрешить с его помощью жизненно важные проблемы.
Глава 4
Старость и юность
(1900–1902)

В 1900 году Сезанн снискал определенное официальное признание: три его работы были представлены на выставке французского искусства за сто лет, проходившей в Пти Пале во время Международной выставки. Своему появлению на этой выставке Сезанн был обязан Роже Марксу, инспектору изящных искусств, который в свое время защищал импрессионистов и в их числе его работы. Маркс имел по этому поводу массу неприятностей, но наконец ему удалось включить картины Поля в состав экспозиции. На открытии выставки 1 мая Жером, заметив Президента Республики, проходившего по залам, подбежал к нему и завопил, таща вон из зала импрессионистов: «Не останавливайтесь! Это поругание французского искусства!»
В этом году Поль оставался все время в Эксе. В августе он написал письмо Гаске, где хвалил его стихотворения, посвященные пейзажу (Гаске прислал ему эти стихи). Осенью Поль повстречал у Гаске молодого поэта Лео Ларгье, который проходил в Эксе военную службу. Примерно в то же время Сезанн познакомился с Луи Ораншем, который появился в Эксе в ноябре 1900 года в качестве стажера Бюро регистрации. Перед этим Оранш успел организовать в Лионе маленький журнал «Терр нувель». Через Оранша Поль познакомился с молодым студентом-правоведом Пьером Лери. Художник часто приглашал молодых людей отобедать с ним, но избегал включать в их число Гаске.
Поль производил на всех впечатление своим церковным благочестием и, умышленно или нет, демонстрировал постоянную религиозность. Оранш писал, что обучение в коллеже «заронило в его душу божественный идеал, который никогда потом не покидал его». Он, продолжает Оранш, «охотно подавал нищим, которые хорошо знали его; у его дверей часто можно было встретить целые группы. Он любил детей и часто смотрел на их игры, даже с животными он, случалось, дружески разговаривал». К обеду мадам Бремон обычно ставила бутылку старого Медока (Ларгье, впрочем, замечает, что это вино было не лучше, чем в кабачке). Сообщает он и о таком эпизоде: однажды, изображая искусственные цветы, Сезанн пришел в ярость из-за неудачи в реализации, толкнул холст, перевернул мольберт и выбежал вон, хлопнув дверью.
Сезанн очевидным образом полюбил общество молодых людей, но в то же время нотки недовольства и раздраженной придирчивости проскальзывали в его репликах чаще, чем раньше. Он шельмовал Жеффруа, Золя и даже Моне и говорил о резкости в молодых художниках или людях постарше, например о Гогене, который всегда ценил Сезанна очень высоко. По отношению к Гаске Поль оставался внешне дружественным, но за глаза отзывался презрительно.
В том, 1900 году три картины Сезанна были экспонированы в «Салоне независимых». Примерно в это же время Гаске приезжал к Золя в Медан. Писатель расспрашивал его о Сезанне и Солари, не скрывая своих дружеских чувств, и заявил, что он любит Поля по-прежнему всеми фибрами своей души. Искусство Сезанна Золя стал понимать еще глубже. В том же 1900 году умерли Марион и Валабрег.
Весной 1901 года Поль выставлялся вместе с «Независимыми», а также в обществе «Свободная эстетика» в Брюсселе. Цены на его полотна поднялись до пяти-шести тысяч франков, а одна картина была продана даже за семь тысяч. Морис Дени выставил в Салоне национального общества изобразительных искусств большую композицию «В честь Сезанна», в которой изобразил большую группу художников (Редон, Серюзье, Боннар, Вюйар, К. Руссель, Ронсан, Меллерио, а также Воллар и жена Дени), стоящих вокруг натюрморта Сезанна. В то время Дени не был еще знаком с мэтром, они встретились лишь в 1904 году. 5 июня Поль послал Дени краткую записку с благодарностью. Позднее Дени рассказывал: «То, что мы искали в его работах и высказываниях, было то, что казалось оппозицией импрессионистическому реализму и подтверждением наших собственных идей, носившихся тогда в воздухе. Сезанн был мыслителем, но никогда не думал одинаково. Все, кто приходил к нему, могли заставить его сказать все, что им хотелось услышать. Они попросту интерпретировали его мысли». Замечание это более чем верное. Ничего из того, что цитируют в качестве высказываний Сезанна молодые люди, начиная с Гаске, не может быть принято без поправок. При тщательном рассмотрении слишком часто оказывалось, что слова, вложенные Сезанну в уста, были выражением собственных воззрений писателей. Соответственно и их понимание искусства художника сильно окрашено субъективизмом.
Репутация Сезанна медленно росла. В этом году критик написал, что, хотя он и неизвестен широкой публике, «художники уже в течение многих лет внимательно следят за его работой. Многие обязаны ему открытием того, что можно назвать внутренней красотой живописи. Для Сезанна интерес к предмету живописи заключается не в сюжете, скорее, он лежит в создании визуального впечатления».
В ноябре 1901 года в группу молодых приятелей Сезанна вошел еще один юноша, Шарль Камуэн. Поль представил его Ораншу как художника большого таланта. «Воллар направил его ко мне и усиленно хвалил его». Камуэн попал в Экс отбывать военную службу; картины Сезанна он впервые увидел за несколько лет до этого в галерее Воллара. По приезде в Экс Камуэн не сразу сумел отыскать Сезанна, далеко не каждый местный житель знал, где живет старый художник. Наконец Камуэн нашел дом. Было около семи часов вечера. В доме был накрыт стол, но самого Сезанна не было. Камуэн, постеснявшись ждать, ушел и вернулся около половины девятого. На стук из окна верхнего этажа высунулась голова; Поль (это был он) спросил: «Кто там?» Обычно Сезанн отправлялся спать сразу после ужина; чтобы встретить Камуэна, он вылез из постели и, небрежно одевшись, пригласил сконфуженного юношу в дом. В гостиной Поль сразу принялся беседовать о живописи. На прощание он пригласил молодого человека приходить в любое время, и Камуэн в течение своего трехмесячного пребывания в Эксе часто виделся с мэтром и был совершенно очарован сердечностью и старомодной учтивостью Сезанна.
Камуэн нашел, что разговоры о конфронтации Сезанна с местными жителями сильно преувеличены. Возможно, художник выглядел в 1870-е годы более эксцентричным со своей густой нечесаной бородой и рыжевато-каштановыми волосами, теперь он был совершенно сед, а борода была аккуратно подстрижена (Ларгье говорил, что Сезанн был одет лучше и изящнее многих жителей Экса). Он также проводил немало времени с Полем, который даже разрешал Ларгье сопровождать его на мотив и наблюдать за работой. Ларгье обратил внимание на щедрость, с которой Сезанн расходовал краски. «Я пишу, — заметил Поль, — так, будто я Ротшильд».
В ноябре этого года Поль купил участок земли в Лов (это слово на провансальском диалекте означало «плоский камень»). Участок находился к северу от Экса, оттуда на город открывался прекрасный вид, а на горизонте виднелись горы. Площадь владения составляла примерно один акр, часть земли была занята оливковыми деревьями, а также вишнями, миндалем и старыми яблонями. Местному архитектору Мюрже Сезанн заказал построить на участке мастерскую; на это время он снял комнату в Шато Ну ар и отправлялся туда писать. Шато состоял из двух старых строений с готическими окнами, колонны и стены частично были разрушены, однако из окон открывался широкий вид на рощу олив в окружении охристо-красной земли, а на заднем плане воздымалась гора Сент-Виктуар. В то время как Сезанн обретался в Шато Нуар, Мюрже, оставшись без надзора, построил типичную провансальскую виллу в самом худшем из всех возможных вариантов. Поль, когда он наконец увидел свой дом, пришел в ярость, и приказал очистить здание от всех украшений типа деревянных балкончиков и глазурованных орнаментов. При закладке дома он потребовал, чтобы ни одно дерево не было срублено; старую оливу, оказавшуюся прямо на углу здания, пришлось огородить каменной стенкой. Гаске писал, что это дерево пользовалось особенной любовью художника. «Оно живое, — записывал Гаске слова Сезанна, — я люблю его, как старого друга. Оно знает всю мою жизнь и дает мне мудрые советы. Я бы хотел быть похороненным под ним».
Здание в Лов имело два этажа и завершалось высокой щипцовой крышей, покрытой черепицей. На первом этаже был большой холл, лестница наверх и две комнаты: одна для отдыха, а другая служила столовой. Ночевать Сезанн всегда ходил в Экс. Наверху размещалась мастерская. Крутой склон холма находился почти на одном уровне с окнами, выходящими на северную сторону. Нижний этаж имел окна лишь с южной стороны, наверху были прорублены два южных окна и одно высокое с севера. Внутренние перегородки были сделаны из гладкой серой штукатурки, а в мастерской в стене был сделан высокий проем, чтобы можно было вносить и выносить больших «Купальщиц». В новую мастерскую Сезанн перенес свои любимые предметы обстановки — предметы, которые он любил использовать в натюрмортах (кувшин для имбирной настойки, бутылка из-под рома, сосуд для мяты, сочетавший в себе цилиндр и сферу, черепа, гипсовые отливки, синие драпировки и настольные клеенки с красными цветами на зеленом и фиолетовом фоне). Кроме того, Сезанн перевез свой музей — коробку, набитую гравюрами, фотографиями и прочими картинками. Среди них были «Купальщики» Курбе, литографии с «Ладьи Данте» Делакруа, «Мамелюки с лошадьми» Верне, две обнаженные мужские фигуры Синьорелли, а также цветные гравюры времен Второй империи. На лестнице он приколол кнопками антидрейфусарские карикатуры Форена, которые он вырезал из газет.
В саду росли густые кусты ежевики, он был основательно запущен. В нем работал старый садовник Валье. Выше по склону холма виднелись аллеи деревьев, тянущиеся к Сент-Виктуар. В этом месте Сезанн написал много полотен маслом и акварелей. С 1902 года он по преимуществу работал в мастерской в Лов или неподалеку.
Из писем Сезанна этого периода следует упомянуть два письма от 3 февраля. Ораншу Поль написал по поводу отъезда последнего. Он высказывал печаль по поводу расставания и признавался: «Я здесь не мог ни с кем дружески сойтись. Сегодня, когда небо затянуто серыми облаками, все видится мне в черном свете». В это время Сезанн редко встречался с Лери. Ларгье был произведен в капралы и приходил обедать по воскресеньям.
В письме Камуэну, написанном в тот же день, Поль обращался к молодому человеку с отцовской сердечностью, «как то приличествует моему возрасту». В этом письме содержатся все его основные доктрины — учиться у старых мастеров, колировать их работы; но больше всего писать с натуры: «Раз Вы сейчас в Париже и Вас привлекают мастера Лувра, то, если это Вам по душе, пишите этюды с картин великих мастеров декоративной живописи — Веронезе и Рубенса, но так, как если бы Вы писали с натуры, — что, впрочем, мне и самому не вполне удавалось. Но Вы хорошо делаете, что больше всего пишете с натуры. Судя по Вашим работам, которые я видел, Вы скоро достигнете больших успехов. Я рад, что Вы цените Воллара, он искренний и дельный человек.
Радуюсь за Вас, что Ваша мать с Вами, в минуты усталости и огорчения она будет Вам самой верной моральной опорой и живым источником, откуда Вы сможете черпать новые силы для занятий искусством, над которым надо работать не то что без увлечения, но спокойно и постоянно, и тогда обязательно придет состояние ясности, которое поможет Вам и в жизни».
Во фразе о Волларе проскользнул элемент двуличия, ибо здесь Сезанн хвалил Воллара человеку, который был с ним связан, тогда как перед Ораншем он отзывался о торговце как о жуликоватом барыге.
В середине марта Дени письменно предложил Полю участвовать в выставке «Независимых». 17 числа Сезанн написал ему благодарственную записку, где говорил, что немедленно отдал распоряжение Воллару предоставить в распоряжение Дени те картины, которые устроители выставки сочтут подходящими. Постскриптум этого письма к Воллару гласит следующее: «Мне кажется, что неудобно отрекаться от молодых художников, которые выразили мне такую симпатию, и я не думаю, что выставка помешает мне продолжить мои работы».
Второго апреля Поль снова написал Воллару. Речь шла о задержке отправки торговцу его «Роз». Сезанн хотел в этом году послать что-либо в Салон, но говорил, что вынужден отложить этот проект. «Я недоволен тем, что у меня получилось». Следующее письмо к Воллару, сохранившееся в черновике, гласило, что «Де Монтиньи, выдающийся член Общества искусств Экса, Кавалер Почетного легиона, пригласил меня выставиться с ним вместе». По этому поводу Сезанн просил Воллара выдать «что-нибудь из не слишком плохого». Спустя два дня, то есть 12 мая, Сезанн сказал Гаске, что Монтиньи хотел бы иметь на выставке «Старушку с четками».
Общение с молодежью доставляло Сезанну много радости. За исключением Солари, он больше ни с кем не встречался. Нередко он приглашал молодых людей на обед. Их поражала простота его обстановки: круглый стол орехового дерева, шесть стульев, буфет с блюдом фруктов, полное отсутствие картин на стенах в столовой. За вином Поль цитировал французских и римских поэтов, охотно говорил о Монтичелли или Танги, иногда отпускал едкие замечания о своих старых друзьях. «Ежегодно следовало бы убивать по тысяче художников», — как-то постановил он. Камуэн спросил, кто же будет выбирать жертвы. «Ну конечно, мы, черт побери!» Иногда Поль становился серьезным и, мягко касаясь разных предметов на столе, показывал, как они отражают друг друга. Иногда Сезанн впадал в задумчивость и исчезал из комнаты. Все знали, что бесполезно пытаться просить его пожаловать обратно; он просто забывал о своих гостях и принимался за работу.
По воскресеньям Сезанн иногда подходил к воротам казарм и дожидался Ларгье. Вместе с облаченными в фуражки, красные штаны и белые гетры новобранцами он отправлялся на службу в Сен-Совер. По выходе его обычно окружала толпа нищих. Он всегда держал наготове мелочь и старался побыстрее раздать ее, выглядя при этом довольно смущенным. Один нищий в особенности пугал Сезанна и получал обычно по пять франков. «Это Жермен Нуво, поэт», — прошептал Поль однажды Ларгье. Этот Ну во был некогда другом Верлена и Рембо, потом сошел с ума, угодил в лечебницу; придя несколько в разум, отправился в религиозные странствия, совершил паломничество в Ренн и в Сантьяго де Компостела. В 1898 году он вернулся в Экс, в котором провел свои молодые годы и где, как ему казалось, демоны не могут действовать так запросто, как в Марселе или Париже. Экские церковники были напуганы его появлением в городе и были бы не прочь от него избавиться, но он исправно ходил причащаться каждое утро в каждую церковь города. Племянница Сезанна также рассказывает о Ж. Нуво, упоминая, что как-то, когда девочки решили похихикать над нищим, который всегда слегка улыбался, когда Поль протягивал ему пять франков, Сезанн прикрикнул на них: «Вы не знаете, кто это. Это Жермен Нуво, профессор, поэт. Он был моим соучеником по Коллежу Бурбон».
Однажды Ларгье занимался с новобранцами на дороге в Толоне и, зная, что Сезанн должен находиться в это время в Шато Нуар, попросил у офицера разрешения промаршировать туда с солдатами. Заметив издали коляску, отвозившую художника в город, Ларгье скомандовал солдатам: «На плечо!» Когда повозка поравнялась с взводом, Ларгье отдал команду: «На караул!» Сезанн остановил экипаж и приподнял шляпу. Ларгье подошел к нему и сказал, что солдаты приветствовали великого художника. Сезанн в волнении поднял руки и воскликнул: «Что вы наделали, мсье Ларгье! Это, право, ужасно!»
Существует несколько причин, из-за которых Поль любил общество молодых людей. Первое его обращение к молодежи состоялось, можно считать, в 1896 году, когда он познакомился с Гаске. Гаске представил ему других художников и поэтов, которые относились к мэтру с глубоким уважением. Сезанн почувствовал, что может свободно общаться с ними, может оставить свои обычные страхи и готовность вечно защищаться. Общество молодых людей напоминало Полю его счастливую юность и дружбу с Золя, хотя в то же время это общение не могло не напоминать ему о его возрасте. Поэтому в общении с молодежью он обретал одновременно и стимулы к работе, и глубокую меланхолию.
Возвращение Поля к работе на берегах Арка, фактически все его «Купальщики» были попыткой оживить дух его юности и воссоздать его с позиций зрелого, умудренного жизнью и природой человека.
Восхваление постоянно обновляющихся сил, выраженное борьбой Сезанна за достижение все возрастающей свежести и энергии выражения, возраставшей по мере убывания его физических сил, связано для него с образом Геракла, что находило воплощение в основном в бесконечных копиях с «Галльского Геракла» Пюже,которые он повторял на протяжении 1880—1890-х годов. Критики писали, что он изображал эту статую просто из-за любви к ее пластике, к ее постоянно меняющейся поверхности. Но Сезанн мог найти сколько угодно других похожих статуэток для своих пластических штудий. Несомненно, что интерес к Гераклу коренится для него еще в ранних стихах, а кроме того, Поль с детства мог видеть в музее Экса античное изваяние, неправильно называвшееся Эркюль Галуа (Галльский Геракл). Следует вспомнить также, что этот образ был связан и с поэзией Гюго, в которой Геракл был символом борющегося человечества и олицетворением поэта, вдохновляющего людей идти на борьбу за свободу и очищение земли. От Мишле Поль узнал о Геракле как о боге творческого труда. Поэтому, обратившись в 1880-е годы к статуэтке Пюже, Сезанн собрал воедино весь комплекс ранних представлений и подошел к этому образу уже с более глубоким чувством. Он выполнил семнадцать рисунков этой статуи, а также сделал наброски с маленького Купидона, которого он считал также работой Пюже (на самом деле это было произведением Дюкенуа). Гипсовую копию этой статуи Поль держал у себя в мастерской и не раз использовал в живописных композициях. Интерес к Гераклу должен был в основном вызываться именно темой, поскольку пластические качества статуэтки были довольно умеренны. По словам Гаске, в ней не хватало «дыханья мистраля, оживляющего мрамор». Дени был прав, когда писал: «Он любил буйное движение, вздувшиеся мускулы, отчетливость форм… Он рисовал это, приписывая Пюже».
«Галльский Геракл» был для Сезанна образом pictor semper virens (вечно молодого художника. — Латин.) и вообще мира творческого труда. Пюже в свое время изобразил мифологического древнегреческого героя, но современники смотрели на этот образ как на символического Труженика. Э. Шено, который был знаком с Полем, писал в своей работе о Пюже (1882), что «это не греческий Геракл, а галльский герой, то есть то, что сегодня называется реалистическим произведением». Слово gallic, согласно Лapyccy, означало «невозделанный», «варварский», «грубый». Лагранж в 1868 году объявил, что в этом образе изображен не мифологический сын Юпитера, но вообще физическая сила, присущая геркулесовскому типу.
Хотя Поль прямо не использовал «Галльского Геракла» в своем искусстве, он повторил его позу во многих академических набросках и эскизах для «Купальщиков». Позднее он вспоминал наклон этой скульптуры при выборе точки зрения для зарисовки других барочных статуй. Одержимость художника этим мотивом позволяет глубже проникнуть в его сознание и в подход к своей работе в поздние годы. Он попросту хотел быть галльским Гераклом, художником с вечно крепким телом; он хотел наполнить Геракловой мощью все, что он делал, заставляя всякую форму, даже какой-нибудь цветок, служить выражением напряжения крепких сил и триумфальной гармонии.
В конце сентября Поль испытал сильное потрясение. Работник в его владении в Лов прочитал в газете о смерти Золя и сообщил об этом своему хозяину, который, как он знал, был некогда знаком с писателем. Золя задохнулся во сне от дыма из неисправного камина (подробности этого происшествия были темными и позволяли предположить, что, возможно, писатель был убит реакционерами). Узнав о смерти Золя, Поль заперся в мастерской на весь день. «Он плакал, скорбел и горевал целый день», — сообщает М. Прованс. Вечером Сезанн отправился к старому Солари. В следующее воскресенье он пошел, как всегда, на службу и, выходя из церкви, столкнулся в дверях с Костом. Они не поддерживали дружеских отношений уже несколько лет, поскольку Кост был горячим приверженцем Золя, что Полю очень не нравилось. Два старых друга пожали друг другу руки на площади перед собором и горестно прошептали: «Золя, Золя».
В этом же году Октав Мирбо пытался добиться для Сезанна ордена Почетного легиона. «Ах, мсье Мирбо, — отвечал ему директор департамента изобразительных искусств, — пока я пребываю директором, я должен считаться со вкусами публики и не могу пытаться забегать впереди общественного мнения. Пусть лучше будет Моне. Он не хочет? Ну тогда дадим Сислею). Как, он уже умер? Ну а как насчет Писсарро?» Молчание Мирбо директор понял превратно. «Неужели он тоже умер? Ну хорошо, назовите в таком случае кого хотите. Мне безразлично, кто это будет, если только вы пообещаете не называть больше Сезанна».
9 января 1903 года Поль почувствовал надежду. «Я начинаю видеть землю обетованную», — писал он Воллару. «Ждет ли меня участь великого вождя евреев, или мне все же удастся в нее проникнуть… Неужели искусство и вправду жречество, требующее чистых душ, отдавшихся ему целиком». Далее Поль высказывает сожаление из-за того, что их с Волларом разделяет большое расстояние, «я бы не раз обратился к Вам, чтобы немного поднять свой дух». «Я живу один, эти… эти… неописуемы, это каста интеллектуалов и какой закваски, боже мой!» Прозвища «этих» Воллар счел невозможным помещать печатно.
В марте состоялась распродажа коллекции Золя, в которой было около десятка ранних работ Сезанна. Они стали уже оцениваться выше, чем картины Моне или Писсарро, — от 600 до 4200 франков при 2805 франках за Моне и 900 за Писсарро. За академика Деба-Понсана («Истина, исходящая из источника») дали всего 350 франков.
Девятого марта журналист Анри Рошфор разразился злобной статьей «Любовь к уродливому», в которой поносил и Золя и Сезанна. Он писал, что «молодая Франция», «выступая против Золя, против прилизанных интеллектуалов и снобов дрейфусизма… предпочитает не выставлять себя на шутки, которые они, эти евреи и прочие жидовствующие, эти до мозга костей вольнодумцы, не удержатся выкинуть на этой демонстрации «хлама»…».
Рошфор называл Сезанна ультраимпрессионистом и хохмил, что даже наиболее эксцентричные представители этой школы, вроде Моне или Писсарро, покажутся «просто академиками, почти членами Института на фоне этого Сезанна». Толпа особенно была распотешена портретом мужчины, в котором «щеки были вылеплены словно мастерком каменщика и заставляли предположить, будто у него экзема». Забавно, что Рошфор заклеймил Сезанна как простое отражение дрейфусара Золя. «Мы часто говорили, что дрейфусары существовали еще задолго до дела Дрейфуса. Все слабые мозги, все искореженные души, косоглазые и увечные были уже готовы к пришествию мессии, к государственной измене. Когда мы наблюдаем природу в интерпретации Золя и всех этих вульгарных мазилок, не приходится удивляться, что патриотизм и честь оказываются в обличье офицера, протягивающего врагу секретные планы родины».
На самом деле, если вдуматься глубже (что мы и пытались время от времени делать), существуют глубинные связи между искусством Золя и Сезанна. Но, разумеется, Рошфор видел отнюдь не то, что было в действительности. В очередной раз в его опусе передовое искусство было заклеймлено как революционная политика.
Обитатели Экса были обрадованы статьей, которая подтвердила их давний приговор Полю как нечестивому бездельнику, проживающему родительские денежки. Гаске писал, что около трехсот экземпляров было подброшено под дверь тех, кто подозревался в маломальской симпатии к Сезанну. Далее он писал об анонимных письмах с угрозами. Сам Поль писал сыну: «Незачем мне ее посылать, каждый день я нахожу экземпляры этой статьи, подброшенными у моей двери, не считая номеров, которые мне посылают по почте». Наверно, он едва отваживался выходить из дома.
Верный Жеффруа продолжал защищать его. В томе «Художественной жизни», опубликованном в том же году, он писал: «Если над ним уже не все глумятся, как раньше, то многие, не удосуживающиеся сделать попытки проникновения в его декоративное чувство, многообразие формы, яркость цвета, которые сближают этого художника из Экса с венецианцами, взирают на него с удивлением, не догадываясь, что он обладает своим собственным новым стилем, своей особой значительностью».
Двадцать пятого сентября Поль поздравил Оранша с рождением сына. Его собственный сын находился в то время в Фонтенбло. «Я упорно работаю, — писал Поль, — и, если солнце Аустерлица в живописи заблестит надо мной, мы вместе придем пожать Вам руку».
Солари остался теперь единственным другом Сезанна. Они нередко обедали вместе дома у Сезанна или в харчевне у мамаши Берн в Толоне. Однажды из дома Сезанна под вечер стали раздаваться громкие яростные крики. Перепуганные соседи побежали за мадам Бремон. Она успокоила их: это всего лишь два пожилых человека спорят об искусстве. На Поля теперь нередко находили приступы бахвальства. «Во Франции есть более тысячи разных политиканов, но Сезанн рождается единожды в два столетия».
Часто Поль возвращался с работы чрезвычайно уставшим, после быстрого обеда он укладывался в постель, но с рассветом был уже на ногах.
Мари осуществляла за ним строгий надзор. Недовольная щедростью Поля, она велела мадам Бремон выдавать ему не больше пятидесяти сантимов, когда он шел в церковь на службу. Это, несомненно, она ответственна за то, что однажды, когда Сезанна не было дома, экономка спалила все этюды «Купальщиц». Встретившаяся женщина, продававшая на базаре вино, спросила ее: «Как поживает мсье?» — «Да не слишком хорошо». — «Занимается ли он живописью?» — «Да, такой ужас, я как раз сожгла целую кипу обнаженных женщин. Я не могла их больше хранить из-за соображения безопасности всего семейства. Что бы сказали люди!» — «Да, но некоторые из них могли быть и неплохи». — «Что вы, они совершенно ужасны».
В том же 1903 году Сезанн выставил семь полотен на венском «Сецессионе», а несколько позже три другие картины были показаны в Берлине. Австрийский критик высказывал сожаление по поводу растущего числа парижских собирателей картин Сезанна, «которые называют его самым великим из всех живущих художников и воздают божеские почести».
В ноябре умер Писсарро, а вскоре после этого на Маркизских островах скончался Гоген.
Глава 5
Конец
(1903–1906)
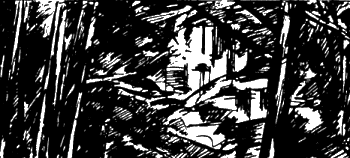
На Поле отражалось разрушительное действие его диабета: глаза его опухли и покраснели, лицо стало одутловатым, а нос — сизым. Ясно, что после всех его тревог 1885–1886 годов издавна преследовавший Поля страх смерти обрел новую силу и если бы не диабет, то еще какая-нибудь напасть преследовала бы и доконала его. При всех страхах он не придерживался сколько-нибудь строгого режима, хотя известно, что он отказывался от обильных блюд, предлагавшихся гостям. 25 января 1904 года он сказал Ораншу, что давно не видел Гаске. Относительно искусства он заметил: «Я думаю, с каждым днем я подхожу все ближе к сути, хотя все это довольно болезненно. Если глубокое изучение натуры — а это, конечно, у меня есть — необходимая основа для любых концепций искусства, на которых основано великолепие и величие всей будущей работы, то знание средств выражения наших чувств не менее важно. А оно может быть основано только лишь на длительном опыте». 29-го, изнуренный дневными усилиями, он оставил ясный вечер, как он выразился, для писания писем.
В его жизнь вошло несколько новых друзей. Наиболее важным из них был Эмиль Бернар, который хотел встретиться с ним со времен Танги, то есть еще с тех пор, когда он был студентом-художником. В феврале он вместе с женой и двумя детьми высадился в Марселе, возвращаясь из Египта, и решил завернуть в Экс. Около дома Бернар увидел старого господина в нахлобученной фуражке, который нес охотничью сумку. Бернар представился, и Поль повторил предложение, которое он делал еще в 1890 году. «Я как раз иду писать мотив. Пойдемте вместе». Польщенный этим сердечным приемом, Бернар остановился в Эксе на целый месяц и встречался с Сезанном почти каждый день. Придя к Бернару домой, Поль увидел натюрморт. «Да вы настоящий художник!» Так как освещение там было недостаточным, Сезанн предложил Бернару нижние комнаты в Лов. Бернар работал в них и ходил с Полем на мотивы, где мог наблюдать за работой старого художника. Поль удивил его, сказав, что использует в работе фотографии. Однажды Бернара позвали в спальню Сезанна, чтобы посмотреть лежавший там том с репродукциями Остаде; над кроватью в алькове он заметил распятие (возможно, помещенное там Мари) и акварель Делакруа «Цветы», повернутую изображением к стенке, чтобы предохранить ее от выгорания на солнце.
Бернар любил рассуждать об искусстве и часто спрашивал мэтра: «На чем основан ваш метод перспективы? Что вы подразумеваете под натурой? Достаточно ли совершенны наши чувства, чтобы замечать то, что Вы называете природой?» Вопросы раздражали Поля. «Поверьте, все это не лучше слова Камбронна», — говорил он. (Эвфемизм «слово Камбронна» — это, конечно, результат деликатного редактирования Бернаром фекальной лексики Поля. Он говорил просто «дерьмо».) «Все эти шутки оставьте для рассуждения университетским профессорам… Будьте художником, а не писателем или философом». Когда Бернар возражал, Поль отвечал ворчливо: «Вы разве не знаете, что я считаю все теории идиотскими» — и отходил, бормоча: «Правда заключена в натуре, и я докажу это». Его письма сбивали Бернара с толку. Применительно к Ван Гогу он смог выработать конкретные основы эстетической теории, но Сезанн ставил в тупик и не поддавался описанию. Бернар начал сомневаться, имеет ли он вообще какие-нибудь ясные идеи относительно того, над чем работает, и работал ли он вообще сознательно. Он записывал некоторые из замечаний Поля: «Нам нужно снова стать классиками через природу при помощи ощущения. Нужно рисовать в процессе живописи. Чем больше уравновешены цвета, тем больше точен рисунок. Когда цвет достигнет своего полного богатства, форма станет завершенной. Секрет рисунка и моделирования заключен в контрастах и взаимосвязи тонов.
Работайте, не обращая внимания ни на кого, и тогда достигнете мастерства. Вот в чем должна быть цель художника. А все остальное просто дерьмо.
Начинайте с легких и почти нейтральных тонов. Затем наращивайте градации, все больше и больше усиливайте цвет».
Первое предложение является примером того, как часто, цитируя Сезанна своими словами, рассказчики приписывали ему свои собственные идеи. Возможно, между ними был просто обмен мнениями типа следующего. Бернар настаивал на необходимости возврата к классической основе, и Поль в конце концов в раздражении сказал: «Ну хорошо, если мы уж должны вернуться к классицизму, то пусть это будет через ощущения, ибо вот где ключи зарыты».
Бернар начал свой путь в понт-авенской группе, сформировавшейся вокруг Гогена, и разделял их общую любовь к декоративной очищенности, наивности, иератической чистоте линии. Затем в 1895 году он обратился к разновидности мистической неоплатонической эстетики. В стихотворении, написанном в Египте, перед приездом в Экс он писал:
«Коричневый, оливковый иль черный
взять для картины? Это все равно,
Пуссен, или Лебрен, или Карраччи?
Не важно, каждый должен быть нам люб.
Нам следует давно уж научиться
любить любую сильную работу».
Таким образом, Пуссен и академическая традиция были для Бернара одинаковы. Перед приездом в Экс в 1904 году он путешествовал по Испании и Италии, проведя много времени в Венеции, его работы в чем-то производили впечатление набросков венецианцев. Но уже в 1880-е годы он обратил внимание на Пуссена, что явилось его реакцией на методы импрессионистов. Ван Гог заметил в сентябре 1886 года: «Вокруг много говорят о Пуссене. Бракмон тоже говорит о нем. Французы считают Пуссена самым великим художником из всех старых мастеров». В 1890-е годы была другая реакция, отрицавшая символизм и декаданс, ее сторонники жаждали вернуться к греко-римскому порядку. Так, Л. Анкетен, который начинал в кругу Сёра, обратился впоследствии к Домье и Курбе и пришел около 1896 года к Микеланджело и Рубенсу. Свои предыдущие картины он закопал в саду. Хотя мы не можем свести этот поворот к усилению политической реакции, происходившей тогда, но ясно, что между этими двумя явлениями была тесная связь. Новое благовествование классического порядка было крепко связано с попытками католического возрождения, с призывами к «полному национализму», которые разделял Гаске, и роялистской политикой. Существовало сознательное отрицание радикализма и анархизма, которые ассоциировались с движениями импрессионизма и символизма. Не все художники были увлечены новой волной, например Вюйар, Боннар, Лотрек и Матисс отвергли его. Но среди окружавших Сезанна поэтов и художников большинство были приверженцами реакционного неоклассицизма.
Дени, классицист в духе Энгра, был одним из тех, кто связывал Поля с Пуссеном. Он называл его в высказывании об Осеннем Салоне 1905 года «Пуссеном натюрморта и зеленых пейзажей». Двумя годами позже он определил Сезанна «Пуссеном импрессионизма». Уже в 1898 году Дени связал с Пуссеном поэтов дисциплины и порядка в «Католическом обозревателе». В 1897 году Пуссен появился в его дневнике, а в следующем, 1898 году он открыл искусство Ренессанса в Риме. Его друг А. Жид был его гидом, он тогда только что опубликовал свое первое эссе о классицизме, вслед за которым последовала большая статья об учениках и последователях Энгра, которые превозносили Рафаэля и Пуссена. Бернар и другие заимствовали у него сравнение Поля с Пуссеном. Бернар ничего не упоминал о Пуссене в своем первом очерке о поездке к Сезанну (а только эту публикацию Поль и видел). Там также не было никаких атак на импрессионизм. Напротив. Сезанн называл Курбе, Мане, Моне лучшими художниками и добавлял: «А Писсарро был близок к природе». Но в 1907 году, после смерти Поля, Бернар вставил фразу: «Представьте Пуссена, полностью переделанного на натуре. Вот такой классицизм я и имею в виду», — и вложил ее в уста Полю. Самое большее, что Поль мог сказать, это что-то типа: «Если вопрос заключается в том, чтобы вернуться к Пуссену и тому подобному, тогда пусть это будет Пуссен, заново воссозданный от земли». Сам он, конечно, в своей системе Пуссена вовсе не рассматривал, тот программный тон, который звучит в передаче Бернара, был ему совершенно чужд.
Понять это очень важно, так как формулировка Бернара соответствовала вкусам того времени и внесла большую путаницу в осознание истинных целей Поля. Сам Бернар был религиозно настроенным дуалистом; его стихотворения описывают мир как арену яростного конфликта между сильнейшей чувственностью и мистицизмом. В основе своей позиция Бернара была противоположна главной идее Поля — искусство как воссоздание природы посредством ощущения. В конце концов Бернар осознал это обстоятельство. В 1926 году он полностью отказался от идеи «стать классиком par la natura», которая в 1904 году представлялась ему «наиболее здоровым и совсем непонятым подходом». Соответственно он объявил взгляды Поля антиклассическими, «уводящими живопись обратно в рабство внешнего облика», что для Бернара означало возврат к академизму.
Но тем временем неверное толкование было сделано. Тезис о Пуссене обеспечивал легкий путь к искажению истинной природы искусства Поля и одновременно к тому, чтобы сделать его приемлемым для того климата художественной критики, к которому сам Поль всегда чувствовал враждебность. Гаске написал поэму о Пуссене (опубликованную в 1903 году), а также о Декарте. Он выводил Поля защитником нового порядка в цитированном выше отрывке о «Купальщицах» — «Рассуждение о методе в действии». Своего Поля он заставил декларировать: «Я бы хотел, как в «Триумфе Флоры», сочетать очертания женских фигур с округлостями холмов» и, «как то делал Пуссен, наделить рассудком траву и пустить слезу в небеса». Воллар также повторял выражения Бернара, вкладывая их в уста Сезанна. Ларгье касался этой темы: «Даже спустя более чем двадцать лет мне доставляло удовольствие вспоминать, как он (Сезанн. — Пер.) произносил, не разжимая губ: «Вернуть Пуссена к жизни через природу…» Он даже описал это в стихах:
«Желание вернуть Пуссена к жизни
Не вызовет, конечно, возражений.
Есть только свет и тень и колорит,
А линия с рисунком суть абстрактны».
Около 1914 года Л. Верт доверительно сообщал: «Сезанн советовал молодым художникам рисовать их печные трубы. Он говорил им обычно, кроме того: «Необходимо воссоздать Пуссена в соответствии с природой». Т. Дюре писал в 1906 году, что Поль хорошо знал старых мастеров благодаря Лувру, в 1914-м он добавлял: «Пуссена в особенности». (Похоже на то, что и в самом деле Поль как-то сказал Ф. Журдену, что советовал одному молодому художнику рисовать его печку. В этом он вспоминал свой собственный ранний набросок печки в мастерской, сюжет этот также писали Делакруа и Коро.)
Все сказанное выше я веду не к тому, чтобы заявить, что Поль не восхищался Пуссеном. В мастерской у него висела репродукция картины «И я был в Аркадии». Но показательно, что он сделал только три копии с Пуссена против пятидесяти шести с Пюже, двадцати семи с Рубенса, двадцати шести с Микеланджело. Из его собственных высказываний и записей ясно, что художниками, кого он более всех других почитал, были Рубенс и Тинторетто. Из Пуссена Сезанн скопировал фигуры пастушки и коленопреклоненного пастуха из «И я был в Аркадии» и путто (из «Концерта»). Они относятся к 1890–1895 годам и представляют собой небольшие наброски отдельных взаимосвязанных фрагментов, а не целостные композиции. Ривьер и Шнерб, которые посещали Поля в 1905 году, сделали соответствующие заметки. Они подчеркивали восхищение Поля Моне и Курбе за их чувствительность к свету и цвету и за их свободную, уверенную манеру исполнения. Относительно старых мастеров они же передавали, что Веронезе был среди тех, о которых он думал больше всего в конце жизни. Также говорят, что «он любил Пуссена, в котором разум дополнял способности».
Вернемся к Бернару в момент его пребывания в Эксе в 1904 году. Он постоянно наблюдал Поля за его работой над огромными «Купальщицами», где «все было в хаотичном состоянии». Бернар видел Поля на пейзажах в Шато Нуар и пишущим натюрморты в мастерской. Он был ошеломлен, видя, как неистово и постоянно трудится Сезанн. Натюрморт с тремя черепами менял свой колорит и композицию почти каждый день. Работая на первом этаже, Бернар постоянно слышал, как Поль расхаживал наверху в мастерской. Часто он видел Сезанна спускавшимся в сад посидеть в глубоком раздумье и снова спешащим наверх. Однажды Поль увидел Бернара за работой над натюрмортом, нашел ошибку и захотел тут же исправить, но, когда Бернар протянул ему свою палитру, он закричал: «А где у вас неаполитанская желтая, где ваша персиковая черная? Куда вы засунули натуральную сиену, кобальт и жженый лак? Вы не можете писать без этих красок». Бернар так описывает палитру Поля того времени: «Синий кобальт, ультрамарин, прусская синяя, изумрудная зеленая, «ноль веронез», зеленая земля, киноварь, охра красная, жженая сиена, краплак, кармин, жженый лак, блестящая желтая, неаполитанская желтая, желтый хром, желтая охра, натуральная сиена, серебряные белила, персиковая черная».
Когда Сезанн не занимался живописью и не беспокоился о своей работе, он был добродушен и даже часто весел. Он обедал с Бернарами в их квартире на Театральной улице, играл с детьми и называл себя Отцом Горио. Но вскоре он обычно вспоминал о работе и делался молчалив, детей отправляли спать. Во время обедов он часто разглядывал пристально фрукты, блюда и сосуды или принимался изучать игру светотени на лицах его хозяев.
Однажды утром он пригласил Бернаров прогуляться к холмам в окрестностях Шато Нуар и удивил их своей ловкостью и проворством. Все время, даже слегка задыхаясь, он болтал. «Роза Бонёр, вот чертовка! — говорил он, карабкаясь по камням. — Она знала, как посвятить себя живописи без остатка». По дороге он рассуждал о своих любимых поэтах и прочел «Падаль» (Воллар, несомненно, заимствовал эту деталь у Бернара). Он вспоминал с благодарностью дни, проведенные в Овере с «простым и великим Писсарро», который научил его видеть цвет. «Он был для меня словно отец». В следующий момент он уже потрясал палкой, обрушиваясь на дорожных инженеров, этих маньяков, которые при помощи прямых линий все делают уродливым. Но он был уже слишком болен, чтобы сильно злиться. «Не будем больше говорить об этом. Я слишком устал и так возбужден. Я должен сохранять благоразумие, сидеть дома и ничем не отвлекаться от работы».
Однажды Бернар и Поль, идя домой с мотива, решили сократить дорогу и пошли по крутому и скользкому склону. Поль, который шел впереди, оступился и чуть не упал, Бернар схватил его за руку, чтобы поддержать. Неожиданно Сезанн впал в бешеную ярость, стал браниться и отталкивать Бернара, затем торопливо побежал вперед, время от времени бросая опасливые взгляды через плечо. Бернар пошел за ним в мастерскую и попытался объясниться, но Поль, «глаза которого чуть не вылезали из орбит от ярости», не пожелал слушать. «Я никому не позволю касаться меня. Никто не сможет достать меня своей граблей», — кричал он.
Удрученный Бернар ушел к себе. В тот же вечер, когда он собирался лечь спать, к нему постучали. Это был Сезанн, он зашел справиться, прошло ли у Бернара ухо, которое болело уже несколько дней. Он был очень приветлив и, казалось, полностью забыл то, что произошло несколько часов назад. На следующий день Бернар рассказал об этой истории мадам Бремон, которая уверила его, что в этом нет ничего страшного и что Поль весь вечер расхваливал Бернара. Ей самой приказано обходить хозяина подальше, чтобы даже не задеть стула краешком юбки во время подачи обеда. Потом Сезанн сам объяснил Бернару, что в детстве его на школьной лестнице ударили по заду, о чем мы уже упоминали.
Несмотря на недостаточное взаимопонимание во взглядах на искусство, письма Сезанна к Бернару являются наиболее важным источником его воззрений. Сохранилось шесть писем, в первых двух он просит «поцеловать детей от имени папаши Горио».
(15 апреля 1904 года). (…) «Разрешите мне повторить то, что я уже говорил Вам здесь: трактуйте природу посредством цилиндра, шара, конуса — и все в перспективном сокращении, то есть каждая сторона предмета, плана должна быть направлена к центральной точке. Линии, параллельные горизонту, дают глубину. А поскольку в природе мы, люди, воспринимаем больше глубину, чем поверхность, то необходимо вводить колебания света, передаваемые красными и желтыми тонами, достаточное количество голубых, чтобы дать почувствовать воздух.
Позвольте Вам сказать, что я еще раз посмотрел Ваш этюд, который Вы писали на первом этаже моей мастерской. Он неплох, по-моему, Вам нужно продолжать идти по этому пути, у Вас есть понимание, что нужно делать, и Вы скоро обгоните всех Ван Гогов и Гогенов.
Поблагодарите мадам Бернар за добрую память о нижеподписавшемся, детям — поцелуй от папаши Горио и поклон всей Вашей семье».
(12 мая 1904 года). «Я Вам уже говорил, что талант Редона мне очень симпатичен и я всем сердцем с ним в его восхищении Делакруа. Я не знаю, позволит ли мне мое здоровье осуществить мою мечту и написать апофеоз Делакруа.
Я работаю очень медленно, природа представляется мне очень сложной, и нужно непрерывно совершенствоваться. Надо уметь видеть натуру и верно чувствовать, и еще надо изъясняться с благородством и силой.
Вкус — лучший судья. Он встречается редко. Искусство обращается только к очень ограниченному кругу людей. Художник должен пренебречь суждением, если оно не основано на разумном наблюдении характерного. Он должен опасаться литературного духа, под влиянием которого можно уклониться от единственно верного пути — конкретного изучения природы — и заблудиться среди отвлеченных теорий. Лувр — это хороший справочник, но он должен быть только посредником. Реальная и труднейшая задача — это изучение разнообразия природы».
В своем замечании относительно цилиндра, шара и конуса Поль в нималой степени не выступает защитником абстракционизма. Он пытается довольно неловко объяснить, как он воспринимает структуру предметов в пространстве и глубину пространства в цвете. Что касается «Апофеоза Делакруа», то он сделал несколько набросков, один можно видеть на фотографии 1894 года. На обороте акварели на эту же тему Бернар обнаружил шесть стихотворных строк, написанных Полем:
«Упругой наготой и свежестью блистая,
Средь луга женщина простерлась молодая;
Змеино-гибкий стан, округлый, крепкий зад, —
Она раскинулась изысканно и смело,
И щедрые лучи светила золотят
Роскошной белизной сверкающее тело».
(Перевод В. Левика)
Последнее слово стихотворения «viande». Мы помним о каннибалистском видении Уголино с черепом, поедаемым за экономным семейным столом. Можно вспомнить и о том, как Золя в «Чреве Парижа» виртуозно и поэтически описывает в длинном пассаже цветы и фрукты, продававшиеся на рынке, в эротических терминах, с эпитетами женственности — с комментарием Клода: «Я с отвращением думаю, что все эти паскудные буржуа собираются пожрать все это». Для Поля яблоки, апельсины, персики, как мы видели, были под определенным углом зрения любовными плодами, будучи символом изгибов и округлостей женщины и вызывая ее образ.
Бернар работал над статьей о Поле для «Оксидан». Поль писал ему:
(26 мая 1904 года). «Я вполне согласен с мыслями, которые Вы хотите изложить в Вашей ближайшей статье в «Оксидан». Но я все время возвращаюсь к тому же самому: художник должен всецело посвятить себя изучению природы и стараться создавать картины, которые были бы наставлением. Разговоры об искусстве почти бесполезны.
Работа, благодаря которой делаешь успехи в своем ремесле, достаточное вознаграждение за то, что тебя не понимают глупцы.
Литератор изъясняется при помощи абстракций, тогда как художник посредством рисунка и цвета наглядно передает свои ощущения, свое восприятие. Художник должен быть как можно искреннее и добросовестнее, как можно смиреннее перед природой. Но надо до какой-то степени властвовать над своей моделью, а главное, владеть своими средствами выражения. Проникнуться тем, что у тебя перед глазами, и упорно стараться изъясняться как можно логичнее».
(27 июня 1904 года). «Погода прекрасная, и я пользуюсь, чтобы работать. Надо было бы сделать десять хороших этюдов и продать их подороже, раз любители ими спекулируют. (…)
Говорят, что несколько дней назад Воллар устроил вечеринку с танцами и пирушку. Как будто присутствовала вся молодая школа — Морис Дени, Вюйар и т. д. Поль встретился там с Жоашимом Гаске. Я думаю, что лучше всего много работать. Вы молоды, реализуйте и продавайте.
Помните ли Вы прекрасную пастель Шардена с очками и козырьком в виде навеса над глазами? Этот Шарден — хитрец. Заметили ли Вы, что, когда он положил на носу легкую поперечную грань, соотношение вал еров стало яснее? Проверьте и напишите мне, не ошибся ли я».
Он слышал, что Ортанс и Поль сняли дачу в Фонтенбло на пару месяцев. Заканчивает он письмо сообщением, что из-за страшной жары еду ему приносят в загородную мастерскую.
В письме от 26 мая он утверждает свою веру в диалектическое взаимодействие художника и природы. То, что художник ищет и находит в природе, должно быть тщательно взвешено. Будучи хозяином своего метода, он должен быть также хозяином натуры (модели) и, следовательно, в определенном смысле преображать ее. Но что именно происходит в момент взаимодействия, он не может объяснить. Он знает, что получается, если заниматься этим делом, но описать это не находит слов. Отсюда раздражение Сезанна по поводу теоретизирования и литераторских разговоров.
Непонимание этого пункта привело к искажению его искусства символистами и неоклассицистами (часто это были одни и те же люди). Дени вещает нам, как Сезанн предвосхитил символистскую эстетику, поместив на место «воспроизведения» «представление», но на самом деле Сезанн не делал ничего подобного. То, что символисты подразумевали под «reproduire» («воспроизведение»), было нечто совершенно отличное от того, что он имел в виду, говоря о «realiser» («реализовывать»). В первом случае существует разрыв между наблюдателем и объектом наблюдения, во втором (сезанновском) — есть динамическое единство. В первом случае художник опирается на какие-то образцы или распределяет материал в соответствии с заранее обдуманным способом, чтобы достичь некоего эффекта или выражения, которое существует, скорее, в его сознании, а не в природе. Во втором случае существует слияние процессов наблюдения и воспроизведения с процессами, происходящими в природе. То, что изображается, вовсе не является при глубоком рассмотрении вещью — это процесс. И художник и природа динамически переплетены.
Ощущение Сезанном двойственного аспекта занятий живописью и его невозможность объяснить, как они дополняют друг друга, видны из его замечаний Франсису Журдену, молодому живописцу, посетившему его в последние годы. Перед «Купальщицами» он заявил, что «живопись заключена здесь», постучав себе в бровь, а затем сказал, что его целью всегда было выразить расстояние между глазом и объектом и истинный успех может быть основан только лишь на природе.
Двадцать пятого июля он благодарил Бернара за его статью.
«Мне остается только благодарить Вас за все, что Вы написали обо мне. Я сожалею, что мы не можем быть вместе, потому что я хочу доказать свою правоту не теоретически, но на натуре. Энгр, несмотря на свой стиль (экс-кое произношение) и несмотря на своих почитателей, на самом деле совсем не большой художник. Самые великие, Вы их знаете лучше меня, это венецианцы и испанцы.
Чтобы совершенствоваться в исполнении, нет ничего лучше, чем природа, глаз воспитывается на ней. Смотря и работая, он становится сосредоточеннее. Я хочу сказать, что в апельсине, яблоке, шаре, голове всегда есть самая выпуклая точка, и, несмотря на сильнейшие воздействия тени, и света, и красочных ощущений, эта точка ближе всего к нашему глазу; края предметов уходят к точке схода, расположенной на нашем горизонте. Даже с маленьким темпераментом можно быть настоящим живописцем, и можно писать хорошо, не будучи специально колористом и не очень хорошо понимая гармонию. Достаточно иметь художественное чувство, и вот это-то чувство является пугалом для всех буржуа. Институты, стипендии, отличия придуманы только для глупцов, шутов и пройдох. Бросьте критику, занимайтесь живописью. Спасение — в ней.
Сердечно жму Вам руку, Ваш старый товарищ Поль Сезанн».
Двадцать седьмого июля он писал в длинном последнем письме Гаске о своих приготовлениях к визиту к поэту. «Стряхнув свою апатию и неподвижность, я выберусь из своей раковины и сделаю все возможное, чтобы последовать Вашим приглашениям…» Похоже, что он выбрался и, видимо, не обошлось без размолвки. Поль, когда его вынуждали ходить в гости, никогда не был особенно дружелюбным, очевидно, что все предубеждения, которые он питал по отношению к Жо, при этом выплыли наружу. Гаске ничего не пишет по поводу этого столкновения, но с этого времени разрыв определенно существовал.
Двадцать четвертого сентября Сезанн пригласил Солари на воскресный завтрак, он в то время позировал скульптору, который лепил его бюст в натуральную величину. 11 октября он вежливо ответил на уважительное письмо торговца картинами Бернхейма-Жён. Вскоре после этого он отправился в Париж. В Осеннем Салоне он показывал несколько полотен. Жюль Ренар заметил в своем «Дневнике» от 21 октября: «Сезанн варвар. Следует скорее восхищаться множеством известных мазил, чем этим мастеровым цвета». Затем Ренар описывает свой вариант легенды о Сезанне. «Прекрасная жизнь Сезанна вся прошла в деревне на юге. Он даже не явился на свою собственную выставку. Он любит, когда его превозносят. Это как раз то, чего хотят многие из старых художников, которые после замечательной жизни замечают наконец, когда смерть близка, что торговцы картинами наживаются на их работах». Салон был открыт с 15 октября по 15 ноября; на работы Сезанна было много нападок. «Фальшиво, вульгарно, безумно» («Универ»); «сделано словно дикарем» («Монд Иллюстре»); «о Сезанн, благословенны нищие духом, ибо их есть царствие искусства» («Ревю Блё»). «Пти Паризьен» полагает, что его работы были похожи на кляксы небрежного школьника. Один из критиков, Жан Паскаль, в своем памфлете объявил, что Сезанн обязан репутацией Эмилю Золя.
Возможно, по приезде в Париж Поль опасался встретить старых друзей, с которыми когда-то разошелся. Он остановился на улице Дюпер, 16, недалеко от площади Пигаль. К нему сразу стали заходить люди, поэтому он вскоре отправился в Фонтенбло.
Девятого декабря, вернувшись в Экс, Поль писал Камуэну, который был тогда в Марселе, и приглашал его приехать в любое время. «…Вы всегда застанете меня за работой. Если захотите, мы вместе отправимся на мотив… Я ем в 11 часов и после этого отправляюсь на мотив, если только не идет дождь. Мои вещи сложены в 20 минутах ходьбы отсюда. Понимание натуры и реализации иногда не сразу даются художнику — кого бы из мастеров Вы ни предпочитали, он должен быть для Вас только примером, иначе Вы будете всего лишь подражателем. Если Вы чувствуете природу и имеете способности, — а они у Вас есть, — Вам удастся стать самостоятельным; советы и метод работы другого не должны влиять на Вашу манеру чувствовать. Если иногда Вы и подвергаетесь влиянию более опытного мастера, поверьте, если только у Вас есть собственное чувство, оно в конце концов одержит верх и завоюет себе место. Хороший метод построения — вот чему Вам надо выучиться. Рисунок — это только очертания того, что Вы видите. Микеланджело строит, а Рафаэль, каким бы он ни был великим художником, всегда зависит от модели. Когда он начинает рассуждать, он оказывается ниже своего великого соперника».
Двадцать третьего декабря Поль отвечал на письмо Бернара, посланное последним из Неаполя.
«…Я восхищаюсь, как и Вы, самым доблестным из венецианцев, мы поклоняемся Тинторетто. Ваша потребность найти моральную и духовную поддержку в творениях, которые не могут быть превзойдены, не позволяет нам успокоиться, заставляет Вас все время искать в этих творениях средства выражения, и Вы, несомненно, попытаетесь этими средствами передать природу. И когда, работая с натуры, Вы овладеете этими средствами, окажется, что Вы вновь обрели те приемы, которые употребляли великие венецианцы.
Итак — а я считаю, что это бесспорно, — мы воспринимаем зрительные ощущения нашими органами чувств и распределяем планы цветовых ощущений по свету на полутона и четверть тона. (В этом случае свет не существует для живописца.) Если идти от черного к белому, принимая первую из этих абстракций за отправную точку для глаза и ума, мы обязательно собьемся, не будем владеть работой и владеть собой. В этот период (я поневоле повторяюсь) мы обращаемся к великолепным произведениям, сохранившимся от прежних веков, и находим в них успокоение и поддержку. Так пловцу оказывает помощь брошенная ему доска».
Письмо трудно понять однозначно. Похоже, что Сезанн говорит, что проблема заключается не в трактовке света, будь то в импрессионистической или академической манере, но в том, чтобы уловить все градации цвета в их тончайших переходах. Для этого художнику следует ясно очерчивать разные планы, которые обеспечат и глубину, и форму, исходящие от его «цветовых ощущений». Истинность этих ощущений зависит от того, насколько аналитически точно глаз и кисть способны различать оттенки. То, что считает Сезанн, противоречит направленности импрессионистов главным образом на рефлексы света.
В том же 1904 году (без даты) Сезанн написал благодарственное письмо Жану Ройеру за присылку «Эвристических стихотворений». «К несчастью, мой пожилой возраст затрудняет мне понимание формул нового искусства».
В то же время Поль отправил девять работ в Брюссель; также он писал Жеффруа о желании участвовать в сборе средств для роденовского «Мыслителя». Говорят, что он решил поступить так, потому что прослышал, что Жеффруа и Роден заявляли, будто все подписавшиеся были дрейфусарами.
Уже около десяти лет Поль работал над «Большими купальщицами». Мог ли он когда-нибудь закончить картину? Он никогда сам не считал ее завершенной; несмотря на множество положительных сторон, все его попытки означали для него самого лишь поражение. Он мечтал создать такую композицию, чтобы достичь в ней той степени «реализации», которая была в лучших полотнах Рубенса. Но он хотел другого «осуществления» — в рамках его новой системы видения цвета с новой трактовкой объема и формы, плоскостности и глубины. Достичь желаемого мешала ему увеличивавшаяся слабость, а также убеждение в том, что его система требовала для каждого вершка цветовых оттенков соотнесения со всей поверхностью полотна. Уверенность в этом требовала и тщательного исполнения всех мелких деталей и непрестанного контроля над гармонией целого. Если смотреть на «Больших купальщиц» в Лондонской Национальной галерее достаточно долго и достаточно тщательно, можно достичь такой же погруженности, как у Сезанна, и внезапно ощутить то самое единство глубины и плоскостности, о котором он мечтал. Однако композиции поздних версий несколько схематичны и жестковаты по сравнению с живыми ритмами более ранних небольших вариантов этой темы.
Все увеличивавшееся число посетителей, которых он привлекал, Сезанну было трудно принимать с его испорченным здоровьем. 10 января он писал Луи Ораншу: «Я по-прежнему работаю, не заботясь о критике и критиках, так и должен поступать настоящий художник. Работа докажет мою правоту». 17 января Поль высказал, что он желает всем любителям искусства «достигнуть успешного выражения чувств, которые все мы испытываем в общении с прекрасной природой — мужчинами, женщинами, натюрмортом, и найти при этом наилучший способ». 23-го Сезанн поблагодарил Роже-Маркса за его две статьи в «Газетт де Боз Ар» об Осеннем Салоне, где был даже воспроизведен один из его пейзажей. «Мой возраст и здоровье не дадут мне осуществить мечту, к которой я стремился всю жизнь. Но я всегда буду благодарен тем умным любителям искусства, которые, невзирая на мои колебания, поняли, чего я пытался добиться, дабы обновить мое искусство. Ясчитаю, что не заменяешь (своим искусством) прошлое, а только прибавляешь ему новое звено. Обладая темпераментом живописца и идеалом искусства, то есть концепцией природы, нужно еще владеть средствами выражения, чтобы быть понятым обычной публикой и занять соответствующее место в истории искусства». Примечательно, что здесь в конце жизни он выражает мечту дойти до обычной публики. Несомненно, что эта перемена в нем свидетельствовала о том, что в течение долгого времени он все расширял свой круг и надеялся, что этот процесс будет быстро продолжаться. Он больше не утешал себя замечаниями о том, что изящные искусства привлекательны только для меньшинства.
Бернар снова посетил Экс в марте. За завтраком Поль бросал выразительные взгляды на своего сына и повторял: «Сын, в тебе есть гениальность».
В том году к Сезанну приехал Эрман Поль, карикатурист, который хотел заниматься живописью, со своей будущей женой Полиной Менар-Дориан, бывшей в прошлом замужем за внуком Гюго — членом республиканской аристократии. Сезанну понравилась голова Эрмана, и он попросил его позировать. Несмотря на то, что сеансы были довольно пугающими, гость хотел использовать случай, чтобы понаблюдать за мэтром самому. Как только Поль выходил из мастерской, он начинал рисовать по памяти; эти рисунки он позже использовал для большого полотна, на котором изобразил Сезанна в шлепанцах, стоящим перед моделью. Поль же в свою очередь использовал сеансы, чтобы расспрашивать Эрмана Поля о Мирбо, с которым, по его словам, сам он был не знаком. Ему хотелось узнать, большим ли влиянием обладает писатель. Отказ во вручении голубой ленточки все еще терзал Сезанна, и он, видимо, полагал, что Мирбо не использовал полностью своего влияния. О Гаске Поль отзывался с пренебрежением: «Рифмоплет, который возомнил себя Гюго», что сильно противоречило его же более ранним отзывам. Когда Полина, выказывая интерес к работам Поля, спросила о цене его картин, он вдруг сделался подозрительным и грубо ответил: «Я не вижу причин делать вам подарки». Ныне, когда его работы продавались, он поступал совсем не так, как в былые дни, когда он запросто раздавал картины. (Воллар упоминал о своем приятеле Ф. Шапсаре, который лет за десять до описываемых событий заехал в Жа де Буффан с приветом от Писсарро; Поль быстро навязал ему два этюда цветов, которыми тот восхищался. Шапсар, который вовсе не хотел чувствовать себя обязанным, принял дар без обычных изъявлений вежливости.) Эрман и Полина, смущенные нелюбезностью Поля, покраснели и удалились, однако перед их отъездом в Париж Поль извинился. Сначала, как только супруги приехали в Экс, они как-то все вместе отправились в кафе. Эрман Поль, очень хорошо одетый, производил впечатление процветающего человека. Кто-то из местных значительных персон, надеясь быть представленным, подошел к ним. «Вы сегодня в компании, мсье Сезанн». Художник ответил: «И поэтому вы решили признать меня?»
Шестого июля Сезанн был в Фонтенбло. Оттуда он писал торговцу красками, что получил холсты и краски, но все еще ожидает с нетерпением свой этюдник и палитру с дырой для большого пальца. Еще он просил краплак, кобальт и желтый хром. На этот раз Сезанн отправился на север, чтобы избавиться от южной жары, которую он теперь находил непереносимой, но видеть Париж он не захотел. В августе и сентябре «Меркюр де Франс» опубликовал результаты опроса о «современных тенденциях в пластических искусствах». Один вопрос был специально посвящен Полю: «На какое место вы помещаете Сезанна?» Ответы очень отличались один от другого. Одни выражали восхищение, другие отвращение или непонимание: «гений», «один из величайших мастеров французской живописи» и «прокисший плод», «пьяный мусорщик» и т. д. Отзыв Серюзье лучше процитировать, поскольку в нем отразились и проницательное воодушевление, и вместе с тем явно неправильное истолкование работ Поля, разделявшееся целым рядом молодых художников:
«Сезанн сумел освободить живопись от всех обветшалых покровов, которые наслоило время. Он ясно показал, что имитация — это только средство, что единственная цель живописи — расположить на данной плоскости цвета и линии так, чтобы очаровать глаз и обратиться к сознанию, и чисто пластическими средствами создать или, вернее, найти всеобщий язык искусства. Сезанна обвиняют в сухости, в грубости, но эти внешние недостатки — только оболочка его мощи! В его сознании мысль так ясна! Его желание выразить ее так настоятельно. Если в нашу эпоху родится какая-нибудь традиция — а я надеюсь на это, — она пойдет от Сезанна. Тогда пусть придут другие художники, умелые кулинары, и приправят современными соусами кушанья, основу которых дал нам Сезанн. Дело идет не о новом искусстве, но о возрождении всех чистых и крепких классических искусств…»
Десять картин Сезанна были выставлены в Осеннем Салоне, но к этому моменту Поль уже вернулся в Экс. Там он узнал к своему удивлению, что обозреватель в «Мемориаль», цитируя Жана Пюи, ставил ему в заслугу то, что он вернул импрессионизм к «традиции и логике». Критики в Париже временами хвалили его, но обычно упражнялись в шутках, называя мазилой, неотесанным подростком, в лучшем случае «Верленом в живописи», который, преодолевая свою изолированность от всех и извечную неуклюжесть, сумел оставить несколько удачных мазков.
В пятницу неустановленного месяца 1905 года Сезанн написал письмо Бернару. Несомненно, Поль любил Бернара и вместе с тем в бурных дискуссиях подвергал его характер испытаниям. При всей своей нелюбви к теоретическим рассуждениям он жаждал объясниться, но во всем, что не касалось живописи, он делал это весьма несовершенно. «…Печально, что едва начинаешь продвигаться вперед к пониманию природы — с точки зрения живописи — и овладеваешь средствами выражения, наступают старость и болезни. Низкий уровень официальных Салонов объясняется тем, что на них выставляются картины, написанные старыми да еще разбавленными водой приемами. Было бы лучше, если бы в работах чувствовалось больше своих ощущений, наблюдений и личного характера. Лувр — это книга, по которой мы учимся читать. Но мы не должны довольствоваться тем, что усвоили прекрасные формулы наших знаменитых предшественников. Отойдем от них, постараемся освободить от них свой ум, будем изучать прекрасную природу, попытаемся выразить себя в соответствии со своим собственным темпераментом. Вдобавок время и размышления мало-помалу изменяют наше восприятие, и в конце концов приходит понимание.
В эту дождливую пору невозможно применять на пленэре эти совершенно правильные теории. Но последовательность учит нас подходить к интерьеру, как и ко всему остальному. Остатки старых представлений еще засоряют наш ум, надо все время себя одергивать. <… > Вы меня поймете лучше, когда мы увидимся; изучение природы так изменяет наше восприятие, что можно понять анархические теории смиренного и великого Писсарро. Рисуйте, но не забывайте, что объединяют только рефлексы: свет через рефлексы окутывает все».
Двадцать третьего октября в следующем письме к Бернару Сезанн признавался, что письма Бернара ему очень дороги, снимая умственное изнеможение от физической усталости.
«…Теперь, когда я почти семидесяти летний старик, цветовые ощущения, которые создает свет, отвлекают меня, и я не могу прописать холст и уследить за границами предметов, когда грани соприкосновения тонки и нежны. Поэтому мой образ или картина несовершенны. Кроме того, планы набегают друг на друга; отсюда родилась манера постимпрессионистов подчеркивать контуры черной краской — с этой ошибкой надо всеми силами бороться. Но если мы будем советоваться с природой, она подскажет нам средства, как достичь цели. Я помню, что Вы были в Тоннере, но мне так трудно устраиваться у себя самому, что я целиком отдаюсь в распоряжение своей семьи, которая этим пользуется и, в поисках удобств для себя, немного забывает обо мне. Ничего не поделаешь; в моем возрасте я должен был бы иметь больше опыта и пользоваться им для общего блага. Я должен Вам сказать истину о живописи, и я скажу… Наше зрительное восприятие развивается благодаря изучению природы, и мы научаемся видеть».
В течение уже примерно пятнадцати лет в Эксе устраивали карнавал. Солари обычно подряжался расписывать колесницы, чтобы немного заработать. Выполняя в очередной раз эту работу, он простудился, подхватил воспаление легких и умер в больнице 17 января. За несколько недель до этого он успел закончить бюст Золя для городской библиотеки. Мадам Золя подарила Эксу рукописи серии романов «Три города». 27 мая муниципалитет организовал торжественное открытие бюста в присутствии вдовы, Нюма Коста и Виктора Лейде, который был в то время вице-президентом Сената. Мэром был Кабасоль, сын старинного партнера Луи-Огюста. В своей речи он упомянул о той важной роли, которую Экс под именем Плассана играл в творчестве Золя; сказал он и о дружбе Неразлучных. Он прочел описание Жа де Буффан, сделанное Золя («подобная мечети белизна, высящаяся посреди выжженной земли»), и рассказал про то, как в 1858 году Золя расставался со своим другом Сезанном, «ставшим с тех пор великим современным художником, как всем известно». Поднялся с речью Нюма Кост. Страдая от сердечной болезни, он временами терял дыхание, речь его была прерывиста и эмоциональна.
«Тогда мы были на рассвете жизни, полные обширных надежд, мечтающие подняться над социальными преградами, в которых барахтаются бесплодные амбиции, бессильная ревность, ложные репутации. Мы грезили о завоевании Парижа, об обладании духовным центром мира. И в пустыне, среди иссушенных и одиноких пространств, не поддаваясь течениям и не боясь мраморных заграждений, мы точили оружие для гигантской битвы… Когда Золя, первый из нас, приехал в Париж, он посылал свои первые литературные опыты своему другу Полю Сезанну, призывая всех нас разделить его надежды. Мы читали его письма среди холмов, в тени вечнозеленых дубов, как читают сводки начавшейся военной компании».
Ничто не могло сильнее этого задеть сердце Поля. Он прослезился. Сквозь слезы он видел, как мадам Золя обняла Коста после его речи, когда он закончил словами о работе, «которая утешает и заставляет забыть страдания». О свидании Поля с мадам Золя свидетельств не осталось. По всей видимости, встречи не было.
В том году Общество друзей искусства Экса попросило его выставить у них свои работы, но развесило картины дурно. В каталоге Поль назвал себя учеником Писсарро. Морису Дени и Русселю, которые приехали навестить его, Сезанн говорил: «Я — как дорожный указатель, за мной придут другие». Среди других визитеров был К.-Э. Остхауз, основатель музея Фолькванг. Сделанное им описание встречи имеет некоторые странности, например восхваление Гольбейна; фраза о Пуссене наверняка списана у Бернара, упоминание о «старом инвалиде», возможно, позаимствовано у Воллара. На примере этих записок можно видеть, как быстро вокруг Поля нарастали легенды.
«Когда нам открыли дверь (на улице Бульгон), мы вошли в помещение, где ничто не выдавало профессии хозяина, где на стенах не видно было картин. Сезанн принял нас без церемоний. Мы сказали, что воспользовались поездкой в Тунис, чтобы заехать к нему выразить свое уважение, что мы давно уже восхищаемся его искусством и что нам хотелось бы купить одну из его работ. Сезанн задал несколько вопросов о нашей коллекции. Имена мастеров, представленных в ней, вызвали у него уважение к нам. Он стал разговорчивым и стал излагать свои мысли о живописи.
Он объяснял свои идеи, показывая холсты и эскизы, которые приносил из разных углов дома. На картинах были кустарники, скалы и горы. «Самое главное, — говорил он, — это найти расстояние. В этом обнаруживается талант художника». Он обводил пальцем границы различных планов на картинах и точно показывал, где ему удалось дать представление о глубине и где решение еще не было найдено и цвет остался цветом, не став выражением пространства. Потом он заговорил о живописи вообще. Было ли это вежливостью по отношению к собеседникам из Германии, но он поставил выше всех художников Гольбейна. Он говорил об этом с такой убежденностью, что трудно было усомниться в его искренности. «Но Гольбейна нельзя достичь, — воскликнул он, — поэтому я беру за образец Пуссена». Что касается современников, Сезанн говорил с большой теплотой о Курбе. Он ценил в нем мощный талант, для которого не существовало трудностей. «Великий, как Микеланджело, — сказал он с одной оговоркой. — Ему не хватает возвышенности». Ван Гога, Гогена и неоимпрессионистов Сезанн лишь едва коснулся. «Они слишком облегчили себе задачу», — сказал он. Потом художник с энтузиазмом стал восхвалять товарищей молодости. Жестом оратора подняв руку, Сезанн воскликнул: «Только Моне и Писсарро великие художники, только они».
Акцент, сделанный в беседе на глубине и средствах ее достижения цветом, выглядит вполне достоверно. Остхауз позднее посетил мастерскую в Лов и видел большое полотно «Купальщицы». Сезанн тогда сокрушался по поводу провинциальной узости взглядов, которая мешает ему воспользоваться женскими моделями. «Старый инвалид позирует мне за всех этих женщин», — восклицал он. Остхауз продолжает: «Я купил картину с изображением карьера Бибемус и еще одно полотно». Поль обещал прислать несколько картин в Германию, но оказался не в состоянии выполнить обещание. Вернувшись в Париж, Остхауз был немало удивлен, услышав, что о Сезанне говорят как о человеке, к которому не подступиться.
От последних месяцев Поля сохранилось восемнадцать писем, из которых шестнадцать адресованы сыну. Поль-младший в качестве «гения» вел теперь его дела. В письмах Сезанн неизменно посылал поклоны maman своего сына. Возможно, его больное сердце сделало его более терпимым, заставило его сожалеть, что он так мало извлек из своего брака. В письме от 22 июля он писал, что из-за жары он вынужден начинать работать в половине пятого утра, после восьми жара становится совершенно невыносимой. «Атмосфера часто вся пропыленная и печальных тонов». Он посылал приветы мадам Писсарро. «Как все уже далеко и вместе с тем так близко». В письме от 24-го: «Вчера этот паршивый аббат Гюстав Ру взял экипаж и заехал за мной в Журдан, он очень навязчив. Я обещал сходить к нему в католический коллеж, но не пойду». 25-го: «Вчера, в четверг, я должен был пойти к этому долгополому Ру. Я не пошел и никогда не пойду, так будет лучше всего. Он мне надоел. Что касается Марты, то я был у твоей тети Мари. Вот еще докука. Мне в моем возрасте надо жить замкнуто и заниматься живописью. Валье делает мне массаж, поясница болит немного меньше. Мадам Бремон говорит, что моя нога лучше. Я прохожу курс лечения Вуасси — ужасный…» Вуасси упоминается как гомеопат, но, скорее всего, он был обыкновенным экским аптекарем. В это время Поль попытался лечиться гомеопатическим методом, возможно, он слышал о нем от доктора Гаше. Однако его болезнь была уже в запущенном состоянии. Валье, его массажист, позировал ему в одном из поздних портретов; пожалуй, это был лучший портрет простого человека. Известно, что Сезанн питал к нему полную симпатию. Посадив модель в профиль на темном фоне, Сезанн достиг сильной, почти скульптурной пластичности. Богатые краски сливаются в рассеянном свете в согласованное единство, все детали служат настроению созерцательной тишины и покоя. Мы видим человека средних лет, покойно отдыхающего, потрепанного обстоятельствами, но не сломавшегося, ничего не вопрошающего и не предполагающего и как-то благородно цельного. Он производит впечатление необычайно величественное, это человек, который достиг внутреннего мира с самим собой. Он излучает некую человеческую чистоту, прочно покоясь на своей трудовой деятельности, без сожалений, пустых надежд или страхов. Поль придал ему все те черты, какие хотел бы видеть в себе, своим искусством он воплотил в чужом лице свой собственный правдивый образ.
«Частая работа акварелью отразилась в этом портрете, несмотря на плотный пастозный слой краски, который напомнил о работах первого периода. От образа исходит свечение, будто внутри его сокрыт некий источник света: желто-оранжево-красные шляпа и лицо и зелено-коричневая рубашка ясно выделяются на фоне темной зелено-коричневой стены сада. Тени везде синие. Внушительный и спокойный старый садовник показан с печальной симпатией, в которой отразилась личность Сезанна его последних лет намного лучше, чем в его автопортретах» (Л. Вентури).
А М. Шапиро писал об этом портрете: «В поисках подобной трактовки человека мы должны будем обратиться к Тициану и Рембрандту. Он напоминает об аристократизме, который заключается не во власти или происхождении, а во внутренней силе».
Третьего августа Полю стало плохо от жары. «Я был вынужден вызвать д-ра Гийомена, потому что я подцепил бронхит; я бросил гомеопатию и перешел на составные сиропы старой школы. Я кашлял очень сильно, матушка Бремон лечила меня йодом, и мне стало легче. Я жалею, что так стар из-за моих цветовых ощущений». Далее он восклицал: «Да здравствуют Гонкуры, Писсарро и все те, кто любит цвет, передающий свет и воздух… Я очень тронут, что меня еще помнят Форен и Леон Диеркс, с которыми я познакомился очень давно — с Фореном в 1875 году в Лувре, а с Леоном Диерксом — в 1877 у Нины де Виллар на улице Муан. Кажется, я рассказывал тебе, что, когда я обедал на улице Муан, за столом сидели Поль Алексис, Франк Лами, Марает, Эрнест д’Эрвийи, Лиль Адан и многие другие проголодавшиеся писатели и художники и среди них незабвенный Кабанер… Увы, сколько воспоминаний, все это кануло в прошлое… Теперь я хочу напомнить тебе о туфлях; те, которые я ношу, почти совсем развалились». Трудно понять, почему младший Поль в Париже должен был заботиться о его туфлях, когда под рукой были мадам Бремон и Мари.
Двенадцатого августа Сезанн пишет о раздражении, которое вызывают у него священники, его решительные отзывы напоминают радикализм старых дней.
«Мучительные ощущения меня раздражают так, что я не могу с ними справиться, и мне приходится жить, никого не видя, для меня это лучше всего. В соборе Сен-Совер вместо прежнего капельмейстера Понсе теперь партию органа ведет какой-то кретин аббат, он так фальшивит, что я больше не могу ходить к мессе, мне просто больно слушать, как он играет. Мне кажется, что католики лишены всякого чувства справедливости и не упускают свою выгоду.
Два дня тому назад приходил мсье Роллан и мы разговаривали о живописи. Он предложил позировать на берегу реки Арк для фигуры купальщика. Мне это было бы интересно, но боюсь, что он захочет получить этюд. Все же мне хочется попробовать. Я ему разругал Гаске и его же Мардрюса. Он мне сказал, что прочтет «Тысячу и одну ночь» в переводе Галана».
Перевод Мардрюса появился в 1900 году и пользовался признанием в кругу Гаске. Поль (так же как и Ренуар) предпочитал старый перевод 1704 года. Ему также было приятно посмеяться над Гаске и его вкусом. Роллан, продолжал он, «как будто понимает, что хотя знакомства могут помочь пролезть, но что в конце концов публика поймет, что ее обманывают». Далее Сезанн выражает надежду, что заказы не испортили Бернара. «Один художник из Лиона, настоящая богема, приходил ко мне занять несколько су, по-моему, он очень бедствует». В заключение Поль напоминает: «Не забудь о туфлях».
Четырнадцатого августа он все так же жаловался на жару. Около четырех часов дня он ждал экипаж, который отвез его на реку к мосту Труа Соте, где Сезанн часто писал в последние месяцы, на то самое место, где он, Золя и Байль обычно купались в отрочестве. «Вчера я там очень хорошо устроился и начал акварель в том же духе, как я делал в Фонтенбло, она мне кажется более гармоничной, все дело в том, чтобы как можно лучше все сказать». Вечером Сезанн ходил поздравить Мари с днем рождения. Правая нога его стала лучше; туфли он получил, и они пришлись ему как раз впору. «На речке ко мне подошел маленький мальчик в лохмотьях, очень смышленый на вид, и спросил меня, богат ли я. Другой, постарше сказал ему, что невежливо так спрашивать. Когда я сел в коляску, чтобы вернуться в город, он побежал за мной. На мосту я бросил ему два су, если бы ты слышал, как он меня благодарил».
Тринадцатого сентября Поль получил письмо от Бернара, которого он называл Эмилио Бернардинос. Он не смог себя заставить прочесть письмо, хотя считал по-прежнему, что Бернар находится на верном пути, но вот не может воплотить все теории в практику. Сезанн сожалел, что Бернар был не с ним рядом и он не мог внушить ему «такую воодушевляющую и единственно верную мысль» о том, что искусство развивается только в соприкосновении с природой.
Поль решил, что не отправится в этом году в Париж. Он ездил каждый день на реку и был так физически измучен, что с трудом поднимался к себе в мастерскую. Сыну он писал: «Мои поиски меня очень увлекают. Может быть, я мог бы сделать из Бернара своего убежденного последователя. Несомненно, надо научиться самому чувствовать и научиться выражать ясно свои чувства. Но я снова твержу все одно и то же. Мой образ жизни позволяет мне не соприкасаться с низкими сферами». Уже после подписи он добавил: «Бодлер — вот это молодец! Его «Романтическое искусство» потрясающе, он никогда не ошибается в оценках художников».
Двадцать первого сентября Сезанн написал Бернару, вновь подчеркнув свою приверженность природе и поговорив также о жаре и головных болях, столь сильных, что одно время он боялся за свой рассудок. «Достигну ли я цели, к которой так упорно и так давно стремлюсь? Я надеюсь, что да, но пока она не достигнута, я все время ощущаю смутное беспокойство, оно исчезнет только тогда, когда я достигну гавани, то есть добьюсь большего совершенства, чем раньше, и этим докажу правоту своих теорий. Теории не трудная штука, а вот доказать на деле их не так-то просто».
К Бернару Сезанн относился как к наиболее мыслящему из молодых художников, он страстно желал направить его на свой путь — мышления, видения живописи. «Я по-прежнему работаю на природе, и мне кажется, что я хоть очень медленно, но продвигаюсь вперед. Хорошо, если бы Вы были рядом со мной, потому что одиночество мне всегда немного тягостно. Я стар, болен, но я поклялся умереть за работой, чтобы не впасть в слабоумие, угрожающее старикам, если они подчиняются страстям, притупляющим ощущения». Письмо он подписал так: «От старого упрямца, который сердечно жмет Вашу руку».
Вместе с тем в письме к сыну через несколько дней Поль писал, что Бернар — это «умник, пропитанный воспоминаниями о музеях, который не умеет смотреть на природу, а самое главное — освободиться от школы, от всех школ». Значит, Писсарро не ошибался, продолжает Сезанн, «он только немного далеко зашел, когда говорил, что нужно сжечь все некрополи искусства».
В эти дни Сезанн читал суждения Бодлера о Делакруа. В очередном письме к сыну он разразился яростной речью против мерзкого окружающего мира. «Что касается меня, я должен оставаться один. Люди так хитры, что мне с ними не справиться, кругом воровство, зазнайство, самодовольство, насилие, желание присвоить чужую работу. Но природа прекрасна. Я по-прежнему пишу Валье, но я так медлителен в реализации, что это меня огорчает. Только ты можешь меня утешить в моем печальном положении. Я надеюсь поэтому на тебя».
В эти последние дни, чувствуя, что силы убывают, Сезанн довольно жалко обратился к своему скучному и холодному сыну. Он писал ему еще 8, 13 и 15 октября. Письмо от 15-го оказалось последним. «…Я продолжаю работать с трудом, но все же что-то выходит. Это самое важное, по-моему. Основой моей работы являются ощущения, поэтому, я думаю, мне трудно подражать. Пускай тот несчастный, ты знаешь, о ком я говорю, подражает мне сколько угодно, это не опасно». Он просил у сына заказать две дюжины кисточек, тех же, что и в прошлом году, и извещал его о получении какао. «Все проходит с ужасающей быстротой. Я чувствую себя неплохо». Но сразу вслед за этим Сезанн пишет: «Мой дорогой Поль, ты хочешь, чтобы я тебе сообщил хорошие новости, для этого надо было бы мне быть на 20 лет моложе. Я повторяю, я хорошо ем, и мне было бы полезно немного морального удовлетворения, но это может мне дать только работа. Все мои сограждане дерьмо по сравнению со мной. <… > Я обнимаю тебя и маму. Твой старый отец Поль Сезанн». Но кончить письмо сразу Сезанн не может. Он добавляет постскриптум: «По-моему, молодые художники гораздо разумнее старых, которые видят во мне только опасного соперника». Но и на этом Сезанн не может остановиться и добавляет второй постскриптум: «Я скажу тебе еще раз, Эмиль Бернар кажется мне весьма достойным сожаления, раз он должен отвечать за других, находящихся на его попечении».
Через пару дней Сезанн написал записку торговцу красками, спрашивая, почему не поступают десять тюбиков жженого лака, давно уже ожидаемые. К этому времени Сезанн чувствовал себя уже очень плохо. В тот день, когда он написал последнее письмо к сыну, он отправился на мотив пешком. Он отказался от своего возницы, не согласившись с незначительным повышением платы за проезд, и был вынужден тащить на себе тяжелое снаряжение. На этот раз у него был этюдник для акварели. Во время работы разразилась страшная гроза. Некоторое время он еще стоял за мольбертом, надеясь, что погода улучшится. Вымокнув и продрогнув, он наконец решил уйти. Однако напряжение, с которым ему пришлось пробираться сквозь грозу, будучи тяжело нагруженным да еще по холмистой пересеченной местности, оказалось выше его сил. Он упал на дороге и позже был обнаружен возницей с повозкой из прачечной, который узнал Сезанна и доставил, почти без сознания, на улицу Бульгон. Мадам Бремон послала за врачом и Мари. Началось воспаление легких, но только через пять дней Мари написала его сыну, и то лишь потому, что хотела, чтобы он помогал ей. В ее письме Ортанс как законная жена даже не упоминается. Мари писала:
«(20 октября). Мой дорогой Поль, твой отец болен с понедельника. Доктор Гийомен не думает, что его жизнь в опасности, но мадам Бремон не может сама ухаживать за ним. Тебе лучше приехать, и так скоро, как только сможешь. Временами он так слаб, что женщины не могут поднять его; с твоей помощью это можно было бы делать проще. Доктор предложил поискать сиделку-мужчину, твой отец не желает об этом и слышать. Я думаю, твое присутствие необходимо для того, чтобы за ним смотрели наилучшим образом.
В прошлый понедельник он провел несколько часов под дождем. Его привезли домой в повозке прачечника; наверх его затащили двое мужчин. На следующее утро он спозаранку выбрался в сад работать над портретом Валье под липами, домой он вернулся в состоянии изнеможения. Ты знаешь, что собой представляет твой отец, об этом можно рассказывать еще долго, повторяю, что я считаю твое присутствие необходимым <…>».
Письмо пришло 22 октября вслед за телеграммой от мадам Бремон, призывавшей Ортанс и Поля немедленно приехать. Сезанн быстро слабел. Однажды он принялся звать: «Понтье, Понтье» (имя директора музея Экса, который поклялся удалить из него картину Сезанна). Звал он и сына. Но Поль не успел приехать вовремя. Похоже, что Ортанс, которая собиралась на примерку к портнихе, засунула телеграмму в ящик стола.
В понедельник 22-го Мари вышла на минутку из комнаты. Мадам Бремон, оставшись одна с больным, вдруг поняла, что больше не слышит его дыхания. Она подошла к постели и увидела, что Сезанн мертв. Перед этим он успел получить последнее причастие. Погребение состоялось 24-го. На извещении о похоронах днем смерти было объявлено 23-е, но это была уловка, чтобы можно было отложить погребение на день. Ортанс с сыном, таким образом, могли приехать в Экс и присутствовать на церемонии на старом кладбище.
Виктор Лейде сказал у могилы краткую речь.
Иллюстрации

Натюрморт с черными часами.
1868–1870

Портрет Луи Гильома.
1879–1882

Поворот дороги.
1879–1882

Автопортрет.
Ок. 1880

Окрестности Гарданна.
1885–1886

Пьеро и Арлекин.
1888

Натюрморт с бутылкой из-под мятного ликера.
1890–1894

Большая сосна.
1892–1896

Натюрморт с апельсинами и яблоками.
1895–1900

Курильщик.
1896–1900

«Дом повешенного» в Овере.
1872–1873

Гора Сент-Виктуар с большой сосной. Долина реки Арк.
Ок. 1885–1887

«Дом повешенного» в Овере.
1872–1873

Акведук.
1885–1887

Дядя Доминик.
1865–1867

Большие купальщицы.
1898–1905
Сезанн был тот правдолюбец, тот натуралист, который отталкивался от конкретного зрения, но составлял образ по-своему, и этот путь будет повторять каждый художник.
А. М. Эфрос
Творчество Сезанна осталось не затронутым стилем, господствующим на рубеже веков, оно утверждало вечность и незыблемость законов живописи, внутреннее достоинство человека, живущего в мире со всей природой.
К. Г. Богемская
Я считаю, что в живописи мы логически раскрываем то, что мы видим и чувствуем в природе, а потом уже мы должны позаботиться о приемах передачи. Приемы для нас — только средства дать публике почувствовать то, что чувствовали мы сами, и заставить ее признать нас. Великие мастера, которыми мы восхищаемся, так и делали.
П. Сезанн
из последних писем Эмилю Бернару
В гораздо большей степени, чем его последователи, Сезанн (…) стоит на переломе европейского искусства, ностальгически оглядываясь на старую традицию и предсказывая новую.
Т. Рефф
Перевод: Л. Москвина
Об авторе

Джек Линдсей (англ. Jack Lindsay; 20 октября 1900 — 8 марта 1990) — писатель, поэт, литературовед, искусствовед, историк родом из Австралии, проживавший с 1926 года в Великобритании.
За годы своей жизни Линдсей написал/опубликовал свыше 170 книг, жанр и содержание которых отличались большим разнообразием: от классических поэм до романов, основные события которых разворачиваются в Древнем Риме, от военных историй, политических теорий и метафизической поэзии до научно-популярных книг по археологии и романов XVIII века.
Среди книг, переведённых на русский язык, можно выделить исторические романы «Ганнибал» (1941), «Люди сорок восьмого года» (1948, русский перевод 1959), эпопею «Британский путь», которая включает в себя такие романы, как «Весна, которую предали» (1953, русский перевод 1955), «Твой дом» (1957, русский перевод 1961), «Маски и лица» (1963, русский перевод 1965) и др.
В 1950-1960-х годах Линдсей занимался преимущественно написанием литературоведческих и автобиографических работ («После тридцатых годов», 1956; исследования творчества Диккенса, Баньяна; «Жизнь редко говорит», 1958; «Бурные 20-е годы», 1960; «Фанфролико и после», 1962). В более позднем творчестве, начиная с 1970-х годов, Линдсей писал исключительно в жанре художественно-критического эссе-исследования (эти работы преимущественно посвящены художникам, например, Сезанну, Гейнсборо, Тёрнеру).
Примечания
1
…история событий 196–195 годов до нашей эры. — Речь идет о политическом положении, сложившемся в результате II Пунической войны, когда могущество Кар-Хадашта (Карфагена) было навсегда сломлено, а сам Ганнибал, против демократическо-патриотической деятельности которого внутренняя реакция объединилась с иноземными врагами (Римом и Нумидией), был вынужден бежать на Восток и искать там союзников для новой борьбы.
(обратно)
2
Трактат Магона — Этот Магон, о личности, деятельности и жизни которого нет никаких достоверных сведений, отождествляется иногда с великим путешественником и государственным деятелем Магоном. Написанное им на пуническом языке сочинение о сельском хозяйстве (в двадцати восьми «книгах», то есть частях) ценилось исключительно высоко и за пределами Карфагена и после разрушения этого города римлянами было по специальному указанию римского сената переведено на латинский язык, а впоследствии историк Дион Кассий перевел его и на греческий язык. По свидетельству известного комментатора Сервия, сам Вергилий, работая над своими «Земледельческими поэмами» («Георгинами»), пользовался трудом Магона.
(обратно)
3
…до того, как плуг прошелся по их городу. — Уже с древнейших времен проводимая плугом борозда имела у римлян значение как бы политического символа: плугом отмечались границы и межи, плугом обводились пределы будущего поселения, но плугом также распахивали и место, где прежде стояли стены завоеванного и разоруженного неприятельского города. Поэтому выражение «пройтись по стенам неприятельским плугом» (Гораций, Оды 1, 16, 19) означало «сровнять завоеванный город с землей».
(обратно)
4
Пуническое вероломство. — Об этом упоминают Саллюстий («Югуртинская война», 108) и Тит Ливий (21, 4), но иначе смотрит на это Полибий (9, 22, 7 и далее).
(обратно)
5
…жертвы искупления во время Таргелий. — Таргелии — празднества в честь Аполлона, справлявшиеся в Афинах (а затем и в многочисленных ионийских колониях) в шестой и седьмой дни месяца таргелиона (мая — июня). Это был преимущественно праздник «очищения» и «искупления», и его обряды долго были связаны с человеческими жертвоприношениями. Ясные указания на этот обычай сохранились и в ряде других преданий (жертвоприношение Ифигении, периодическая отправка юношей и девушек на остров Крит в жертву Минотавру и прочее).
(обратно)
6
Гадир, ныне Кадис (на финикийско-пуническом языке — «укрепление»), — основанный финикиянами на южном побережье Испании город. После I Пунической войны перешел к Карфагену, после II — к римлянам. Важный торговый центр античного мира.
(обратно)
7
…чтобы попытаться склонить карфагенян к войне… — цитата из Корнелия Непота, «Ганнибал», 8.
(обратно)
8
Мелькарт («владыка города») — верховный бог финикийского Тира, аналогичный сидонскому Эсмуну или Эшмуну и близкий к египетскому Осирису. Исторически он является одной из форм общесемитического Баала («Господа»), но преимущественно как бог-хранитель города, государства и гражданских установлений. Его культ целиком перешел и в Карфаген. В греко-римские религиозные представления он проник под мало измененным именем Меликерта, но чаще всего его отождествляли с Гераклом.
(обратно)
9
Мой сын погиб при Заме… — Зама — укрепленный город в Нумидии, к юго-западу от Карфагена. Вблизи этого города осенью 202 года до нашей эры римские войска Корнелия Сципиона Младшего нанесли решительное поражение Ганнибалу, что и положило конец II Пунической войне.
(обратно)
10
Танит пнэ Баал («Танит с ликом Баала») — верховная богиня в древнем Карфагене, одна из форм общесемитической Ашторет (Астарты) или Афторет (ср. греч. Афродита), начало животворных сил природы, плодородия и любви. Так как на Востоке луне приписывалось благотворное воздействие на природу (в частности, ниспослание ночной росы), то Танит слыла и богиней луны и часто изображалась с лунным диском или серпом. Этимологически с ее именем связывают ряд географических названий, в том числе название древнего Тунета и нынешнего Туниса.
(обратно)
11
Ваал-Хаммон (точнее, Баал-Хаммон), то есть «солнечный владыка», «бог-солнце», — главное мужское божество семитического древнего Востока.
(обратно)
12
…учение Эвгемера. — Эвгемер — греческий мыслитель IV–III веков до нашей эры, утверждал, что боги — не что иное, как исторически существовавшие люди, выдающиеся деяния которых настолько запечатлелись в народной памяти и настолько поразили народную фантазию, что с течением времени приобрели преувеличенные размеры и формы, а их творцы стали наделяться сверхчеловеческими чертами, то есть «обожествляться». Эвгемеризм явился, таким образом, одной из разновидностей античного атеизма.
(обратно)
13
Котон (или Кофон) — островок у военного (северного) порта Карфагена, на котором находилось военно-морское ведомство (адмиралтейство).
(обратно)
14
Магара (или Магалии) — северное предместье Карфагена с множеством загородных усадеб, дворцов и храмов. К северу от него находилось обширное кладбище, о котором идет речь в тексте.
(обратно)
15
Сильфий — растение из семейства зонтичных; из него добывалось смолистое вещество, применявшееся как пряность и как лекарство.
(обратно)
16
Гимера — греческий город на северном побережье Сицилии, за обладание которым долго боролись Рим, Греция и Карфаген.
(обратно)
17
Шекель — собственно, мера веса (около 8—12 граммов); здесь — мелкая монета.
(обратно)
18
Галатка — то есть уроженка Галатии, страны в Малой Азии.
(обратно)
19
…поднимающихся с Площади к Бирсе… — Бирса (греческая транскрипция финикийского слова «Бирца» или «Босра» — «укрепление», «крепость») — древний карфагенский кремль, на высшей точке которого был сооружен храм бога-целителя Эшмуна. Центральная Площадь столицы, которая служила средоточием торговой и общественной жизни города (ср. греч. «агора» и римский «форум»), находилась ближе к побережью (и к северу от военного порта), Бирса же — к западу от нее в глубь полуострова.
(обратно)
20
Тунет — сильно укрепленный город в глубине Карфагенского залива, к юго-западу от Карфагена (приблизительно на месте нынешнего города Тунис).
(обратно)
21
Гатор — древнеегипетская богиня, иногда отождествлявшаяся с Исидой. Ей была посвящена корова, а потому она сама обычно изображалась с солнечным диском на голове между коровьими рогами или даже с головой коровы.
(обратно)
22
Скарабей — навозный жук. Изображения скарабея изготовлялись с надписями, рассказывающими о знаменательных событиях. Скарабеи считались символом живительных сил солнца и употреблялись как талисманы.
(обратно)
23
Эспарто или альфа (лат. spartum) — тростниковое растение, употреблявшееся для выработки плетеных изделий.
(обратно)
24
Раб (в обращении — рабби) — господин, милостивый государь (в арамейском и родственных с ним языках).
(обратно)
25
…в винных парах дионисии. — Дионисии — празднества в честь бога виноградарства, виноделия и вина Диониса-Вакха, справлявшиеся в греческих государствах четыре раза в году и сопровождавшиеся обильными попойками.
(обратно)
26
Филет — александрийский поэт IV–III веков до нашей эры, родом с острова Коса; автор высоко ценившихся любовных элегий.
(обратно)
27
…праведного мужа, которого собираются распять, как говорит Платон. — Намек на диалог Платона «Горгий»,473, а-d.
(обратно)
28
Мим — древнегреческая комедия на темы из народного быта.
(обратно)
29
…мечущихся Ареса и Афродиту. — Намек на захваченных врасплох Гефестом Ареса и Афродиту (см. Гомер, Одиссея, VIII, 266–343).
(обратно)
30
Нараггара — один из важнейших городов Нумидии, недалеко от Замы (здесь перед сражением при Заме состоялось свидание между Ганнибалом и Сципионом).
(обратно)
31
Трирема (лат.) — судно с тремя рядами весел.
(обратно)
32
…философа из Тарса. — Тарс — главный город Киликии(Малая Азия); как родина и место деятельности многих философов стоической, эпикурейской и других школ, слыл тогда одним из главных центров философии вообще.
(обратно)
33
Магониды — один из влиятельнейших родов карфагенской знати, самый знаменитый представитель которого, Магон (VI век до нашей эры), часто отождествляемый с автором сочинения о сельском хозяйстве, считается основателем военного могущества своей страны, инициатором ее активной внешней политики и в то же время первым организатором демократических сил.
(обратно)
34
…республику по образцу платоновской. — Намек на политическую программу Платона, изложенную им в диалоге «Государство», 368 и след. В идеальном государстве Платона, весьма напоминающем сословно-кастовый строй древней Индии, общество должно состоять из трех численно весьма неравных и строго разобщенных между собою слоев: правителей-философов, воинов — «стражей безопасности» и людей физического труда (земледельцев и ремесленников).
(обратно)
35
…вифинский раб. — Вифиния — область на черноморском побережье Малой Азии.
(обратно)
36
Боспор Киммерийский — пролив (ныне Керченский), но также и город на его западном берегу (другое название — Пантикапей), находившийся приблизительно на месте нынешней Керчи.
(обратно)
37
Великая Мать — обычный эпитет фригийской богини Кибелы, оргиастический культ которой распространился из Малой Азии в Грецию и другие страны древнего мира.
(обратно)
38
Мистерии — доступные только посвященным тайные празднества. Состояли из драматических представлений, воспроизводящих мифы, связанные с тем или иным божеством, и сопровождались пением гимнов, ритуальными плясками и музыкой.
(обратно)
39
Элевсинские мистерии — «великие» в честь богини Деметры и «малые» в честь ее дочери Персефоны — ежегодно справлялись в городе Элевсине (близ Афин).
(обратно)
40
Эдоны — племя в древней Фракии; здесь — название одной из не дошедших до нас трагедий Эсхила.
(обратно)
41
Вакхилид — древнегреческий лирический поэт (V век до нашей эры).
(обратно)
42
Леда — жена легендарного царя Спарты Тиндарея и мать Елены, родившая Елену от Зевса, явившегося ей в образе лебедя.
(обратно)
43
Даная — дочь легендарного аргосского царя Акрисия, родившая героя Персея от Зевса, который посетил ее в виде золотого дождя.
(обратно)
44
Фукидид (V век до нашей эры) — величайший историк Греции и всего древнего мира, автор «Истории Пелопоннесской войны».
(обратно)
45
Фарос — маяк (греч.). От этого слова происходит название острова в Средиземном море.
(обратно)
46
…самнитским мечом. — Самниты — ветвь сабинян, одно из самых воинственных племен Средней Италии, дольше всех сопротивлявшееся римскому завоеванию.
(обратно)
47
Кастуло — город в Испании на берегу реки Бэтис (ныне Гвадалкивир), важный центр в эпоху римского владычества. Ганнибал был женат на уроженке этого города.
(обратно)
48
Бог умер… Бог воскрес! — Ритуальные восклицания, связанные с распространенным почти на всем Древнем Востоке культом периодически умирающего и вновь воскресающего бога (Осириса, Таммуза, Аттиса, Мелькарта, Адониса, Эшмуна и т. д.) как символа цикличности явлений природы и прежде всего смены времен года.
(обратно)
49
Кора (греч. «дева») — обычный эпитет дочери Деметры, Персефоны, похищенной богом подземного царства Гадесом (Плутоном) и ставшей его женой.
(обратно)
50
Эолийский лад — один из пяти основных ладов (звукорядов) в древнегреческой музыке.
(обратно)
51
Пеннорожденная («Афрогения») — один из эпитетов Афродиты, которая, согласно легенде (навеянной, несомненно, созвучием со словом «афрос» — пена), родилась из морской пены.
(обратно)
52
Сатировская драма — особый (наряду с трагедией и комедией) вид аттической драмы, в которой, кроме богов и героев, участвовали и сатиры. Подобно комедии, она была представлением веселым и жизнерадостным, но в отличие от нее не имела назидательного характера.
(обратно)
53
…голая, с побеленными ногами… — Рабы выводились на продажу обнаженные и с выбеленными мелом ногами или ступнями.
(обратно)
54
Привет тебе, госпожа! (греч.)
(обратно)
55
Ганимед — красивый юноша, которого Зевс сделал своим виночерпием и любимцем.
(обратно)
56
…Аписом, распятым на Древе проклятия… — В древнеегипетской религии праздновалось «Воздвижение столба бога Осириса». Этот столб с набитыми, на него перекладинами изображал дерево. Жрецы поднимали его на веревках и устанавливали вертикально, изображая воскрешение растительности.
(обратно)
57
…о зеленых лужайках Митилены. — Митилена — главный город острова Лесбоса, родина поэтессы Сапфо.
(обратно)
58
Менандр (342–291 годы до нашей эры) — крупнейший представитель новоаттической комедии, автор более ста комедий, от которых до нас дошли лишь немногочисленные фрагменты.
(обратно)
59
…грек из Олинфа… — Олинф — город на полуострове Халкидика, достигший особенного процветания во время Пелопоннесской войны, но впоследствии после отчаянного сопротивления завоеванный и разрушенный Филиппом Македонским (347 год до нашей эры).
(обратно)
60
Большой Сирт — залив у западного побережья Киренаяки.
(обратно)
61
Алкей (VII–VI века до нашей эры) — уроженец Митилены (на острове Лесбос), один из величайших лириков древней Греции.
(обратно)
62
Архилох (VIII–VII века до нашей эры) — один из самых ранних греческих лириков, создатель ямбического стиха.
(обратно)
63
Аристофан (ок.452–388 годов до нашей эры) — величайший представитель аттической комедии.
(обратно)
64
Орфики — в Древней Греции последователи религиозно-мистического учения, основателем которого, по преданию, был Орфей. Они считали, что тело — злое начало, «темница души», а душа — доброе начало, частица божества. После смерти человека душа, продолжающая существовать, должна претерпеть ряд изменений и перевоплощений, чтобы очиститься от осквернения телом. Учение орфиков о бессмертии души через Платона проникло в христианство.
(обратно)
65
Архонт (греч.) — глава, начальник. В гностической философии (которая здесь вкратце излагается) — «первый владыка и глава мира».
(обратно)
66
«Менон» — диалог Платона о добродетели.
(обратно)
67
Прекрасный отрок (греч.)
(обратно)
68
Птолемей — речь идет о Птолемее Сотере (царствовал с 323 по 285 год до нашей эры), при котором Египет достиг высокой степени процветания, а город Александрия стал самым крупным торговым центром античного мира.
(обратно)
69
Атталиды — потомки и преемники Аттала, царя Пергама (царство Пергам, в Малой Азии, было в 130 году до нашей эры присоединено к владениям Рима).
(обратно)
70
…сириец с большим хеттским носом… — Хетты — племя, создавшее в Малой Азии могущественное государство, просуществовавшее приблизительно с XVIII до XII века до нашей эры.
(обратно)
71
Свинопас Деметры — иронически о жрецах Деметры: ей, богине плодородия, приносились в жертву преимущественно свиньи, как символ плодовитости.
(обратно)
72
Левктры — город в Беотии, к юго-западу от Фив (места победы фиванских войск Эпаминонда над спартанцами в 371 году до нашей эры).
(обратно)
73
Логос — слово, также мысль, разум (греч.). В древнегреческой философии — мировой творческий разум, первоисточник и движущее первоначало всех вещей.
(обратно)
74
Молох (правильнее Мелех или Мелек) — обшесемитическое слово со значением «царь», а также название верховного бога производительных сил природы, солнца и огня у финикиян и других народов Древнего Востока.
(обратно)
75
Ликофрон — александрийский (родом с острова Эвбея) грамматик и поэт II века до нашей эры, из многочисленных сочинений которого до нас дошла лишь поэма «Александра». В ней излагаются пророчества Александры (второе имя Кассандры, дочери троянского царя Приама) о судьбе Трои и последующих событиях вплоть до эпохи Александра Македонского.
(обратно)
76
Святым именем девяти поэтов-лириков… — иронически, вместо «девяти муз».
(обратно)
77
Агис (или Агид) — речь идет об Агисе IV (по другим источникам — Агисе III), царе Спарты (приблизительно с 245 по 241 год до нашей эры), который пытался подавить господство землевладельческой аристократии, улучшить положение неимущих слоев населения и наделить правами гражданства полубесправных ремесленников и торговцев, но погиб в неравной борьбе с контрреволюционными силами.
(обратно)
78
Клеомен — имеется в виду Клеомен III, царь Спарты (приблизительно с 236 по 222 год до нашей эры), стремившийся возобновить и продолжить реформаторскую программу Агиса IV, но потерпевший поражение и погибший в борьбе с соединенными силами Ахейского союза и Антигопа Македонского.
(обратно)
79
…где богиней был черный камень между двумя рогами освящения. — Древнеегипетская богиня Исида изображалась в виде женщины с рогами или даже с головой телицы. Исида с младенцем Гором на руках явилась одним из прообразов христианской богородицы.
(обратно)
80
Хуллу — город на северо-западном побережье Нумидии.
(обратно)
81
…часовенок для инкубации… — Инкубация (у древних греков и римлян) — обычай оставлять больных в храме в ожидании чудесного исцеления болезней.
(обратно)
82
Римское произношение слова «шофет».
(обратно)
83
Остия — портовый город в устье Тибра, служивший портом Риму.
(обратно)
84
Лилибей — город на западном побережье Сицилии.
(обратно)
85
Самниум (Самний) — горная область, занимавшая среднюю часть древней Италии, населенная племенами самнитов. Эти племена окончательно подпали под власть римлян в начале III века до н. э. Уже в I веке до н. э., незадолго до описываемых событий, самниты после восстания почти полностью были истреблены войсками римлян.
(обратно)
86
Гадес — приморский торговый город в древней Испании (ныне Кадис). В III веке до н. э. Гадесом овладели римляне, которые вывозили оттуда рабов и сельскохозяйственные продукты.
(обратно)
87
Брундизий (современный Бриндизи) — торговый порт на Адриатическом море. Основанием этого порта римляне уничтожили значение греческой колонии Тарента (современ. Таранто) как центра торговых связей Италии с Востоком.
(обратно)
88
Fugitivus — беглый (лат.).
(обратно)
89
Аппиева дорога — военная дорога от Рима до Капуи, построенная в 312 году до н. э. Аппием Клавдием.
(обратно)
90
Ликторы — почетная стража должностного лица в Риме, всегда его сопровождавшая. Знаками ликторов были фасции — связки прутьев с вложенным в середину топором.
(обратно)
91
Центурион — в римском войске командир центурии (сотни).
(обратно)
92
Виноградная лоза — эмблема власти в руках центуриона и вместе с тем орудие телесного наказания провинившихся солдат.
(обратно)
93
Каперство — действие вооруженных частновладельческих судов воюющих государств, нападавших на неприятельские и нейтральные торговые суда; по существу это морской разбой, но формально узаконенный в те времена.
(обратно)
94
Абордаж — способ ведения решительного боя на море в эпоху гребного и парусного флотов, состоявший в том, что корабли сцеплялись бортами, после чего исход боя решался рукопашной схваткой.
(обратно)
95
Ют — надстройка на корме, самая верхняя задняя палуба.
(обратно)
96
Мавры — в данном случае жители Мавритании, древнего государства в Северной Африке, находившегося во II–I веках до н. э. на стадии разложения родового строя. Мавритания рано подверглась римскому влиянию и колонизации. Однако, вследствие начавшегося в стране восстания, покорение ее римлянами было завершено лишь в 45 году н. э.
(обратно)
97
Геркулесовы столпы — древнее название Гибралтарского пролива.
(обратно)
98
Арморика — приморская часть Западной Галлии; раннее название Бретани.
(обратно)
99
Массилия — нынешний Марсель на юге Франции.
(обратно)
100
…в третьем часу утра — то есть через три часа после восхода солнца, так как римляне считали день от восхода до захода солнца.
(обратно)
101
Гора Великанов — теперь гора св. Михаила в Корнуэльсе.
(обратно)
102
Острова Силли — расположены у полуострова Корнуэльса, геологически это продолжение полуострова.
(обратно)
103
Перевод Е. Бируковой.
(обратно)
104
Перевод Е. Бируковой.
(обратно)
105
Перевод Ф. Петровского.
(обратно)
106
Перевод Ф. Петровского.
(обратно)
107
Перевод Е. Бируковой.
(обратно)
108
Перевод Ф. Петровского.
(обратно)
109
Перевод Ф. Петровского.
(обратно)
110
Перевод Е. Бируковой.
(обратно)
111
Перевод Е. Бируковой.
(обратно)
112
Перевод Е. Бируковой.
(обратно)
113
Клиенты (лат. букв. «послушный») — своеобразная категория людей в древнем Риме, свободнорожденных и вольноотпущенников. Образовывали свиту знатных патрициев и взамен пользовались материальной помощью либо покровительством последних.
(обратно)
114
Лукан, «Фарсалия», перевод Ф. Петровского.
(обратно)
115
Лукан, «Фарсалия», перевод Ф. Петровского.
(обратно)
116
Персий, «Сатиры», перевод Ф. Петровского.
(обратно)
117
Лукан, «Фарсалия», перевод Е. Бируковой.
(обратно)
118
Лукан, «Фарсалия», перевод Ф. Петровскою.
(обратно)
119
Лукан, «Фарсалия», перевод Ф. Петровского.
(обратно)
120
Марциал, «Эпиграммы», перевод Е. Бируковой.
(обратно)
121
Лукан, «Фарсалия», перевод Е. Бируковой.
(обратно)
122
Лукан, «Фарсалия», перевод Ф. Петровского.
(обратно)
123
Перевод Е. Бируковой.
(обратно)
124
Стола (греч.) — длинное и просторное женское платье; костюм флейтистов.
(обратно)
125
Перевод Е. Бируковой.
(обратно)
126
Эпиллий (греч.) — маленькая поэма (как жанр).
(обратно)
127
Перевод Е. Бируковой.
(обратно)
128
Перевод Е. Бируковой.
(обратно)
129
Квинкватры (лат.) — празднества в честь богини Минервы.
(обратно)
130
Персий, «Сатиры», перевод Ф. Петровского.
(обратно)
131
Перевод Н. Гнедича.
(обратно)
132
Перевод Е. Бируковой.
(обратно)
133
Овидий, «Фасты», перевод Е. Бируковой.
(обратно)
134
Либералии (лат.) — празднества в честь Вакха (Либера) и Цереры.
(обратно)
135
Лукан, «Фарсалия», перевод Е. Бируковой.
(обратно)
136
Лукан, «Фарсалия», перевод Ф. Петровского.
(обратно)
137
Макарей и Канака — мифологические персонажи, сын и дочь Эола.
(обратно)
138
Из трагедии о Макарее и Канаке, перевод Е. Бируковой.
(обратно)
139
Из трагедии о Макарее и Канаке, перевод Е. Бируковой.
(обратно)
140
Гесиод (VIII–VII вв. до н. э.) — древнегреческий поэт, автор двух поэм: «Теогония» (о происхождении богов) и «Труды и дни» (о сельском хозяйстве и сельской жизни).
(обратно)
141
Скадзон (греч.) — ямбический стих со спондеем или хореем в последней стопе (иногда называется холиамбом).
(обратно)
142
Перевод Е. Бируковой.
(обратно)
143
Ретиарий (лат.) — гладиатор, вооружение которого состояло из трезубца и сети.
(обратно)
144
Перевод Е. Бируковой.
(обратно)
145
Беллона (лат.) — богиня войны у римлян, сестра (вариант: кормилица) Марса.
(обратно)
146
Перевод Е. Бируковой.
(обратно)
147
Перевод Е. Бируковой.
(обратно)
148
Перевод Е. Бируковой.
(обратно)
149
Перевод Е. Бируковой.
(обратно)
150
Перевод Е. Бируковой.
(обратно)
151
Пастофоры (греч.) — жрецы, совершавшие обряд обхода храма и несшие изображение божества.
(обратно)
152
Перевод Е. Бируковой.
(обратно)
153
Перевод Е. Бируковой.
(обратно)
154
Перевод Ф. Петровского.
(обратно)
155
Перевод Ф. Петровского.
(обратно)
156
Перевод Е. Бируковой.
(обратно)
157
Перевод Е. Бируковой.
(обратно)
158
Перевод Е. Бируковой.
(обратно)
159
Перевод Е. Бируковой.
(обратно)
160
Перевод Е. Бируковой.
(обратно)
161
…переезд стоит шестнадцать сольдо… — сольдо (ит.) — итальянская медная монета, чеканилась с конца XII в.
(обратно)
162
Миля (англ.) — единица длины, равна 1,609 км.
(обратно)
163
Essentia (лат.) — сущность.
(обратно)
164
Proprietas personnalis (лат.) — личные, частные свойства.
(обратно)
165
…выходя за пределы Аристотелевой логики… — Аристотель (384–322 до н. э.) — древнегреческий философ и учёный. Основоположник формальной логики. Философские течения и школы, находившиеся под влиянием учения Аристотеля, получили название аристотелизма. Схоластический аристотелизм господствовал в западноевропейских университетах вплоть до XVII–XVIII вв., начиная с эпохи Возрождения подвергался резкой критике.
(обратно)
166
Лира (ит.) — денежная единица Италии.
(обратно)
167
Францисканец — член первого нищенствующего ордена, основанного в Италии в 1207–1209 гг. Франциском Ассизским (1181 или 1182–1226). Наряду с доминиканцами францисканцы ведали Инквизицией.
(обратно)
168
Сегодня на борту только одна весталка… — Здесь слово «весталка» употребляется иронически. В Древнем Риме весталками назывались жрицы богини Весты, которые избирались из девочек знатных семей и должны были служить богине 30 лет, соблюдая обет безбрачия. Весталок, нарушивших обет, живыми закапывали в землю.
(обратно)
169
Фунт (лат.) — единица массы во многих странах, имеющая различный размер — от 317,62 до 560 г.
(обратно)
170
Стивер — мелкая датская монета.
(обратно)
171
«Velle mе tangere» (лат.) — «Можешь меня потрогать». Здесь Бруно пародирует Евангелие — слова воскресшего Христа: «Noli me tangere» («Не прикасайся ко мне»).
(обратно)
172
Тога (лат.) — в Древнем Риме мужская накидка из белой шерстяной ткани.
(обратно)
173
Амбра (фр.) — воскоподобное вещество, образующееся в пищевом тракте кашалота, употребляется в парфюмерии для придания стойкости запаху духов.
(обратно)
174
Сибилла, сивилла (греч.) — у древних греков и римлян прорицательница.
(обратно)
175
Силлогизм (греч.) — умозаключение, состоящее из двух суждений (посылок), из которых следует третье суждение (вывод).
(обратно)
176
Сорит (греч.) — цепь силлогизмов, в которой опущены некоторые посредствующие посылки.
Венера — в римской мифологии, богиня любви и красоты.
(обратно)
177
«Inductio ad feminam» (лат.) — «Сведение к женщине». Здесь пародируется термин формальной логики «Сведение к абсурду».
(обратно)
178
«Causa causans» (лат.) — причина причин.
(обратно)
179
«Амадис Гальский» — знаменитый в своё время рыцарский роман.
(обратно)
180
Гульден (нем., голл.) — здесь золотая (XIV–XVI вв.), затем серебряная (XVII–XIX вв.) монета и денежная единица Германии. Австро-Венгрии и некоторых соседних с ними стран, находившаяся в обращении до 1892 г.
(обратно)
181
Крона — в прошлом денежная единица Австро-Венгрии, а также старинная золотая монета, обращавшаяся во Франции, Англии и некоторых других странах.
(обратно)
182
…в вольном городе Данциге… — В средневековой Германии ряд городов считались вольными. Они являлись самостоятельными членами Германской империи и в пределах своего округа (как правило, небольшого) обладали местной верховной властью.
(обратно)
183
Ломбардия — область в Северной Италии. Административный центр — Милан.
(обратно)
184
Нереида — в древнегреческой мифологии, одна из морских нимф, дочерей Нерся — бога, олицетворяющего спокойное море.
(обратно)
185
«Femiпа reticulata» (лат.) — «Дырявая женщина».
(обратно)
186
Тридентский собор — вселенский собор Католической Церкви. Заседал в 1545–1547, 1551–1552, 1562–1563 гг. в г. Тренто, в 1547–1549 гг. в Болонье. Закрепил средневековые догматы католицизма, усилил гонения на еретиков. Решения собора стали программой Контрреформации.
(обратно)
187
Саксония — средневековое княжество в Средней Германии (с XV в. — курфюршество).
(обратно)
188
«Nihil humani…» (лат.) — «Ничто человеческое…»
(обратно)
189
Константин (ок. 272–337) — римский император в 306–337 гг. В 313 г. издал так называемый Миланский эдикт о свободном вероисповедании, положивший конец гонениям на христиан. В 325 г. на Никейском соборе христианских епископов были приняты основные догматы христианства, которое стало государственной религией.
(обратно)
190
Беллармин Роберт (1542–1621) — итальянский богослов-полемист, иезуит.
(обратно)
191
Валла Лоренцо (1405 или 1407–1457) — итальянский гуманист, знаменитый своими выступлениями против средневековой идеологической системы, особенно против злоупотреблений Католической Церкви. Самые известные произведения Лоренцо Ваалы: грамматический трактат «Эленгации», диалоги «О наслаждении» и трактат «О Константиновом даре», в котором доказывается подложность документа, которым император Константин даровал Церкви светскую власть.
(обратно)
192
«De voluptale» (лат.) — «О наслаждении».
(обратно)
193
«De professione religiosorum dialogus» (лат.) — «Диалог о монашеском звании».
(обратно)
194
Янычар (тур.) — воин турецкой регулярной пехоты, созданной в XIV в. Первоначально войско комплектовалось из пленных юношей, позже путём насильственного отбора мальчиков из христианского населения Османской империи.
(обратно)
195
Дамаск — с 1516 г. до конца Первой мировой войны входил в Османскую империю.
(обратно)
196
Арсенал (фр.) — предприятие для изготовления, ремонта и хранения оружия и боеприпасов.
(обратно)
197
Балюстрада (фр.) — ограждение балконов, лестниц и т. п., состоящее из ряда столбиков, соединённых сверху плитой, перилами, балкой.
(обратно)
198
Большой Канал — самый значительный из 157 каналов в Венеции, длина его 3 км, ширина 30–60 м. Через канал воздвигнут грандиозный мост Понте-Риальто.
(обратно)
199
Поножи — часть доспеха; металлические пластины, защищавшие голени воина.
(обратно)
200
Метафора (греч.) — оборот речи, заключающий скрытое уподобление, образное сближение слов на основе их переносного значения.
(обратно)
201
…вкусили молока Девы… — алхимический термин.
(обратно)
202
Стилет (ит.) — небольшой кинжал с тонким трёхгранным клинком.
(обратно)
203
Парацельс (Филипп Ауреол Тсофаст Бомбаст фон Гогенгейм, 1493–1541) — знаменитый врач, алхимик, естествоиспытатель. Подверг критическому пересмотру идеи древней медицины, способствовал внедрению химических препаратов в медицину.
(обратно)
204
Дож (ит.) — глава Венецианской (в конце VII–XVIII вв.) и Генуэзской (в XIV–XVIII вв.) республик.
(обратно)
205
Альберт Великий (Альберт фон Больштедт, ок. 1193–1280) — немецкий философ, теолог, алхимик. Представитель схоластики, доминиканец. Преподавал в Кёльне и Париже, написал трактаты о минералах, растениях, животных и т. п.
(обратно)
206
Атомистическая теория — материалистическо-философское учение, исходившее из постулата, что мир состоит из атомов и пустоты. Его главными представителями в античную эпоху были Левкипп, Демокрит, Эпикур, Лукреций.
(обратно)
207
«Odi et ато» (лат.) — «Люблю и ненавижу».
(обратно)
208
Схоластика (греч.) — тип религиозной философии, характеризующийся соединением теологических предпосылок и рационалистической методики, интересом к формально-логическим проблемам. Зрелая схоластика (XII–XIII вв.) представлена христианским аристотелизмом Альберта Великого и Фомы Аквинского.
(обратно)
209
Рамус, Раме Пьер де ла (1515–1572) — французский философ-гуманист, логик, математик, известен своей ненавистью к Аристотелю.
Постель Гийом (1510–1581) — французский учёный, мистик, неоднократно обвинялся в ереси.
(обратно)
210
Тассо Торквато (1544–1595) — знаменитый итальянский поэт Возрождения и барокко. Его героическая поэма «Освобождённый Иерусалим» (1580) была подвергнута суду Инквизиции.
(обратно)
211
Цикорий — род травянистых растений, возделываемый ради корней (добавка к натуральному кофе, отвар используют как лекарственное средство).
(обратно)
212
Феррара — город в Северной Италии.
(обратно)
213
Кориандр — род однолетних трав, молодые стебли (кинза) и семена которого используются как приправа.
(обратно)
214
Дягиль — род травянистых растений. Используется в кондитерском и ликёро-водочном производствах.
(обратно)
215
Гварини Баттиста (1538–1612) — итальянский поэт, теоретик литературы и искусства. В своих мадригалах, трагикомических пасторалях утверждал принципы развлекательной литературы. Автор пасторальной драмы «Верный пастух».
(обратно)
216
Нимфа — в греческой мифологии, женское божество природы, живущее в горах, лесах, морях, источниках.
(обратно)
217
Интермеццо (лат.) — небольшое музыкальное произведение свободной формы; также самостоятельный оркестровый эпизод в опере.
(обратно)
218
Палестрина, Джованни Пьерлуиджи да (ок. 1525–1594) — итальянский композитор, глава римской полифонической школы.
(обратно)
219
Лукреций, Тит Лукреций Кар — римский поэт и философ-материалист I в. до н. э. Популяризатор учения Эпикура. Его дидактическая поэма «О природе вещей» — единственное полностью сохранившееся систематическое изложение материалистической философии древности.
(обратно)
220
Золотой век — в представлениях многих древних народов — самая ранняя пора человеческого существования, когда люди оставались вечно юными, не знали горя и забот, были подобны богам; смерть приходила как сладкий сон. Описан в ряде произведений, например в «Метаморфозах» Овидия.
(обратно)
221
Канцонетта (ит.) — небольшая канцона, в средневековой поэзии стихотворное послание размером до семи строф со сквозной рифмой.
(обратно)
222
Платон (ок. 427–347 до н. э.) — греческий философ (настоящее имя Аристокл). Его учение — первая классическая форма объективного идеализма (идеи — вечные прообразы вещей, вещи — подобие и отражение идей).
(обратно)
223
Плотин (ок. 205 — ок. 269) — греческий философ-идеалист, основатель неоплатонизма. Свёл идеалистические учения древнегреческих философов в стройную систему и переработал их в духе мистицизма. Его учение имело большое значение для развития античной диалектики.
(обратно)
224
Трансцендентность (лат.) — недоступность познанию.
Имманентность (лат.) — внутреннее свойство какого-либо предмета, явления, проистекающее из его природы.
(обратно)
225
Епитимья (греч.) — церковное наказание (поклоны, пост, длительные молитвы и т. п.).
(обратно)
226
«De pulchro et amore libri» (лат.) — «Книги о красоте и любви».
(обратно)
227
Дуэнья (исп.) — в прошлом в Испании и некоторых других странах пожилая женщина, наблюдавшая за поведением девушки, молодой женщины-дворянки, всюду её сопровождавшая.
(обратно)
228
Нотр-Дам, собор Парижской Богоматери — архитектурный памятник ранней французской готики в Париже (XII–XIII вв.).
(обратно)
229
Дукат (ит.) — старинная серебряная, затем золотая монета, выпущенная впервые в Италии в 1140 г. и получившая распространение по всей Западной Европе.
(обратно)
230
Архангел Гавриил — в христианстве архангел, известивший Деву Марию о том, что у неё родится сын Иисус Христос.
(обратно)
231
Дворец дожей — выдающийся памятник итальянской готической архитектуры (XIV–XV вв.). В сочетании с собором и библиотекой Святого Марка (Сан Марко) образует главный архитектурный ансамбль города.
(обратно)
232
Фуггеры — банкирский дом, ссужавший в XV–XVI вв. деньгами не только мелких феодалов, но и королей, императоров.
(обратно)
233
Галлен Клавдий (129–199) — выдающийся врач античности, последователь медицинской школы Гиппократа. Занимался также толкованием произведений Платона, Аристотеля, Феофаста, Хрисиппа. Написал около 100 медицинских трактатов.
(обратно)
234
Мальва (просвирник) — род травянистых растений, некоторые виды используются как лекарственные.
(обратно)
235
Вавилон — греческое наименование семитского города на Евфрате.
(обратно)
236
…о войне в России… — Видимо, автор подразумевает смуту конца XVI в.
(обратно)
237
Киприда — в древнегреческой мифологии одно из имён Афродиты, богини любви и красоты.
(обратно)
238
Неоплатоники — представители неоплатонизма, идеалистического направления античной философии III–VI вв., систематизировавшее учение Платона в соединении с идеями Аристотеля и т. п.
(обратно)
239
Эпикурейцы — последователи эпикуреизма, учения, исходившего из идей древнегреческого философа Эпикура (341–270 до н. э.). Цель жизни — отсутствие страданий, здоровье тела и состояние безмятежности духа; познание природы освобождает от страха смерти, суеверий и религии вообще.
(обратно)
240
…исходя из… идеи телеологического творения и априорной трансцендентности… — то есть идея предопределённого, целесообразного творения и его независимости от опыта, недоступности познанию.
(обратно)
241
Архипоэт — псевдоним крупнейшего представителя латинской светской поэзии средневековья, жил и творил в середине XII в.
(обратно)
242
Картезианец — член католического монашеского ордена, получившего название по своему первому монастырю, основанному в 1084 г. во Франции в местечке Шартрез (лат. Cartusia).
(обратно)
243
…колесо Фортуны… — В римской религии Фортуна — богиня счастья, случая, удачи. Изображалась с рогом изобилия, иногда на шаре или колесе, также с повязкой на глазах.
(обратно)
244
Антисфен (ок. 450 — ок. 360 до н. э.) — древнегреческий философ, основатель школы киников. Ученик Сократа. Вёл аскетический образ жизни.
(обратно)
245
Зенон из Элеи (ок. 490–430 до н. э.) — древнегреческий философ. Аристотель считал его основателем диалектики как искусства постижения истины посредством спора. Известен своими парадоксами («Ахиллес», «Стрела» и др.), обосновывающими невозможность движения, множественности вещей и т. п.
(обратно)
246
…в два дюйма шириной… — дюйм (голл.) — единица длины, равна 1/12 фута, или 2,54 см.
(обратно)
247
Аретино Пьетро (1492–1556) — итальянский писатель и литературный авантюрист, отличавшийся значительным сатирическим талантом и язвительным остроумием. Сам называл себя «бичом государей».
(обратно)
248
…философы-эзотерики… — философы, занимающиеся вопросами, предназначенными исключительно для посвящённых (мистические учения, магические формулы).
(обратно)
249
Коперник Николай (1473–1543) — польский астроном, создатель гелиоцентрической системы мира. Своё учение изложил в сочинении «Об обращениях небесных сфер» (1543), запрещённом католической церковью с 1616 по 1828 гг.
(обратно)
250
Генрих IV (1553–1610) — французский король с 1589 г., фактически с 1594 г., первый из династии Бурбонов. Во время Религиозных войн являлся главой гугенотов; после его перехода в 1593 г. в католицизм был признан королём. Издал в 1598 г. Нантский эдикт, по которому гугеноты получили определённые политические права.
(обратно)
251
Кальвин Жан (1509–1564) — деятель Реформации, основатель кальвинизма. Став с 1541 г. фактически диктатором Женевы, превратил её в один из центров Реформации. Отличался религиозной нетерпимостью.
(обратно)
252
Генрих III (1551–1589) — французский король с 1574 г., из династии Валуа. Боролся с Генрихом Наваррским (впоследствии королём Генрихом IV) и с Гизами. Был убит монахом — приверженцем Гизов.
(обратно)
253
«Jordanus Brunus Nolanus de Umbris Idearum cum privilegio regus» (лат.) — «Джордано Бруно из Нолы. О тенях идей. С королевской привилегией».
(обратно)
254
Мнемоника (греч.) — совокупность приёмов, имеющих целью облегчить запоминание как можно большего числа сведений, фактов.
(обратно)
255
Елизавета Английская (1533–1603) — королева Елизавета I Тюдор, правившая с 1558 г. Дочь Генриха VIII и Анны Болейн.
(обратно)
256
Григорий XIII (1502–1585) — Римский Папа с 1572 г. Один из вдохновителей Контрреформации. Провёл реформу календаря (1582).
(обратно)
257
Фут (англ.) — единица длины, равная 12 дюймам, или 0,3048 м.
(обратно)
258
Амбразура (фр.) — здесь: оконный или дверной проем в стене.
(обратно)
259
Луини Бернардо (между 1475 и 1480 — после 1533) — итальянский живописец, самый значительный из последователей Леонардо да Винчи.
(обратно)
260
Мадригал (фр.) — короткое стихотворение пасторально-любовного, реже сатирического характера.
(обратно)
261
Николай Кузанский (Николай Кребс, 1401–1464) — немецкий философ, теолог, учёный, церковно-политический деятель. Кардинал (1448), ближайший советник Папы Пия II. В отдельных положениях своего учения предварил Коперника и Джордано Бруно, но остался верным сыном католической церкви.
(обратно)
262
«Natura naturans» (лат.) — «Природа природствующая», термин средневековой философии.
(обратно)
263
Фома Аквинат (Аквинский, 1225 или 1226–1274) — знаменитый католический богослов, систематизатор схоластического аристотелизма. Доминиканец. Автор «Суммы теологии» — основного сочинения в католическом богословии.
(обратно)
264
…nihil ex nihilo fit… (лат.) — Из ничего возникает только ничто.
(обратно)
265
Лютер Мартин (1483–1546) — деятель Реформации в Германии, начало которой положило его выступление (1517) в Виттенберге с 95 тезисами против индульгенций, отвергавшими основные догматы католицизма. Основатель лютеранства. Перевёл на немецкий язык Библию.
(обратно)
266
Эразм Роттердамский, Дезидерий (1469–1536) — известный гуманист эпохи Возрождения, филолог, писатель. Сыграл большую роль в подготовке Реформации, но не принял её. Враг религиозного фанатизма. Автор сатирической «Похвалы Глупости».
(обратно)
267
Браге Тихо (1546–1601) — гениальный датский астроном, реформатор практической астрономии, математик. Свыше 20 лет вёл определения положений светил на построенной им обсерватории «Ураниборг» (1576) с наивысшей для того времени точностью.
(обратно)
268
Беза Теодор (1519–1605) — деятель Реформации в Швейцарии и во Франции; после смерти Кальвина руководил делами кальвинистской церкви.
(обратно)
269
Vanitas (лат.) — тщеславие, суета.
(обратно)
270
Illustrissimo (лат.) — «Знаменитейший».
(обратно)
271
Стаккато (ит.) — в музыке: отрывистое исполнение музыкального звука или звуков.
(обратно)
272
Геркулес — один из наиболее популярных греческих мифологических героев, сын Зевса и Алкмены. Находясь на службе у микенского царя Эврисфея, Геракл совершил 12 знаменитых подвигов: задушил руками немейского льва, очистил Авгиевы конюшни и т. д.
Протей — греческое морское божество. Ему были свойственны мудрость и дар пророчества.
(обратно)
273
Метапсихоз — переселение душ, учение о котором существовало в некоторых восточных религиях, а в греческую философию и греко-христианскую мистику проникло через произведения Пифагора (VI в. до н. э.).
(обратно)
274
Пифагор (ок. 570–497 до н. э.) — греческий философ, учёный, педагог, политический деятель. Говорил о бессмертии души, о её воплощении после смерти и последующем возрождении на земле в животном, соответствующем характеру и поведению человека. С этим представлением связано учение Пифагора о теле как темнице души. Обожествлял числа. Пифагору приписывают формулировку ряда геометрических теорем.
(обратно)
275
Дунс Скот Иоанн (ок. 1266–1308) — философ, ведущий представитель францисканской схоластики, мистик. В противовес Фоме Аквинскому утверждал примат воли над интеллектом, единично-конкретного над абстрактно-всеобщим.
(обратно)
276
Сиена — город в Центральной Италии.
(обратно)
277
Минерва — в римской мифологии богиня, покровительница ремёсел и искусств, также почиталась как богиня войны и государственной мудрости.
(обратно)
278
Кардано Джеролама (1501, по др. данным 1506–1576) — итальянский математик, философ, врач.
(обратно)
279
Асессор (лат.) — судебный заседатель.
(обратно)
280
Нерон (37–68) — римский император с 54 г., отличался жестоким, развратным поведением. Репрессиями и конфискациями восстановил против себя всё римское общество.
(обратно)
281
«Lapsus linguae» (лат.) — «обмолвка».
(обратно)
282
Ареццо — город в Центральной Италии.
(обратно)
283
«Der Herr ist mein Trost» (нем.) — «Господь — моё утешение».
(обратно)
284
Квинтал (фр.) — единица массы во многих странах Латинской Америки, Испании, Португалии. В большинстве стран составляет 46 кг.
(обратно)
285
Конклав (лат.) — совет кардиналов, собирающийся для избрания Папы после смерти его предшественника.
(обратно)
286
Августин Блаженный Аврелий (354–430) — христианский теолог и церковный деятель, родоначальник христианской философии истории (сочинение «О граде Божием»), развил учение о благодати и предопределении. Христианский неоплатонизм Августина господствовал в западно-европейской философии и католической теологии вплоть до XIII в.
(обратно)
287
Армида — героиня поэмы Т. Тассо «Освобождённый Иерусалим».
(обратно)
288
Цехин (ит.) — старинная золотая венецианская монета.
(обратно)
289
«Credo» (лат.) — «Верую» (первое слово «Символа веры» на латинском языке).
«In Principio» (лат.) — «В начале» (первые слова Евангелия от Иоанна на латинском языке).
(обратно)
290
Эней Сильвий (1405–1464) — видный гуманист, был избран Папой под именем Пия II.
(обратно)
291
Ялапа — многолетнее травянистое растение.
(обратно)
292
Нарамник — две полосы сукна, свисавшие на грудь и спину и соединённые на плечах.
(обратно)
293
Митра (греч.) — головной убор высшего духовенства, надеваемый при полном облачении.
(обратно)
294
Vas femineum (лат.) — сосуд женский.
(обратно)
295
Ярд (англ.) — единица длины в английской системе мер, равная трём футам, или 91,44 см.
(обратно)
296
Гордиев узел. — В крепости у Гордиона (главный город Фригии) находилась боевая колесница легендарного царя Гордия, на которой ярмо и дышло были соединены ремнём, завязанным очень сложным узлом. По легенде, Азией овладеет тот, кто сумеет развязать узел. Зимой 334/333 г. до н. э. Александр Македонский, выдающийся полководец древности, разрубил Гордиев узел ударом меча.
(обратно)
297
Пилат — Имеется в виду Понтий Пилат, римский наместник Иудеи в 26–36 гг., отличавшийся жестокостью. Согласно Новому Завету, приговорил к распятию Иисуса Христа.
(обратно)
298
Павел — в Новом Завете один из апостолов. Церковь приписывает ему 14 посланий, включённых в Новый Завет.
(обратно)
299
Авраам в ветхозаветных преданиях — избранник бога Яхве, заключивший с ним «завет» (союз), родоначальник евреев и арабов.
(обратно)
300
Стоицизм (греч.) — направление античной философии. Согласно представлениям стоиков все люди — граждане космоса как мирового государства, перед мировым законом все равны.
(обратно)
301
Майолика (ит.) — художественная керамика из цветной глины.
(обратно)
302
Александрия — древний город в Египте, в дельте Нила, основанный Александром Македонским в 332–331 гг. до н. э.
(обратно)
303
Алеппо — город в Сирии.
(обратно)
304
Курфюрст (нем.) — в Священной Римской империи князь, имевший право участвовать в выборах императора.
(обратно)
305
…от гроссмейстера Мальтийского ордена… — Имеется в виду глава духовно-рыцарского ордена госпитальеров (иоаннитов), основанного крестоносцами в Палестине в начале XII в. В 1530–1798 гг. резиденция ордена находилась на острове Мальта, отсюда название «Мальтийский».
(обратно)
306
Гольбейн Ханс Младший (1497 или 1498–1543) — немецкий живописец и график, представитель Возрождения.
(обратно)
307
Бри Теодор де — голландский гравёр и ювелир XVI в.
(обратно)
308
«Emblemata. Symbola el elegantes versais» (лат.) — «Эмблемы. Символы и изящные стихотворения».
(обратно)
309
Телемское аббатство — свободное объединение учёных, философов, поэтов в романе Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль».
(обратно)
310
Manu propria (лат.) — собственной рукой.
(обратно)
311
Monasterium campililiorum (лат.) — монастырь «Поля лилий».
(обратно)
312
«Spes теа Christus», «Amor omnia vine it», «Tendit ad ardua virtue», «Tout aves le temps» (лат.) — «Христос моя надежда», «Любовь побеждает всё», «Доблесть стремится к трудностям», «Всё в своё время».
(обратно)
313
Ego (лат.) — Я.
(обратно)
314
«Omnia, Unitas, Causa, Natura, Natura in me, ego in societate» (лат.) — «Единство, Причина, Природа, Природа во мне, Я в обществе».
(обратно)
315
Марий (156–86 до н. э.) — римский полководец и политический деятель, консул, противник диктатора Суллы.
(обратно)
316
Саллюстий, Гай Саллюстий Крисп (86–35 до н. э.) — римский историк.
(обратно)
317
Фредерик II (1534–1588) — король Дании и Норвегии с 1559 г.
(обратно)
318
Гиппарх из Никеи (190–125 до н. э.) — один из выдающихся астрономов античности.
Птолемей Клавдий (после 83 — после 161) — известный античный астроном, астролог, математик, географ.
Альфонс X — король Леонии и Кастилии XIII в., называемый астрономом, философом или мудрецом.
(обратно)
319
Кана Галилейская — палестинский город, где были явлены несколько чудес Христа.
(обратно)
320
Талер (нем.) — серебряная монета, чеканившаяся с XVI в. в Чехии и получившая распространение в Германии, скандинавских странах, Голландии, Италии.
(обратно)
321
Nihil humani (лат.) — ничто человеческое.
(обратно)
322
Гус Ян (1371–1415) — национальный герой Чехии, идеолог чешской Реформации. Осуждён церковным собором в Констанце и сожжён.
(обратно)
323
Меланхтон (1497–1550) — немецкий гуманист, религиозный реформатор. Сподвижник и преемник Лютера.
(обратно)
324
Константский собор проходил в городе Констанце 5 ноября 1414 г. Его возглавлял Папа Иоанн XXIII. Были представлены три вопроса: защита веры от ереси, восстановление церковного единства, преобразование Церкви.
(обратно)
325
Гетальди (1566–1627) — математик, написал сочинение по алгебре с приложением к геометрии. Предпринял попытку восстановить утраченное сочинение Аполлония, древнегреческого математика и астронома III в. до н. э.
(обратно)
326
Даная — в греческой мифологии дочь аргосского царя Акрисия. От Зевса, проникшего к Данае в виде золотого дождя, она родила Персея.
(обратно)
327
Галилей Галилео (1564–1642) — итальянский учёный, один из основателей точного естествознания. Боролся против схоластики, основой познаний считал опыт.
(обратно)
328
Hos est meum coprus (лат.) — Сие есть тело моё.
(обратно)
329
Ex opere operate (лат.) — из совершения акта (причастия).
(обратно)
330
Фра (ит.) — частица, употребляемая перед именем католического монаха в Италии.
(обратно)
331
Конгрегация (лат.) — в католической Церкви объединение монашеских общин, следующих одному уставу.
(обратно)
332
…на собраниях капитула… — Капитул (лат.) — общее собрание членов монашеского или духовно-рыцарского ордена.
(обратно)
333
Доминиканцы — члены нищенствующего ордена, основанного в 1215 г. испанским монахом Домиником. В 1232 г. папство передало в ведение ордена Инквизицию. После основания в XVI в. ордена иезуитов значение доминиканцев уменьшилось.
(обратно)
334
Симония — широко практиковавшаяся в средние века продажа и купля церковных должностей.
(обратно)
335
Курия (лат.) — здесь: совокупность центральных учреждений, управляющих католической Церковью.
(обратно)
336
Тонзура (лат.) — выстриженное или выбритое место на макушке католических духовных лиц.
(обратно)
337
«Gloria» (лат.) — «Слава».
(обратно)
338
Арий — александрийский пресвитер IV в. В 318–319 гг. был отлучён от церкви в связи с проповедью собственного христологического учения.
(обратно)
339
Нунций (лат.) — постоянный дипломатический представитель Папы Римского.
(обратно)
340
Орфей — мифический греческий певец, сын Музы Каллиопы. Считался основателем орфического учения.
(обратно)
341
Коллеони (1400–1475) — итальянский кондотьер (предводитель наёмных войск), служивший то Милану против Венеции, то Венеции против Милана.
(обратно)
342
…изображавший Пресвятую Деву с жертвователями… — Богатые люди, заказывавшие художнику картину религиозного содержания, чтобы потом пожертвовать её в храм, обычно тоже изображались на этой картине коленопреклонёнными перед Мадонной или святыми.
(обратно)
343
Бароччи Федерико (1528–1612) — итальянский живописец.
(обратно)
344
Телезио Бернардино (1509–1588) — итальянский натурфилософ эпохи Возрождения.
(обратно)
345
Скандербег (Георг Кастриоти; ок. 1405–1468) — национальный герой Албании. В 1443 г. возглавил народное восстание и освободил от османского господства часть территории страны.
(обратно)
346
Теорба (ит.) — род лютни (XVII в.).
(обратно)
347
Геснер Конрад (1516–1565) — швейцарский профессор греческого языка и философии. Его сочинения имели большое значение для истории литературы.
(обратно)
348
Сапti carnascialeschi (лат.) — Песнь плоти.
(обратно)
349
Иоанн Креститель — в христианстве предвозвестник прихода мессии, предшественник Иисуса Христа; имеет прозвище (Креститель) по обряду крещения, который он совершал в реке Иордан.
(обратно)
350
Corpus Cereris el sanguen Bacchi (лат.) — Тело Цереры и кровь Вакха. В римской мифологии Церера — богиня земледелия и плодородия, Вакх — одно из имён бога виноградарства Диониса.
(обратно)
351
…испытывать муки Тантала… — В греческой мифологии Тантал, сын Зевса, был наказан богами; он стоял в воде, но не мог утолить жажду, над ним висели ветки с плодами, но голод мучил его. Отсюда выражение «танталовы муки».
(обратно)
352
Алебарда (фр.) — холодное оружие, длинное копьё с насаженным боевым топором или секирой.
(обратно)
353
Сентенция (лат.) — изречение нравоучительного характера.
(обратно)
354
Сенека Луций Анней (ок. 4 до н. э. — 65 н. э.) — римский политический деятель, философ и писатель. Представитель стоицизма. Воспитатель Нерона, по приказу которого покончил жизнь самоубийством.
(обратно)
355
…числом любовниц ещё не сравнялся с царём Соломоном… — Соломон — царь израильско-иудейского царства в 965–928 гг. до н. э., сын Давида. Славился необыкновенной мудростью.
(обратно)
356
…когда началась гражданская война, уехал из Тулузы в Париж… — Имеется в виду религиозная война во Франции (1562–1594) между католиками и гугенотами.
(обратно)
357
Перипатетик (греч.) — последователь древнегреческой философской школы Аристотеля, основанной в 335 г. до н. э.
(обратно)
358
Скудо (ит.) — старинная итальянская серебряная и золотая монета.
(обратно)
359
«De minimi», «De monade», «Dе immense», «De composirfone» (лат.) — «О наименьшем», «О монаде», «О бесконечности», «О сочетании».
(обратно)
360
Вергилий, Публий Вергилий Марон (70–19 до н. э.) — крупнейший римский поэт-эпик.
(обратно)
361
Эпикур (341–270 до н. э.) — древнегреческий философ-материалист. Основал философскую школу в 306 г. до н. э. в Афинах. Его последователи — эпикурейцы.
(обратно)
362
Diva (лат.) — божественная.
(обратно)
363
Луллий Раймонд (1235–1315) — средневековый философ и католический миссионер. Особенно знаменит своими работами по искусству запоминания, которые Бруно комментировал в Париже, и сочинениями по логике.
(обратно)
364
Каэтан (1419–1534) — генерал ордена доминиканцев и кардинал, посланный на Аугсбургский собор, чтобы опровергнуть Лютера, но сам попавший в некоторой степени под его влияние.
Пико делю Мирандола (1463–1494) — итальянский философ-гуманист.
(обратно)
365
Марулло, Микелс-Марулло Тарканьота — поэт и учёный-гуманист XV в., грек по происхождению, живший в Италии и писавший по латыни.
(обратно)
366
…избиение гугенотов в Париже… — речь идёт о Варфоломеевской ночи, массовой резне гугенотов католиками в ночь на 24 августа 1572 г. (день св. Варфоломея), организованной Екатериной Медичи и Гизами.
(обратно)
367
Прокуратор (лат.) — здесь: поверенный в судебных делах.
(обратно)
368
…поражение Армады было большим ударом… — В 1588 г. испанская Непобедимая Армада потерпела поражение в результате столкновений с английским флотом в Ла-Манше и сильного шторма. В Испанию вернулась лишь половина кораблей, испанское морское могущество было подорвано.
(обратно)
369
…заметил у дороги алтарь… — Алтарь (лат.) — жертвенные, первоначально место для жертвоприношений на открытом воздухе.
(обратно)
370
Пилигрим (ит.) — странствующий богомолец; то же, что и паломник.
(обратно)
371
«Directorium inquisitorium» (лат.) — «Руководство для инквизиторов».
(обратно)
372
Софистика (греч.) — применение в споре или в доказательствах софизмов, т. е. ложных по существу умозаключений, формально кажущееся правильным.
(обратно)
373
Августинец — член нищенствующего ордена, основанного, в середине XIII в. в Италии. Устав ложно приписан Августину Блаженному, отсюда название ордена.
(обратно)
374
«A fide» (лат.) — «От веры».
(обратно)
375
«А mandatis Dei» (лат.) — «От миссии Божией».
(обратно)
376
Мор Томас (1478–1535) — английский гуманист, государственный деятель и писатель; один из основоположников утопического социализма. Друг Эразма Роттердамского. Канцлер Англии в 1529–1532 гг. В сочинении «Утопия» (1516) содержится описание идеального строя фантастического острова Утопия, где нет частной собственности.
(обратно)
377
…морем, из которого рождалась Венера Анадиомена… — Согласно греко-римской мифологии, богиня Венера (в греческой мифологии Афродита) родилась из морской пены, отсюда её прозвище Анадиомена, т. е. «рождённая из пены».
(обратно)
378
Сфинкс — у древних египтян существо с телом льва и головой человека; у египтян образ Сфинкса заимствовали греки, которые изображали его чудовищем с головой и грудью женщины и крылатым телом льва.
Химера — в древнегреческой мифологии огнедышащее чудовище. Согласно Гомеру, Химера спереди — лев, в середине — коза, сзади — змея.
(обратно)
379
Социнианская ересь — социниане — представители рационалистического направления Реформации, последователи религиозного учения итальянцев Лелия Социна (1525–1562) и его племянника Фауста Социна (1539–1604). Отвергали догмат Троицы и признавали единство Бога (унитарианство); считали Христа не Богом, а человеком.
(обратно)
380
Унитарианство — См. предыдущий коммент.
(обратно)
381
…о которых сказано в «Откровении»… — «Откровение», или «Апокалипсис», Иоанна Богослова (сер. 68 — нач. 69) — христианская церковная книга, одна из книг Нового Завета, содержащая пророчество об «антихристе», «втором пришествии» Христа и «Страшном Суде». По мнению некоторых учёных, в «Откровении» даётся аллегорическое отображение царствования Нерона и жестокостей, совершенных им.
(обратно)
382
«De umbris» (лат.) — «О тенях».
(обратно)
383
Эльфы (нем.) — в германских народных поверьях духи природы, населяющие воздух, землю, горы, леса, жилища людей и обычно благожелательные к людям.
(обратно)
384
Гераклит Эфесский (кон. VI — нач. V в. до н. э.) — древнегреческий философ-диалектик.
(обратно)
385
Шанкр (фр.) — венерическая болезнь.
(обратно)
386
Единорог — по средневековому поверью об этом фантастическом животном с телом быка, лошади или козла и одним длинным прямым рогом на лбу, укротить его могла только девственница.
(обратно)
387
…подумают, что мы кричим другое, похожее слово… — В английском оригинале содержится намёк на созвучие слов «оаг» («весло») и «whore» («шлюха»). Здесь и ниже слово «whore» относится к английской королеве Елизавете.
(обратно)
388
Леандр — в греческой мифологии возлюбленный богини Геры.
Гилас — в древнегреческих мифах любимец Геракла, который взял его с собой в путешествие аргонавтов.
(обратно)
389
…древние Хароны… — Харон в греческих мифах — угрюмый перевозчик душ в Царство мёртвых через реку Ахерон.
(обратно)
390
«Pastor Fido» (лат.) — «Верный пастух».
(обратно)
391
Лалага — древнегреческое женское имя, которое часто носили гетеры и героини мифической и пастушеской поэзии.
(обратно)
392
«Morituri morituros salutant» (лат.) — «Идущие на смерть приветствуют идущих на смерть». Здесь пародируется известное приветствие римских гладиаторов «Ave Caesar, imperator, morituri te salutant» («Здравствуй, цезарь, император, идущие на смерть приветствуют тебя»).
(обратно)
393
Эригена Скот — средневековый философ IX в., ирландец по происхождению. Его учение было осуждено церковью как еретическое.
(обратно)
394
Помпонацци Пьетро (1462–1525) — итальянский философ, представитель аристотелизма эпохи Возрождения. Отрицал «бессмертие души», за что его сочинения были сожжены Инквизицией.
(обратно)
395
Стикс — Согласно греческим мифам, это река текущая из Океана в Подземный мир.
(обратно)
396
Вальденсы — приверженцы средневековой ереси, зародившейся в конце XII в. в Лионе (зачинатель — Пьер Вальдо).
(обратно)
397
Катары — приверженцы ереси XI–XIII вв., распространившейся в основном в Италии, Южной Франции, Фландрии. Катары и вальденсы выражали преимущественно интересы ремесленников и крестьян.
(обратно)
398
Манихейство — религиозное учение, основанное в III в. Мани, который проповедовал, согласно преданию в Персии, Средней Азии, Индии. Учение оказало влияние на средневековые дуалистические ереси.
(обратно)
399
Мюнцер Томас (ок. 1490–1525) — немецкий революционер, идеолог и вождь крестьянских масс во время Реформации и Крестьянской войны 1524–1526 гг. в Германии.
(обратно)
400
Боргезе Камилло (1552–1621) — Римский Папа Павел V с 1605 г., властный, жестокий фанатик, вёл борьбу с Реформацией.
(обратно)
401
Был юбилейный год. — У древних римлян каждый сотый год (с основания Рима) назывался юбилейным. Тогда в Риме проходили празднества в течение трёх дней и трёх ночей. С 1300 г. этот обычай был восстановлен папами, и юбилейный год (сначала каждые 100, затем 50 лет, а во времена Бруно уже через 25 лет) был объявлен годом отпущения грехов всем богомольцам, посетившим базилику Петра и Павла в Риме.
(обратно)
402
Антифон (греч.) — песнопение, исполняемое поочерёдно двумя хорами или солистом и хором.
(обратно)
403
Гвискар Роберт (ок. 1015–1085) — один из предводителей норманнов, овладевший к 1072 г. Южной Италией и Сицилией.
(обратно)
404
Камерарий — глава учреждения, ведавшего королевскими (в данном случае — папскими) доходами.
(обратно)
405
Бенедиктинцы — члены католического монашеского ордена, основанного ок. 530 г. Бенедиктом Мурсийским в Италии. Особое влияние приобрели в X–XI вв. До сих пор являются опорой Ватикана.
(обратно)
406
Фердинанд II (1578–1637) — австрийский эрцгерцог, император Священной Римской империи с 1619 г., из династии Габсбургов. Проводил политику Контрреформации.
(обратно)
407
…двое из ордена Иисусова… — Имеются в виду иезуиты, чей орден назывался «Общество Иисуса» (основан в 1534 г. в Париже Игнатием Лойолой).
(обратно)
408
Литания (греч.) — молитва у католиков, которая поётся или читается во время торжественных религиозных процессий.
(обратно)
409
Варган — музыкальный инструмент типа губной гармошки.
(обратно)
410
…le comte de Moreton de Chabrillon… — граф де Моретон де Шабрийон (франц.).
(обратно)
411
Immediatement! — Немедленно! (франц.).
(обратно)
412
Himmel! — О небо! (нем.).
(обратно)
Оглавление
Ганнибал
От автора
Часть первая
«Призыв»
1
2
3
4
5
6
Часть вторая
«Выборы»
1
2
3
4
5
6
Часть третья
«Схватка»
1
2
3
4
5
6
7
Часть четвертая
«Кризис»
1
2
3
4
5
6
7
Часть пятая
«Развитие»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Часть шестая
«Кульминация»
1
2
3
4
5
6
7
Беглецы
Глава I. Побег
Глава II. На вершине холма
Глава III. Через ущелье
Глава IV. Голод
Глава V. На вилле
Глава VI. В подвале
Глава VII. Несмотря на решетку
Глава VIII. Союзник
Глава IX. Опять в дороге
Глава X. Среди восставших
Глава XI. Совещание
Глава XII. К морю
Глава XIII. Удачная хитрость
Глава XIV. Море
Глава XV. Морской разбой
Глава XVI. Просчитались
Глава XVII. Буря
Глава XVIII. Земля!
Глава XIX. По дороге в поместье
Глава XX. Ночной набег
Глава XXI. Награда
Глава XXII. В тюрьме
Глава XXIII. Путь по взморью
Глава XXIV. Помощь с моря
Глава XXV. В океане
Глава XXVI. Гадес
Глава XXVII. Сдаются комнаты
Глава XXVIII. Освобождение из ловушки
Глава XXIX. На выручку
Заключение
Подземный гром
Катарине Сусанне Причард
Часть первая
Приезд в Рим
I. Луций Кассий Фирм
II. Марк Анней Лукан
III. Луций Кассий Фирм
IV. Гавий Сильван
V. Луций Кассий Фирм
VI. Гней Флавий Сцевин
Часть вторая
Дальнейшие сплетения
VII. Луций Кассий Фирм
VIII. Луций Анней Сенека
IX. Луций Кассий Фирм
X. Гавий Сильван
XI. Луций Кассий Фирм
XII. Марк Анней Лукан
XIII. Луций Кассий Фирм
XIV. Гней Флавий Сцевин
XV. Луций Кассий Фирм
XVI. Луций Анней Сенека
XVII. Луций Кассий Фирм
Часть третья
Очные ставки
XVIII. Первые аресты
XIX. Еще аресты и суд
XX. Нерон
Часть четвертая
В глубинах
XXI. Луций Кассий Фирм
Комментарии автора
Адам нового мира
Часть первая
Возвращение
I. Приезд в Венецию
II. Приют найден
III. Мочениго
IV. Тита
V. Шарлатан
VI. Без выхода
VII. В Падуе
Часть вторая
Предательство
VIII. Соглядатаи
IX. В книжной лавке
X. Карнавал
XI. Во дворце Морозини
XII. В церкви Святого Павла
XIII. Возврата нет
XIV. Ожидание
XV. Исповедник и кающийся
XVI. То, чего ожидали
XVII. Уход от Мочениго
Часть третья
Суд
XVIII. Обвинения
XIX. Перед судом Инквизиции
XX. В тюрьме
Часть четвёртая
В руках инквизиции
XXI. Государственное дело
XXII. На пути в Рим
XXIII. Инквизиция
XXIV. Для кого?
XXV. Совпадение противоположностей
XXVI. Один
XXVII. Утверждение истины
XXVIII. Завершение
Хронологическая таблица
Восстание на золотых приисках
Глава 1. Балларат
Глава 2. Шейн Корриген
Глава 3. Беспорядки у гостиницы Бентли
Глава 4. Свалка
Глава 5. Наручники
Глава 6. Посещение театра
Глава 7. Неожиданная встреча
Глава 8. Лачуга Чёрного Макфая
Глава 9. Убийство
Глава 10. Уловка фараонов
Глава 11. В кутузке
Глава 12. Шейн в красном мундире
Глава 13. В укрытии
Глава 14. Приятная передышка
Глава 15. Восстание
Глава 16. Снова Томми
Глава 17. В ловушке
Глава 18. Козима приходит на выручку
Глава 19. Лагерь «Эврика»
Глава 20. Затерян в зарослях
Глава 21. Речка
Глава 22. Положение ухудшается
Глава 23.Джим-туземец
Глава 24. Старый Нед
Глава 25. Сумасшедший
Глава 26. И ещё раз Томми
Глава 27. Мститель
Глава 28. Награда
Поль Сезанн
Предисловие
Часть первая
Ранние годы
Глава I
Семья и Экс
Глава 2
Детство и юность
Глава 3
Разлука
(1858)
Глава 4
Одинокий год
(1859)
Часть вторая
Париж и искусство: 1860-е годы
Глава 1
Золя в Париже
(1860)
Глава 2
Поль в Париже
(1861)
Глава 3
Новое начало
(1862–1865)
Глава 4
Решающий год
(1866)
Глава 5
Сомнения и уверение
(1867–1879)
Часть третья
Прорыв
Глава 1
Конец империи
(1870–1873)
Глава 2
Вперед вместе с Писсарро
(1873–1876)
Глава 3
Достижение безопасности
(1877–1879)
Часть четвертая
Новый кризис
Глава 1
Затишье перед бурей
(1880–1883)
Глава 2
Безнадежные препятствия
(1883–1886)
Глава 3
Снова вперед
(1887–1889)
Часть пятая
Последние годы
Глава 1
Бегство из Живерни и Парижа
(1891–1895)
Глава 2
Жоашим Гаске
(1896)
Глава 3
Зрелый художник
(1897–1899)
Глава 4
Старость и юность
(1900–1902)
Глава 5
Конец
(1903–1906)
Иллюстрации
Об авторе
*** Примечания ***


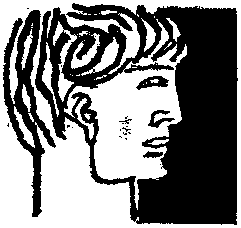 Когда я подъезжая к Воротам, вокруг меня уже сгущались хмурые сумерки. Мгла поднималась над землей, все застилая кругом, и навстречу ей спускалась густая серая паутина с тяжело нависшего неба. Шея моей гнедой лошади потемнела от пота, и я пожалел, что гнал ее без передышки после того, как сломалась коляска. Как будто, если бы я не застал последний отсвет дня над Городом, это означало бы неудачу, дурное предзнаменование, какой-то нелепый, опрометчиво допущенный просчет. По небу еще растекалось слабое, призрачное сияние, и от этого все на земле казалось сумбурным и предательски ненадежным. Неразбериха усиливалась у самых Ворот, где в потемках скупо разливал свет смоляной шипящий факел. Наступил час пропуска в Город грузовых повозок. Несколько заждавшихся возничих, громко ругаясь и щелкая бичами, устремились вперед, чтобы проехать первыми. Две повозки сцепились колесами так, что затрещали все деревянные сочленения. Их ринулся объезжать хозяин колесней, на которых были кое-как увязаны бревна; одно из них, скользнув, покатилось по дороге, вызывая злобные крики толпы и проклятия застрявших позади возничих.
— Перевяжи как следует бревна либо поворачивай обратно, — потребовал привратник.
— Разве тут повернешь? — ответил возничий. — Бревна были увязаны надежно. Верно, какой-нибудь прохвост вздумал поживиться!
Между тем к воротам подъезжали все новые возы и крытые повозки.
— Знаю твою мерзкую физиономию, — сказал привратник. — Ты работаешь у Скавра. Не думай, что это тебе пройдет даром.
Подбежал стражник с факелом. Колеблющееся пламя рывком выхватило из потемок разыгравшуюся сцену. Запрыгали тени, потом они сгустились и стали расползаться по земле, готовые поглотить все вокруг. В неверном свете факела лица, осклабленные, испуганные, напряженные, превратились в багровые и зеленые маски с искаженными чертами, со скошенными носами, в разинутых ртах торчали клыки, шевелились длинные уши, в выпученных глазах дико вращались блестящие зрачки. Над толпой возвышался стоявший на бревнах возничий в разорванной тунике, со спутанными волосами, которые падали на глаза, зиявшие, как черные провалы. Я направил свою лошадь между возом и стеной, подальше от привратника. Зеваки, с интересом следившие за перебранкой, теснились у колесней. Их нимало не тревожило, что посунувшиеся набок бревна могли упасть и раздавить их. Я натянул поводья, лошадь вскинула голову, женщина, испугавшись ее оскаленной морды, юркнула под самый воз. Мужчина в кожаном фартуке схватил было меня за колено, но я взмахнул плетью. Женщина с испугу уронила корзину с зеленью.
— Что там творится? — крикнул привратник. Мне удалось проскользнуть мимо колесней.
Мой раб Феникс следовал за мной, хотя в последнюю минуту ему преградила дорогу женщина, которая ткнула в морду его лошади клетку из ивовых прутьев, где шипел гусь. Улица за Воротами была погружена в темноту, лишь кое-где слабо мерцали отсветы факелов; большинство лавок были наглухо закрыты. Лишь в одной еще горел светильник на прилавке, очерчивая световой линией стоявшую перед ним фигуру толстяка. Я придержал лошадь и стал ждать Феникса. Из-за Ворот донесся скрежет копыт по булыжной мостовой. Вскрикнула женщина. Сгустившиеся потемки словно все кругом придавили. В огромном Городе кипела жизнь, но в ней было что-то затаенное и враждебное. Ничего похожего на приветливое сияние, застать которое я торопился весь день. То были полные опасностей заросли, где на каждом шагу меня подстерегали топь или пропасть, логово зверя или засада. Человек, загородивший светильник, прислонился к прилавку и наблюдал за мной. В доме напротив, в окне первого этажа сквозь прореху в занавеске пробивалась полоска света.
Кто-то причитал, кто-то распевал песни. Я сидел, напряженно выпрямившись в седле, прислушиваясь к глухому, как бы подземному гулу ночного города. Проехавший вперед Феникс возвратился.
— Тут поблизости таверна.
— Вот и отлично, — ответил я, довольный, что не надо искать и решать самому. Мы свернули в боковую улочку, поуже и потемнее. По проезжей дороге со скрипом и лязгом двинулась головная крытая повозка, за ней потянулись другие, возничий запел «Как лысый муж вернулся с виллы». В нише над дверью тускло светил фонарь из рога, но мне так и не удалось разобрать надпись на висевшей под ним забрызганной грязью вывеске.
Феникс спрыгнул с коня и постучал. Напротив кто-то плотнее прикрыл ставни. Чуть подальше кто-то выплеснул из окна на улицу содержимое ночного горшка. Стук повозок по мостовой теперь сливался в непрерывный грохот. Залаяла собака. Дверь таверны приотворилась, и оттуда высунулась голова мужчины со всклокоченной бородой, он сердито спросил, что нам нужно.
— Заезжай. — Хозяин вытер рукавом нос. — Только не говори потом, что было слишком темно и ты не мог прочесть цен. Вот они — все выставлены на стене. Я не такой, как иные, — пробормочут себе под нос цену, а наутро сдерут вдвойне. Конюшня вон там, направо.
Я соскочил на землю и стоял, держась рукой за потник, — у меня онемели ноги и кружилась голова.
— Вещи прибудут завтра. Я приехал позднее, чем рассчитывал.
— Не ты первый, не ты последний, — неожиданно развеселившись, пробасил хозяин, и я подосадовал, что пустился в объяснения. — Каких только я не навидался! И таких и сяких. — Он сдавленно хихикнул. — Ежели хочешь содержать таверну, то научись разбираться в людях. А я про них чего не знаю, так того и знать не стоит. — Он отступил в сторону. — Проходи. Помещение не велико, зато чистое. Не то что в иных здешних тавернах, где берут приплату за клопов. Будешь доволен «Пигмеем и слоном».
Он втолкнул меня в комнату, еле освещенную желтым огоньком коптящего светильника, в углу приткнулись трое пьянчуг, что-то сонно бормотавших, а на табурете, выпрямившись, сидела пышная девица, подбирая распустившиеся волосы. Теперь я мог разглядеть круглое измятое лицо хозяина, от одного уха у него мало что осталось, и в прищуренных, мигающих глазках прыгали желтые блики. Возле двери спал загулявший здоровяк, широко раскрыв рот, прислонившись к стене и крепко сжимая в руке пустой кошелек. На стене над ним был нарисован хозяин, подающий вино трем игрокам в кости, и написано: «Честная игра — вот это мне по нутру!» Тут хозяин обратился ко мне:
— Для начала выпьем, а? — Он провел копчиком языка по тонким губам, точно слизывая с них остатки рыбного соуса. — Не какой-нибудь местной дряни! Я вижу, с кем имею делю, ты из тех, кто знает, что ему по душе, и готов платить, когда его не обманывают. Кто-нибудь тебе нахваливал мою таверну? Нет. Жаль. Я люблю, чтобы постояльцы уезжали от меня довольными. Надуешь-то человека только одни раз, а честным путем можно наживаться столько раз, сколько котится кошка. «Ватикан» все же получше уксуса. — Он указал приплюснутым пальцем на пьяниц. — А стоит дешево. Нищие же бывают разборчивы. Лишь бы не блевали на мой чистый пол. Эй, Гедона, принеси-ка самого лучшего вина, до того кувшина с краевой звездой.
У девушки снова распустились волосы. Двое сидевших в углу оглянулись, третий продолжал что-то бормотать, спящий оглушительно захрапел. Служанка закинула волосы за спину, оглядела меня долгим оценивающим взглядом и пошла, шлепая по полу босыми ногами.
— Кто растрепал тебя на этот раз? — спросил хозяин, подмигнув.
— Никто, — ответила она, не оборачиваясь, и вышла — круглая, сочная, как виноградина, налитая спелым соком и солнечным светом.
— Этот твой никто — превредный озорник. — Он снова подмигнул. — Славная девушка, как видишь, я люблю ее подразнить. Мы тут все живем дружно, да и как иначе? Так легче, да и работа лучше спорится. Вот уже три года, как она у меня. Уж такая беспечная девушка. Ленива, как кошка, а свое дело делает. — Он повернулся и людям в углу. — Аммат, ты снова завел свои побасенки. От них людей в сон клонит. — Хозяин подошел к прилавку, где на треножнике кипятилась вода, и заглянул в сосуд, Аммат, ковыряя в носу, равнодушно смотрел на нею.
Гедона принесла вино и остановилась, упершись руками в широкие бедра. Снова всего меня оглядела, подавляя зевоту.
— Откуда?
На ее жарких щеках обозначились ямочки, а глаза были совсем янтарные.
Я улыбнулся и почувствовал, как горячо разлилось у меня по жилам красное вино. Хозяин некоторое время выжидал, что я отвечу, лотом сказал;
— Не задавай вопросов, не услышишь лжи.
— Просто спросила. Он мне кого-то напомнил. Да нет, обозналась.
И, отвернувшись, она вновь принялась закручивать в узел волосы.
Человек, храпевший у двери, упал ничком, и она помогла ему подняться. Я опорожнил кружку и швырнул хозяину, который подхватил ее и сделал вид, что ее тяжесть пригнула его чуть не до полу. Затем он новея меня наверх по боковой лестнице. Шесть нижних ступеней были каменные, а дальше — деревянные. На втором этаже хозяин прошел по коридору до двери и распахнул ее широким жестом. Дверь застряла, и ему пришлось ее приподнять — одна из петель была сорвана.
— Совсем забыл про это, — проговорил он деловым тоном. — Завтра непременно починю.
В руке у него был светильник, и в его тусклом свете я разглядел кровать с соломенным тюфяком и табурет.
— Оставь мне светильник.
— За это добавочная плата. Я предпочитаю не оставлять огня своим постояльцам. Разве нельзя раздеться в темноте? Впрочем, ты, я вижу, трезвый и разумный, уж ладно, пускай остается. — Он почесал всклокоченную бороду. — А теперь заплати мне за все вперед. Ведь так просто выскользнуть отсюда чуть свет, хотя бы у конюшни и сидела на цепи собака. Понятно, я ни на что не намекаю. Но встречается этакий забывчивый народ, да и у всякого заведения свои правила. — Он стал подсчитывать на пальцах. Я достал деньги аз кошелька на поясе. — Ежели тебе понадобится еда, либо вино, не то захочешь женщину, — добавил он, ухмыльнувшись на прощание, — дай знать либо сойди вниз. В любой час, только после полуночи двойная плата.
Он продолжал стоять, словно актер, который позабыл свои прощальные остроты и все ожидает, что его проводят взрывом аплодисментов. Я кивнул, и он наконец ушел, тихонько посмеиваясь. Я проверил окно. Ставни плохо затворялись. Я распахнул их и выглянул наружу. Передо мной чернела каменная стена и полоса тусклого неба. Неподалеку в переулке плакал ребенок. С проезжей дороги доносился непрерывный шум повозок и голоса, то громкие, то затихающие, скрежет колес, звон цепей, звяканье сбруи и надсадное мычание вола., Возничие кричали, щелкали бичи, когда, повозка застревала в колеях дороги, пронзительно ржали кони. Возвращавшиеся домой гуляки нескладно тянули какие-то песни, взвизгнула и засмеялась женщина. Понемногу этот смутный непрерывный шум слился с потемками и стал как бы самой беспредельностью. Мне представлялось, что я парю над неведомым простором Рима, что я уже не заперт в темной и убогой дыре, а охватываю Город во всей его полноте, все его ночное бытие. Теперь я уже не жалел, что приехал слишком поздно и не сбылась моя надежда разом увидеть все его семь холмов, увенчанных храмами и дворцами, его людные улицы, залитые могучим светом ветреного солнечного дня. Мне нравилась таинственная неизмеримость примолкшей разнузданной ночи с ее суровым обещанием иной жизни, опасной и непредвиденной, прозябающей под строгим покровом дня. Я закрыл глаза, и мне почудилось, будто взошла луна. Услыхав дробный шум шагов, я очнулся, и у меня закружилась голова, как в тот момент, когда я спрыгнул с лошади. Вернувшийся из конюшни Феникс поправил ножом фитиль в светильнике, фитиль слегка разгорелся, и на выщербленной оштукатуренной стене обозначилась горбатая тень раба.
Я снова повернулся к окну. Откуда-то потянуло холодом, свежий воздух овеял мне лицо. Пришел конец безветрию, царившему весь день. Передо мной закружился не то клочок папируса, не то сухой лист. Описывая спирали, на мгновение он неподвижно повис, потом его унесло в косматые потемки. Листок, улетевший в неведомый простор.
— Я выйду прогуляться. Оставайся и стереги вещи.
Феникс присел на корточки, и в его темно-карих глазах блеснул испуг, когда он обтирал кургузыми пальцами лезвие ножа. Я потрепал его жесткие волосы и вышел из комнаты. На лестнице я прошел мимо человека, от которого воняло ворванью. Хозяин обслуживал четырех новых посетителей. Я велел принести мне в комнату хлеба, сыра и маслин и заплатил за все.
Увидев, что я выхожу, хозяин прищурился.
— В такой поздний час? Как же ты найдешь дорогу? Ведь ты сказал, что ты здесь чужой?
Ничего такого я ему не говорил и по его взгляду понял, что он меня в чем-то заподозрил. Очевидно, решил, что я должен с кем-то встретиться. Он хотел было взять меня под руку и подвести к двери, но я увернулся, сказав, что просто хочу немного размять ноги, и вышел наружу.
На темной улице меня внезапно охватило чувство свободы. Радовало движение в безгранично раздвигающемся пространстве. Как будто я уже несколько месяцев прожил взаперти в этой комнатушке. И все же темнота ограничивала меня, заключая все мои чувства в пределах небольшого глухого круга. Я решил запомнить угол, за который надо было сворачивать к таверне. В чужом городе все выглядит необычно даже при дневном свете, когда видишь и другую сторону улицы. По крайней мере Ворота были сейчас ярко освещены сосновыми факелами, укрепленными на столбах и горевшими дымным, потрескивающим красно-зеленым пламенем. Огни виднелись кое-где в незатворенных окнах, откуда выглядывали женщины с пышными блестящими волосами, на плечах у них маслянисто блестели золотые пряжки. По дороге по-прежнему тянулись повозки почти непрерывной вереницей; временами встречалась коляска, на узкой вымощенной дорожке теснились пешеходы. Я сразу же угодил в толчею. Мне нравилось здесь все — даже то, что меня прижимали к стене или чуть не сталкивали в сточную канаву. В случайно пробивавшемся луче или потоке света я мог разглядеть прохожих, их усталые, замкнутые или оживленные, обращенные к друзьям лица, их глава, вспыхивающие быстрым, как ртуть, огоньком. Грубые лица в шрамах, молодые смуглые лица, хитрые лица в глубоких морщинах, словно изрезанные, истерзанные крючками, с которых они жадно хватали наживку, лица, вырубленные топором из узловатой древесины, лица, изваянные из старого камня неспешными руками горного потока, а порой — лицо женщины, похожей на пантеру Вакха, блистающее из темных дебрей волос. Все это уже не раз встречалось мне раньше, да и таверна ничем не отличалась от других. Но сейчас, в бездонных потемках Города, все выглядело совсем по-иному — жутким и манящим. Еще никогда я не чувствовал себя слитым с огромной ночью, полной людей. Даже в Массилии я воспринимал ночь как божественное море, поглощающее все человеческие дела. А здесь я вступил в ночь, наполненную людьми. Казалось, непроглядная ночь впитала в себя их мысли, всосала их пористые тела.
Некоторое время, не опасаясь заблудиться, я шел по главной улице, по которой двигались повозки. Я был уверен, что знаю, в какой стороне Тибр. Мне хотелось хотя бы найти реку и поглядеть на ее мрачные волны, осмотреться в населенной людьми темноте, поглотившей все границы. Я хорошо сделал, что отправился на прогулку. Иначе я задыхался бы всю ночь в комнатушке. Я наткнулся на любовников, которые лежали, обнявшись, на пороге чьих-то дверей; они примолкли, пригревшись на своем тряпичном ложе. Снова залаяла собака. Человек с ручной тележкой проехал мне по ноге колесом, и пошел дальше, что-то непрерывно бормоча. Собака проскочила у меня между ног. Затем, после временного затишья, прогромыхала крытая повозка, нагруженная мешками и корзинами с овощами. Мне приходили на память фразы из «Энеиды», строки из первой книги «Фарсалии», прочитанной мною перед самым отъездом из Кордубы.
Я остановился, прислушиваясь к ожесточенной перебранке двух мужчин, но так и не понял, из-за чего они поссорились. Женщина дернула меня за руку и побежала дальше. Снова кто-то запел «Как лысый муж вернулся с виллы». В затянутой сеткой повозке блеяли козы. С балкона свесилась женщина с распущенными волосами: ее рвало. Башмачник стучал молотком и кашлял. Рим, Матерь народов. Я наступил на черенки горшка из-под рыбного соуса, стал шарить рукой, чтобы узнать, на что я наткнулся, и поранил себе палец. Мимо меня быстро прошел человек, и его силуэт мелькнул на фоне залитого бледным сиянием неба. В дверных проемах прятались бедняки, надеясь, что их не заметят и им удается там соснуть, когда стихнет движение. В тупике, примыкавшем к боковой улочке, шла шумная азартная игра. Чья-то косматая рожа придвинулась ко мне вплотную, и я невольно отшатнулся, услыхав хриплый окрик: «Скоро ты там?» Мне стало не по себе, и я захотел вернуться, но тут потянуло запахом реки. Или это от моей окровавленной руки пахло рыбой? Двое гуляк, пошатываясь, вышли из двери, и она тотчас за ними захлопнулась. Они продолжали орать и драться на улице, когда послышался грохот приближающейся к ним коляски. Я услыхал хруст и поспешил прочь.
Шум усиливался. Я нырнул в переулок. Мне не хотелось быть замешанным в уличный, скандал, в первый же вечер попасть в руки блюстителей порядка. Разве я мог заблудиться, имея такую веху, как Ворота? Но вот в потемках я поскользнулся на нечистотах и грузно привалился к стене. Неожиданно я обхватил обеими руками какой-то предмет, находящийся в нише. Я повис в темноте, чувствуя, что подо мной дыра, бездонная пропасть, в которую проваливались мои беспомощно кружившиеся мысли. Обретя почву под ногами, я начал осторожно ощупывать предмет, за который держался, — изваяние женщины. К ее груди припал младенец. Рогатая голова. Я догадался: Изида. Отступив с благоговением в сторону, я стал вглядываться во мрак, и мне показалось, что я различаю контуры богини-кормилицы, как бы излучавшей слабое золотистое сияние. Поклонившись уличному алтарю, воздвигнутому каким-нибудь местным почитателем богини, я потихоньку удалился. Я свернул направо, в узкий проход, не сомневаясь, что он приведет меня обратно на главную улицу, но через несколько мгновений передо мной открылась река, — цель моих стремлений. Продвигаясь ощупью, я дошел до места, где над низкой кирпичной стеной склонилось высокое дерево, и остановился под ним.
Мимо меня непрестанно текли, тускло отсвечивая, темные воды, белели клочья пены, порой вспыхивающие беглыми искрами. Над головой редели облака, появлялось все больше мигающих звезд. Предзнаменование, желанное предзнаменование! Глядя сверху из гудящей темноты на широкий ток реки, я словно присутствовал при самом зарождении Рима из враждующих и согласных начал. Шорохи, ропот, смутное громыхание растворялись в тишине, в движёнии, обтекающем сверху и снизу надежную и яркую сумятицу дня. Начало всех вещей. Минутная пауза в сновидении, когда возбуждение столь велико, что еще не стряхнувший дрему человек не знает — испытывает ли он страх или желание, ему ясно лишь одно, что он на пороге всецелой метаморфозы, сбрасывания привычных масок. Продажность и предательство, безмятежность и согласие. А воды текут и текут, безжалостные и милостивые…
Какие обряды отражают священный характер последней декады января, поры посева?.. Я постарался вспомнить соответствующие строки из «Фастов» Овидия, которые учил в школе:
Когда я подъезжая к Воротам, вокруг меня уже сгущались хмурые сумерки. Мгла поднималась над землей, все застилая кругом, и навстречу ей спускалась густая серая паутина с тяжело нависшего неба. Шея моей гнедой лошади потемнела от пота, и я пожалел, что гнал ее без передышки после того, как сломалась коляска. Как будто, если бы я не застал последний отсвет дня над Городом, это означало бы неудачу, дурное предзнаменование, какой-то нелепый, опрометчиво допущенный просчет. По небу еще растекалось слабое, призрачное сияние, и от этого все на земле казалось сумбурным и предательски ненадежным. Неразбериха усиливалась у самых Ворот, где в потемках скупо разливал свет смоляной шипящий факел. Наступил час пропуска в Город грузовых повозок. Несколько заждавшихся возничих, громко ругаясь и щелкая бичами, устремились вперед, чтобы проехать первыми. Две повозки сцепились колесами так, что затрещали все деревянные сочленения. Их ринулся объезжать хозяин колесней, на которых были кое-как увязаны бревна; одно из них, скользнув, покатилось по дороге, вызывая злобные крики толпы и проклятия застрявших позади возничих.
— Перевяжи как следует бревна либо поворачивай обратно, — потребовал привратник.
— Разве тут повернешь? — ответил возничий. — Бревна были увязаны надежно. Верно, какой-нибудь прохвост вздумал поживиться!
Между тем к воротам подъезжали все новые возы и крытые повозки.
— Знаю твою мерзкую физиономию, — сказал привратник. — Ты работаешь у Скавра. Не думай, что это тебе пройдет даром.
Подбежал стражник с факелом. Колеблющееся пламя рывком выхватило из потемок разыгравшуюся сцену. Запрыгали тени, потом они сгустились и стали расползаться по земле, готовые поглотить все вокруг. В неверном свете факела лица, осклабленные, испуганные, напряженные, превратились в багровые и зеленые маски с искаженными чертами, со скошенными носами, в разинутых ртах торчали клыки, шевелились длинные уши, в выпученных глазах дико вращались блестящие зрачки. Над толпой возвышался стоявший на бревнах возничий в разорванной тунике, со спутанными волосами, которые падали на глаза, зиявшие, как черные провалы. Я направил свою лошадь между возом и стеной, подальше от привратника. Зеваки, с интересом следившие за перебранкой, теснились у колесней. Их нимало не тревожило, что посунувшиеся набок бревна могли упасть и раздавить их. Я натянул поводья, лошадь вскинула голову, женщина, испугавшись ее оскаленной морды, юркнула под самый воз. Мужчина в кожаном фартуке схватил было меня за колено, но я взмахнул плетью. Женщина с испугу уронила корзину с зеленью.
— Что там творится? — крикнул привратник. Мне удалось проскользнуть мимо колесней.
Мой раб Феникс следовал за мной, хотя в последнюю минуту ему преградила дорогу женщина, которая ткнула в морду его лошади клетку из ивовых прутьев, где шипел гусь. Улица за Воротами была погружена в темноту, лишь кое-где слабо мерцали отсветы факелов; большинство лавок были наглухо закрыты. Лишь в одной еще горел светильник на прилавке, очерчивая световой линией стоявшую перед ним фигуру толстяка. Я придержал лошадь и стал ждать Феникса. Из-за Ворот донесся скрежет копыт по булыжной мостовой. Вскрикнула женщина. Сгустившиеся потемки словно все кругом придавили. В огромном Городе кипела жизнь, но в ней было что-то затаенное и враждебное. Ничего похожего на приветливое сияние, застать которое я торопился весь день. То были полные опасностей заросли, где на каждом шагу меня подстерегали топь или пропасть, логово зверя или засада. Человек, загородивший светильник, прислонился к прилавку и наблюдал за мной. В доме напротив, в окне первого этажа сквозь прореху в занавеске пробивалась полоска света.
Кто-то причитал, кто-то распевал песни. Я сидел, напряженно выпрямившись в седле, прислушиваясь к глухому, как бы подземному гулу ночного города. Проехавший вперед Феникс возвратился.
— Тут поблизости таверна.
— Вот и отлично, — ответил я, довольный, что не надо искать и решать самому. Мы свернули в боковую улочку, поуже и потемнее. По проезжей дороге со скрипом и лязгом двинулась головная крытая повозка, за ней потянулись другие, возничий запел «Как лысый муж вернулся с виллы». В нише над дверью тускло светил фонарь из рога, но мне так и не удалось разобрать надпись на висевшей под ним забрызганной грязью вывеске.
Феникс спрыгнул с коня и постучал. Напротив кто-то плотнее прикрыл ставни. Чуть подальше кто-то выплеснул из окна на улицу содержимое ночного горшка. Стук повозок по мостовой теперь сливался в непрерывный грохот. Залаяла собака. Дверь таверны приотворилась, и оттуда высунулась голова мужчины со всклокоченной бородой, он сердито спросил, что нам нужно.
— Заезжай. — Хозяин вытер рукавом нос. — Только не говори потом, что было слишком темно и ты не мог прочесть цен. Вот они — все выставлены на стене. Я не такой, как иные, — пробормочут себе под нос цену, а наутро сдерут вдвойне. Конюшня вон там, направо.
Я соскочил на землю и стоял, держась рукой за потник, — у меня онемели ноги и кружилась голова.
— Вещи прибудут завтра. Я приехал позднее, чем рассчитывал.
— Не ты первый, не ты последний, — неожиданно развеселившись, пробасил хозяин, и я подосадовал, что пустился в объяснения. — Каких только я не навидался! И таких и сяких. — Он сдавленно хихикнул. — Ежели хочешь содержать таверну, то научись разбираться в людях. А я про них чего не знаю, так того и знать не стоит. — Он отступил в сторону. — Проходи. Помещение не велико, зато чистое. Не то что в иных здешних тавернах, где берут приплату за клопов. Будешь доволен «Пигмеем и слоном».
Он втолкнул меня в комнату, еле освещенную желтым огоньком коптящего светильника, в углу приткнулись трое пьянчуг, что-то сонно бормотавших, а на табурете, выпрямившись, сидела пышная девица, подбирая распустившиеся волосы. Теперь я мог разглядеть круглое измятое лицо хозяина, от одного уха у него мало что осталось, и в прищуренных, мигающих глазках прыгали желтые блики. Возле двери спал загулявший здоровяк, широко раскрыв рот, прислонившись к стене и крепко сжимая в руке пустой кошелек. На стене над ним был нарисован хозяин, подающий вино трем игрокам в кости, и написано: «Честная игра — вот это мне по нутру!» Тут хозяин обратился ко мне:
— Для начала выпьем, а? — Он провел копчиком языка по тонким губам, точно слизывая с них остатки рыбного соуса. — Не какой-нибудь местной дряни! Я вижу, с кем имею делю, ты из тех, кто знает, что ему по душе, и готов платить, когда его не обманывают. Кто-нибудь тебе нахваливал мою таверну? Нет. Жаль. Я люблю, чтобы постояльцы уезжали от меня довольными. Надуешь-то человека только одни раз, а честным путем можно наживаться столько раз, сколько котится кошка. «Ватикан» все же получше уксуса. — Он указал приплюснутым пальцем на пьяниц. — А стоит дешево. Нищие же бывают разборчивы. Лишь бы не блевали на мой чистый пол. Эй, Гедона, принеси-ка самого лучшего вина, до того кувшина с краевой звездой.
У девушки снова распустились волосы. Двое сидевших в углу оглянулись, третий продолжал что-то бормотать, спящий оглушительно захрапел. Служанка закинула волосы за спину, оглядела меня долгим оценивающим взглядом и пошла, шлепая по полу босыми ногами.
— Кто растрепал тебя на этот раз? — спросил хозяин, подмигнув.
— Никто, — ответила она, не оборачиваясь, и вышла — круглая, сочная, как виноградина, налитая спелым соком и солнечным светом.
— Этот твой никто — превредный озорник. — Он снова подмигнул. — Славная девушка, как видишь, я люблю ее подразнить. Мы тут все живем дружно, да и как иначе? Так легче, да и работа лучше спорится. Вот уже три года, как она у меня. Уж такая беспечная девушка. Ленива, как кошка, а свое дело делает. — Он повернулся и людям в углу. — Аммат, ты снова завел свои побасенки. От них людей в сон клонит. — Хозяин подошел к прилавку, где на треножнике кипятилась вода, и заглянул в сосуд, Аммат, ковыряя в носу, равнодушно смотрел на нею.
Гедона принесла вино и остановилась, упершись руками в широкие бедра. Снова всего меня оглядела, подавляя зевоту.
— Откуда?
На ее жарких щеках обозначились ямочки, а глаза были совсем янтарные.
Я улыбнулся и почувствовал, как горячо разлилось у меня по жилам красное вино. Хозяин некоторое время выжидал, что я отвечу, лотом сказал;
— Не задавай вопросов, не услышишь лжи.
— Просто спросила. Он мне кого-то напомнил. Да нет, обозналась.
И, отвернувшись, она вновь принялась закручивать в узел волосы.
Человек, храпевший у двери, упал ничком, и она помогла ему подняться. Я опорожнил кружку и швырнул хозяину, который подхватил ее и сделал вид, что ее тяжесть пригнула его чуть не до полу. Затем он новея меня наверх по боковой лестнице. Шесть нижних ступеней были каменные, а дальше — деревянные. На втором этаже хозяин прошел по коридору до двери и распахнул ее широким жестом. Дверь застряла, и ему пришлось ее приподнять — одна из петель была сорвана.
— Совсем забыл про это, — проговорил он деловым тоном. — Завтра непременно починю.
В руке у него был светильник, и в его тусклом свете я разглядел кровать с соломенным тюфяком и табурет.
— Оставь мне светильник.
— За это добавочная плата. Я предпочитаю не оставлять огня своим постояльцам. Разве нельзя раздеться в темноте? Впрочем, ты, я вижу, трезвый и разумный, уж ладно, пускай остается. — Он почесал всклокоченную бороду. — А теперь заплати мне за все вперед. Ведь так просто выскользнуть отсюда чуть свет, хотя бы у конюшни и сидела на цепи собака. Понятно, я ни на что не намекаю. Но встречается этакий забывчивый народ, да и у всякого заведения свои правила. — Он стал подсчитывать на пальцах. Я достал деньги аз кошелька на поясе. — Ежели тебе понадобится еда, либо вино, не то захочешь женщину, — добавил он, ухмыльнувшись на прощание, — дай знать либо сойди вниз. В любой час, только после полуночи двойная плата.
Он продолжал стоять, словно актер, который позабыл свои прощальные остроты и все ожидает, что его проводят взрывом аплодисментов. Я кивнул, и он наконец ушел, тихонько посмеиваясь. Я проверил окно. Ставни плохо затворялись. Я распахнул их и выглянул наружу. Передо мной чернела каменная стена и полоса тусклого неба. Неподалеку в переулке плакал ребенок. С проезжей дороги доносился непрерывный шум повозок и голоса, то громкие, то затихающие, скрежет колес, звон цепей, звяканье сбруи и надсадное мычание вола., Возничие кричали, щелкали бичи, когда, повозка застревала в колеях дороги, пронзительно ржали кони. Возвращавшиеся домой гуляки нескладно тянули какие-то песни, взвизгнула и засмеялась женщина. Понемногу этот смутный непрерывный шум слился с потемками и стал как бы самой беспредельностью. Мне представлялось, что я парю над неведомым простором Рима, что я уже не заперт в темной и убогой дыре, а охватываю Город во всей его полноте, все его ночное бытие. Теперь я уже не жалел, что приехал слишком поздно и не сбылась моя надежда разом увидеть все его семь холмов, увенчанных храмами и дворцами, его людные улицы, залитые могучим светом ветреного солнечного дня. Мне нравилась таинственная неизмеримость примолкшей разнузданной ночи с ее суровым обещанием иной жизни, опасной и непредвиденной, прозябающей под строгим покровом дня. Я закрыл глаза, и мне почудилось, будто взошла луна. Услыхав дробный шум шагов, я очнулся, и у меня закружилась голова, как в тот момент, когда я спрыгнул с лошади. Вернувшийся из конюшни Феникс поправил ножом фитиль в светильнике, фитиль слегка разгорелся, и на выщербленной оштукатуренной стене обозначилась горбатая тень раба.
Я снова повернулся к окну. Откуда-то потянуло холодом, свежий воздух овеял мне лицо. Пришел конец безветрию, царившему весь день. Передо мной закружился не то клочок папируса, не то сухой лист. Описывая спирали, на мгновение он неподвижно повис, потом его унесло в косматые потемки. Листок, улетевший в неведомый простор.
— Я выйду прогуляться. Оставайся и стереги вещи.
Феникс присел на корточки, и в его темно-карих глазах блеснул испуг, когда он обтирал кургузыми пальцами лезвие ножа. Я потрепал его жесткие волосы и вышел из комнаты. На лестнице я прошел мимо человека, от которого воняло ворванью. Хозяин обслуживал четырех новых посетителей. Я велел принести мне в комнату хлеба, сыра и маслин и заплатил за все.
Увидев, что я выхожу, хозяин прищурился.
— В такой поздний час? Как же ты найдешь дорогу? Ведь ты сказал, что ты здесь чужой?
Ничего такого я ему не говорил и по его взгляду понял, что он меня в чем-то заподозрил. Очевидно, решил, что я должен с кем-то встретиться. Он хотел было взять меня под руку и подвести к двери, но я увернулся, сказав, что просто хочу немного размять ноги, и вышел наружу.
На темной улице меня внезапно охватило чувство свободы. Радовало движение в безгранично раздвигающемся пространстве. Как будто я уже несколько месяцев прожил взаперти в этой комнатушке. И все же темнота ограничивала меня, заключая все мои чувства в пределах небольшого глухого круга. Я решил запомнить угол, за который надо было сворачивать к таверне. В чужом городе все выглядит необычно даже при дневном свете, когда видишь и другую сторону улицы. По крайней мере Ворота были сейчас ярко освещены сосновыми факелами, укрепленными на столбах и горевшими дымным, потрескивающим красно-зеленым пламенем. Огни виднелись кое-где в незатворенных окнах, откуда выглядывали женщины с пышными блестящими волосами, на плечах у них маслянисто блестели золотые пряжки. По дороге по-прежнему тянулись повозки почти непрерывной вереницей; временами встречалась коляска, на узкой вымощенной дорожке теснились пешеходы. Я сразу же угодил в толчею. Мне нравилось здесь все — даже то, что меня прижимали к стене или чуть не сталкивали в сточную канаву. В случайно пробивавшемся луче или потоке света я мог разглядеть прохожих, их усталые, замкнутые или оживленные, обращенные к друзьям лица, их глава, вспыхивающие быстрым, как ртуть, огоньком. Грубые лица в шрамах, молодые смуглые лица, хитрые лица в глубоких морщинах, словно изрезанные, истерзанные крючками, с которых они жадно хватали наживку, лица, вырубленные топором из узловатой древесины, лица, изваянные из старого камня неспешными руками горного потока, а порой — лицо женщины, похожей на пантеру Вакха, блистающее из темных дебрей волос. Все это уже не раз встречалось мне раньше, да и таверна ничем не отличалась от других. Но сейчас, в бездонных потемках Города, все выглядело совсем по-иному — жутким и манящим. Еще никогда я не чувствовал себя слитым с огромной ночью, полной людей. Даже в Массилии я воспринимал ночь как божественное море, поглощающее все человеческие дела. А здесь я вступил в ночь, наполненную людьми. Казалось, непроглядная ночь впитала в себя их мысли, всосала их пористые тела.
Некоторое время, не опасаясь заблудиться, я шел по главной улице, по которой двигались повозки. Я был уверен, что знаю, в какой стороне Тибр. Мне хотелось хотя бы найти реку и поглядеть на ее мрачные волны, осмотреться в населенной людьми темноте, поглотившей все границы. Я хорошо сделал, что отправился на прогулку. Иначе я задыхался бы всю ночь в комнатушке. Я наткнулся на любовников, которые лежали, обнявшись, на пороге чьих-то дверей; они примолкли, пригревшись на своем тряпичном ложе. Снова залаяла собака. Человек с ручной тележкой проехал мне по ноге колесом, и пошел дальше, что-то непрерывно бормоча. Собака проскочила у меня между ног. Затем, после временного затишья, прогромыхала крытая повозка, нагруженная мешками и корзинами с овощами. Мне приходили на память фразы из «Энеиды», строки из первой книги «Фарсалии», прочитанной мною перед самым отъездом из Кордубы.
Я остановился, прислушиваясь к ожесточенной перебранке двух мужчин, но так и не понял, из-за чего они поссорились. Женщина дернула меня за руку и побежала дальше. Снова кто-то запел «Как лысый муж вернулся с виллы». В затянутой сеткой повозке блеяли козы. С балкона свесилась женщина с распущенными волосами: ее рвало. Башмачник стучал молотком и кашлял. Рим, Матерь народов. Я наступил на черенки горшка из-под рыбного соуса, стал шарить рукой, чтобы узнать, на что я наткнулся, и поранил себе палец. Мимо меня быстро прошел человек, и его силуэт мелькнул на фоне залитого бледным сиянием неба. В дверных проемах прятались бедняки, надеясь, что их не заметят и им удается там соснуть, когда стихнет движение. В тупике, примыкавшем к боковой улочке, шла шумная азартная игра. Чья-то косматая рожа придвинулась ко мне вплотную, и я невольно отшатнулся, услыхав хриплый окрик: «Скоро ты там?» Мне стало не по себе, и я захотел вернуться, но тут потянуло запахом реки. Или это от моей окровавленной руки пахло рыбой? Двое гуляк, пошатываясь, вышли из двери, и она тотчас за ними захлопнулась. Они продолжали орать и драться на улице, когда послышался грохот приближающейся к ним коляски. Я услыхал хруст и поспешил прочь.
Шум усиливался. Я нырнул в переулок. Мне не хотелось быть замешанным в уличный, скандал, в первый же вечер попасть в руки блюстителей порядка. Разве я мог заблудиться, имея такую веху, как Ворота? Но вот в потемках я поскользнулся на нечистотах и грузно привалился к стене. Неожиданно я обхватил обеими руками какой-то предмет, находящийся в нише. Я повис в темноте, чувствуя, что подо мной дыра, бездонная пропасть, в которую проваливались мои беспомощно кружившиеся мысли. Обретя почву под ногами, я начал осторожно ощупывать предмет, за который держался, — изваяние женщины. К ее груди припал младенец. Рогатая голова. Я догадался: Изида. Отступив с благоговением в сторону, я стал вглядываться во мрак, и мне показалось, что я различаю контуры богини-кормилицы, как бы излучавшей слабое золотистое сияние. Поклонившись уличному алтарю, воздвигнутому каким-нибудь местным почитателем богини, я потихоньку удалился. Я свернул направо, в узкий проход, не сомневаясь, что он приведет меня обратно на главную улицу, но через несколько мгновений передо мной открылась река, — цель моих стремлений. Продвигаясь ощупью, я дошел до места, где над низкой кирпичной стеной склонилось высокое дерево, и остановился под ним.
Мимо меня непрестанно текли, тускло отсвечивая, темные воды, белели клочья пены, порой вспыхивающие беглыми искрами. Над головой редели облака, появлялось все больше мигающих звезд. Предзнаменование, желанное предзнаменование! Глядя сверху из гудящей темноты на широкий ток реки, я словно присутствовал при самом зарождении Рима из враждующих и согласных начал. Шорохи, ропот, смутное громыхание растворялись в тишине, в движёнии, обтекающем сверху и снизу надежную и яркую сумятицу дня. Начало всех вещей. Минутная пауза в сновидении, когда возбуждение столь велико, что еще не стряхнувший дрему человек не знает — испытывает ли он страх или желание, ему ясно лишь одно, что он на пороге всецелой метаморфозы, сбрасывания привычных масок. Продажность и предательство, безмятежность и согласие. А воды текут и текут, безжалостные и милостивые…
Какие обряды отражают священный характер последней декады января, поры посева?.. Я постарался вспомнить соответствующие строки из «Фастов» Овидия, которые учил в школе:

 Я проснулся задолго до рассвета, унылый и расстроенный — на меня угнетающе действовало выпитое накануне вино, а еще больше — то, что выявилось благодаря вину. Мне хотелось поговорить с Луканом, но я знал, что это невозможно в столь ранний час. В саду резко прокричал павлин, недавно привезенный из одного поместья, где у Лукана было множество редкостных птиц. Сквозь полузатворенные ставни сочился тусклый свет, от которого было еще легко отгородиться. Рабы уже поднялись — было слышно, как они болтают, переставляют мебель, бегают. Дорожка, ведущая к их помещениям, проходила под моим окном. В противоположном крыле жили Лукан, Полла и ее старая тетка, редко появлявшаяся к столу, и до них не доносилась утренняя суета; порой я завидовал этому преимуществу, лежа в постели без сна. Сейчас я чувствовал себя не в своей тарелке, веки у меня опухли. Послышался звонок. Сигнал для рабов, разбитых на группы по десять человек, приниматься за уборку и чистку. Я сел на ложе, рассеянно оглядывая комод, стенной шкаф, ночной горшок и складной стул, составлявшие всю обстановку. Сейчас все эти предметы казались разрозненными и чужими, словно ждали, чтобы я уехал и освободил место для неизвестного мне человека. Черные и коричневые узоры на стене нагоняли тоску. Постояв на коврике, я босиком прошелся по красному мозаичному полу и выглянул в сад, где взад и вперед сновали слуги.
Раб приставил лесенку к стене и разговаривал с девушкой, загораживая дорогу, пока его не окрикнул надсмотрщик. Мне показалось, что я узнал Герму. Но, приглядевшись внимательнее, я увидел только розовый куст. Зевнув, я начал одеваться. Я долго раздумывал, следует ли мне сменить шерстяную рубаху, продравшуюся на боку. Затем я направился к комоду взять набедренную повязку и тунику с короткими рукавами. Все валилось из рук, и мне стоило немалых усилий поднять вещи с полу. Трудно было стаскивать через голову рубаху, завязывать повязку вокруг бедер, зашнуровывать сандалии. Все это надо было делать усердно и терпеливо, снова и снова. Я зевал во весь рот и досадовал на Феникса, все еще спавшего, но позвать его я был не в состоянии. Потом, когда он заглянул в дверь и с испугом увидел меня одетым, я резко спросил его, куда он запропастился, и отказался от завтрака.
Я направился в библиотеку за свитком. Рабы посыпали полы опилками и сметали их пальмовыми листьями и ветками тамариска, столкнувшись друг с другом, останавливались поболтать за колоннами, даже играли в кости. Один из них мочился на мраморную скамью и, заметив меня, в ужасе нырнул в кусты. Прежде чем они меня заметили, мне в сандалии набились опилки. Тут они упали передо мною на колени и стали умолять не выдавать их. Я пошел дальше раздраженный, меня беспокоили опилки, но я не стал переобуваться и вытряхивать их из сандалий. Какой смысл жить, если время уходит вот на такие мелочи? Ничего другого как будто не было. Сколько часов трачу я, да и любой другой человек, на всякие бессмысленные пустяки, а между тем жизнь проносится мимо, как видение. Пока не наступит день, когда придет всему конец и окажется, что ничего не сделано, только мириады вздорных мелочей. Вместе с тем я чувствовал, что, отказываясь вытряхнуть опилки из сандалий, делаю это кому-то в отместку, не то себе, не то Лукану, который — я был твердо убежден — никогда не отзывался хвалебно о моих стихах, не то всем на свете. Остановись я вытряхнуть опилки, от этого ничего бы не изменилось. Я все-таки сделал бы это в отместку Лукану, себе, кому угодно, потратив время на такое пустячное дело, которое вместе с другими подобными делами составляет содержание всей жизни. Сделай это или не сделай, не избавиться от дилеммы. Сделай или не сделай. Я наткнулся на раба, который, стоя на цыпочках, полировал карниз колонны, надсмотрщик расхаживал с бичом, пощелкивая им или стегая рабов по ягодицам.
— Эй ты, чисти столовое серебро. А ты что по сторонам зеваешь? Пошевеливайся, не то я тебя переведу в группу рассыльных! — В доме царил невероятный беспорядок.
В библиотеке ни души. На полке рядом с чернильницей и пером лежала рукопись с текстом малоизвестной речи, произнесенной во времена Республики, которую переписывал библиотекарь. В нишах стояли бюсты Энния и Вергилия, оба презрительно глядели на фреску, изображавшую Лукана, беседующего со своей не слишком привлекательной музой. Здесь царил крепкий запах кедрового масла, от которого у меня слезились глаза и трещала голова. Все же я не хотел уходить. В одном ящике я нашел элегии Проперция и развернул первый свиток, чтобы посмотреть на его портрет, помещенный в начале. Но гладкое чело и теплые карие глаза поэта не выдавали страданий и радостей, выраженных в его стихах, он взирал на своих потомков доверчиво, совсем не так, как смотрел в свое время на неверную Кинфию. Меня взволновало и показалось удивительным, что поэт мог так живо и четко изобразить беспорядок в спальне вольноотпущенницы с расхлябанной походкой, даже такие еле уловимые подробности, как складки и запахи ее сорочки, постаревшие линии шеи и неизменную округлость полных плеч, а вот я едва мог вспомнить, как выглядела спальня, которую только что покинул. Эти строки о неряшливой спальне распущенной женщины с синяками под похотливыми глазами казались мне интереснее, более значительными и вечными, чем мрамор и бронза, увековечившие образ Юпитера, Минервы и Юноны на Капитолийском холме. Я решил уничтожить свою поэму «О платане, посаженном Гаем Юлием Цезарем в Кордубе». Этим произведением я очень гордился, когда отправлялся в путь, но, к счастью, не показал его никому в Риме. Скучная, раболепная поэма — сейчас я прекрасно это сознавал, — лишенная как вызывающей язвительности «Фарсалии», так и сложного чувственного аромата артистически выраженных жалоб, написанных на туалетном столике Кинфии среди банок с румянами, белилами и салом, сохранившим отпечаток длинного тонкого пальца.
Подняв голову, я увидел, что вошла Герма. Она опустила глаза и вспыхнула, пролепетав, что пришла за свитком для своей госпожи. Я был уверен, что она явилась, чтобы побыть со мной. Уверен, что она стала доставать свиток с высокой полки книжного шкафа, стоящего в третьем ряду, лишь для того, чтобы я оценил ее гибкие, грациозные движения. Когда я предложил свою помощь, Герма растерянно поглядела в сторожу и глубоко вздохнула.
— О, благодарю, не надо. — Мне захотелось подойти к ней сзади и обнять ее, но я удержался, вспомнив о Цедиции.
— Твоя госпожа много читает?
Она трижды кивнула с серьезным видом, поджав губы. Я спросил, умеет ли она сама читать. Она кивнула один раз. В таком случае, сказал я, она должна читать со мной Катулла или Проперция. Она улыбнулась. Но когда я сделал вид, что хочу ее поймать, она отпрянула с приглушенным смешком и убежала. Мне понравилось, что так удачно закончилась эта что-то обещавшая встреча, которую мне не хотелось ни испортить, ни продлить.
Захватив свиток, я вернулся в свою комнату и с помощью Феникса облачился в тогу. Затем пересек атрий и очутился в толпе клиентов с давно примелькавшимися физиономиями, они подшучивали над грузным угрюмым привратником, обступив слугу, который сортировал посетителей, пропуская вперед тех, что побогаче, и оттесняя одетых в скромные тоги, явившихся за подачкой в шесть с четвертью сестерций и отправлявшихся отсюда в другие богатые дома или обратно в свои лавки. Я скромно пристал к почетным посетителям и с гордостью, к которой примешивалась досада, подумал о разнице между своим теперешним признанным положением и презрительным обращением, какое я встретил в день своего приезда.
Занавеси на двери раздвинулись, и через несколько мгновений к нам вышел Лукан. Он выглядел нездоровым, у него опухли глаза и лицо было все в пятнах, но на губах застыла любезная улыбка; он приветствовал всех по старшинству, и у него нашлось слово для квестора, для сына сенатора, для банкира. Затем мы прошли в комнату, где ожидали простолюдины. Разговоры тотчас же смолкли, и стало тихо. Лукан начал обходить просителей с бесстрастно-вежливым выражением.
— Мы давно тебя не видели, — сказал он человеку, который плаксиво жаловался, что вынужден был лежать из-за больной ноги.
— Я дал знать домоправителю, господин, я сказал ему, кто меня лечит, я чуть не умер.
Другой проситель протиснулся к Лукану и стал рассказывать про болезнь своей жены, у которой распухли колени, и про маленьких детей, оставшихся без ухода; третий объяснял, что ему пришлось заплатить за похороны отца в Вейах; еще кто-то просил оказать ему юридическую помощь. Лукан пощупал у кого-то тогу.
— Тонковата. Мой домоправитель выдаст тебе тогу потеплее из кладовой.
Затем Лукан удалился во внутренние покои, и толпа клиентов сомкнулась вокруг домоправителя, требуя от него помощи, какую им посулили слова, улыбки и взгляды Лукана: кто просил добавочной суммы денег, кто одежды, кто рекомендательного письма. Домоправитель бесцеремонно прогнал всех, кроме отдельных лиц, которым Лукан определенно что-нибудь обещал, от них нельзя было отделаться.
— Пошел прочь! — прикрикнул он на одного старика. — Ты даже не назвал его господином, ничего ты не получишь!
Старик застонал и стал слезно клясться, что он дважды отчетливо называл своего благодетеля господином. Он призывал окружающих в свидетели. Но никто из клиентов не взглянул на старика, и двое рабов живо вытолкали его наружу.
Домоправителя позвали, и я снова пошел к Лукану. Тот советовался с банкиром по поводу крупного займа, о котором просил сын сенатора. Не так давно я узнал, что он вел крупные операции по займам и закладам, хотя и в гораздо более скромных размерах, чем его отец и дядя. Мела освободил его от отцовской опеки, и он был совсем самостоятелен в финансовых делах, мне приходилось слышать, как он толкует о поместьях в Испании, о капиталовложениях в Сирии, о земельных участках в Этрурии и Африке, о недвижимом имуществе в Риме стоимостью в добрых пять миллионов. Крупные средства были вложены им в корабли и в товары. При всем том он задумал соорудить на свои средства крупную библиотеку в Кордубе и щедро помогал нуждающимся.
Я намекнул ему, что прошу уделить мне несколько минут для важного разговора. Умоляюще взглянув на меня, он обещал повидаться со мною попозже вечером или же утром на следующий день. В соседней комнате водяные часы издали свистящее бульканье, и он повел всех нас посмотреть на это устройство. Поплавки отмечали час, подбрасывая в воздух камушки и издавая свист. Эту штуку установили уже при мне механики из Александрии. Когда я собрался уходить, Лукан дал мне поручение к Афранию, предупредив, что тот выходит из Сената в шестом часу. Я должен был сказать: «Голубь прилетел с опозданием». Я не успел спросить, что означала эта условная фраза. Лукан торопился, он должен был присутствовать при вскрытии завещания умершего сенатора.
Я отправился через Аргилет, за мной плелся Феникс. Двух других своих рабов, доставивших мой багаж, я передал в распоряжение домоправителя на все время своего пребывания у Лукана. Для своих личных нужд я обходился одним Фениксом. По дороге я снова присматривался к цирюльникам, сапожникам, сукновалам, торговцам цветами, к девушкам, искусно вплетавшим бумажные нити в драгоценные шелковые ткани, привезенные из Китая. Атрект, стоявший у порога своей лавки, заметил меня и поклонился. Я купил у него недорогой, сильно испачканный список произведений Персия. «Перечту его повнимательнее, — подумал я, — во всяком случае, приятно иметь такую редкость». Миновав храм Януса с запертыми дверьми, я вышел на площадь Комиций. Здесь некогда гремели пламенные ораторы, и люди внимали им, зная, что от их решения зависит ход истории, судьба государства. Внезапно я ощутил бурную, разнообразную и могучую жизнь древней Республики и сравнил ее с духовным застоем и лукавством своих современников. Я понял, что имели в виду преторианцы. Теперь никто не смел говорить открыто. Мысли прокладывали себе извилистый путь под порогом сознания. Будучи осознаны, они метались и петляли в поисках надлежащей словесной формы. Этот процесс стал до того привычным, что мы даже перестали его замечать. Я вспомнил жалобы Марциала на отсутствие некоторых книг в публичных библиотеках. Они были втихомолку оттуда изъяты и уничтожены. «Нет надобности устраивать показные сожжения книг, как при Тиберии. У нас имеются более надежные способы контролировать умы».
Я осмотрелся вокруг и как бы впервые по-настоящему увидел Рим. Некогда должностные лица вели ожесточенные споры на рострах, открыто сталкивались интересы крупных землевладельцев и плебеев, люди голосовали в собраниях, которые впоследствии упразднил Тиберий. Книги Саллюстия, Ливия, речи Гракхов, Цицерона и многих других, Кальв и Целий Руф ожили для меня, обрели новую глубину и силу. Не только стилистические упражнения на заданные темы, как их изображали нам в школе, но выражение подлинных чувств людей, действовавших всерьез, боровшихся не на жизнь, а на смерть за содержание, форму и направление, какое должна была принять государственная жизнь. Впервые я осознал природу государственной власти, ее влияние на общество, которое имеет неотразимую силу, хотя бы граждане не отдавали себе в этом отчета. В самом деле, чем меньше они ощущают это влияние, тем могущественнее оно формирует их сознание. И я понял, как глубоко заблуждаются все известные мне философы, за исключением киников, которых я презирал, — утверждая, что представители государственной власти всегда разделяют интересы своих граждан и стоят выше и в стороне от их разногласий.
В глубине площади стояла Курия с беломраморным портиком. Я медленно подошел к зданию, словно это и в самом деле был священный храм, где обитала золотая Победа Рима. Статуи кружились и обступали меня, словно хотели вновь заключить в круг великолепных иллюзий, от которых я освобождался. Я разглядывал облицованный мрамором и местами оштукатуренный фасад, высокие бронзовые двери, тимпан, а над ним карниз из травертина. Возле алтаря Победы и окружающих его египетских трофеев восседали незримые сенаторы, и все еще царила атмосфера величия. Но теперь я знал, что подлинное величие было достоянием прошлого, а ныне оно стало декорацией, которой прикрывали раболепие и интриги. У меня был еще час времени, и я не захотел оставаться здесь.
Я спустился по лестнице и миновал место, где было сожжено тело Цезаря, затем святилище Сатурна и круглый храм Весты, где за решеткой ограды среди колонн мерцало пламя вечного огня и высокое дерево бросало тень на красную черепицу; базилику Юлия и храм Кастора, стоя у которого я несколько дней назад наблюдал, как скульпторы во дворе ваяли статуи гениев. Но вот я вступил в кварталы, где происходило энергичное строительство. Образцовая улица с регулярными портиками была почти закончена, хотя повсюду еще виднелись груды камня и кирпича, кучи бревен, и штукатуры трудились вовсю. Со временем весь Рим должен был уподобиться этой широкой парадной улице, хотя бы и не удалось повсюду возвести галереи по обеим сторонам улиц. Улица примыкала к террасе, которая являлась преддверием Золотого Дома, где предполагалось установить колоссальную статую Нерона. Нерон намеревался между холмами Палатином, Целием и Эквилином прорыть неглубокую широкую долину площадью около двухсот акров и разбить великолепный, искусно спланированный парк с рощами и лужайками, где бродили бы стада, дикие звери, где были бы уединенные уголки и большое озеро. В этом окружении предполагалось воздвигнуть императорскую виллу, украшенную драгоценными камнями, перламутром, слоновой костью, алебастром и мрамором всех сортов. Здесь и сейчас было весьма оживленно; взад и вперед сновали придворные, рабы, солдаты, разодетые бездельники с прилизанными волосами, пахнущими кассией, соглядатаи, сводники, чиновники.
Я вернулся к Курии и стал ждать. Наконец стали поодиночке появляться сенаторы, окруженные многочисленной свитой. Вскоре я увидел Афрания, который разглагольствовал довольно пронзительным голосом. Я поклонился. Он кивнул мне, и я присоединился к его клиентам. Сенаторы обсуждали злободневные политические новости, между прочим, толковали о людях, чьи имена красовались в «Ежедневных ведомостях», вывешенных у входа в императорскую канцелярию. Я уже заметил, что читавших «Ведомости» не слишком занимали опубликованные там новости. Обычно они все это уже знали. Преимущественно их интересовало, почему опубликовано то или иное сообщение, в каком оно дано освещении и в каких выражениях. По данной формулировке пытались определить, каково будет повышение или опала. Я слыхал, что недавно в «Ведомостях» было опубликовано известие о взыскании Мелей крупных сумм с его должников, что повело и банкротству нескольких финансистов, причастных к сбору налогов в Азии, и повлияло на политический климат целого ряда городов в Киликии.
Мне вспомнилось, что несколько лет назад Нерон предложил упразднить все подати и налоги; теперь это казалось мне рассчитанным политическим ходом. Сенаторы одобрили его побуждения, но в панике стали протестовать против меры, от которой жестоко пострадала бы торговли и разорились бы налоговые компании, неимоверно наживавшиеся в провинциях. Мы в Кордубе пришли было в восторг, хотя члены Совета, владевшие крупными поместьями, и ворчали, что отмена налогов повлечет за собой новые и еще более многочисленные конфискации. Разве не придется государству с отменой налогов для изыскании средств завладеть землями свободных поселян, а может быть, и мастерскими, Изготовляющими кирпич, цемент и гончарные изделия? Шепотом говорили, что логическим завершением подобной меры будет контроль государства над всем хозяйством. А это пугало даже владельцев небольших поместий и мастерских. Радовались только мошенники, надеявшиеся, что отмена налогов поведет и сдаче в аренду государственных мастерских компаниям оборотистых предпринимателей. Как бы то ни было, в Риме сенаторы быстро объединились против проекта.
Теперь меня поражало, что в иных вопросах император был бессилен; Нерон старался ввести закон, регулирующий подоходное обложение. Прежде оно составляло государственную тайну. Теперь ставки обложения были обнародованы, чтобы с ними мог познакомиться любой гражданин. Нерон потребовал также, чтобы сборщики податей не взыскивали недоимки более годичной давности, и жалобы на них рассматривались без промедления преторами в Риме и правителями провинций. Кроме того, он отменил некоторые обременительные налоги. Однако я знал, что сборщики продолжали их взимать за спиной императорских чиновников, а порой и в сговоре с ними. В то время все мы считали, что Нерон всецело занят заботами о благосостоянии своих подданных. Теперь я задавал себе вопрос: что побуждало его к этому? Не посоветовал ли ему Сенека? Но мне было известно, что Сенека вел крупные дела с Мелой, Луканом и другими членами их группы. Впрочем, у императора могли самостоятельно возникнуть либеральные идеи на основании каких-нибудь рассуждений Сенеки, к которым он прислушивался, когда был еще юн и упорно мечтал о царстве справедливости и о всеобщем благополучии.
Афраний с усмешкой вынул золотые карманные солнечные часы с драгоценными камнями, обозначавшими цифры, не с тем чтобы узнать время, но чтобы похвастаться перед присутствующими. Высокий сутулый сенатор жаловался, что жизнь в Городе расшатывает нервы. Скоро в Риме останутся только дворцы да трущобы, не будет места для людей среднего достатка и благоразумным людям придется селиться возле рощ Пинция или Дникула. Он предполагал в скором времени оставить дела и переехать в деревню. Афраний рассказывал о своем приятеле, который заплатил двадцать тысяч за глухого возницу, поскольку глухие не болтливы.
О подобных предметах говорили громко. Подойдя поближе к Афранию, я услышал уже другие речи, полные намеков. Тразея Пет вновь не явился на заседание, отказываясь присутствовать в Сенате, где никто не смеет высказать свое мнение. Один сенатор сообщил, что подголосок придворных упомянул о людях, «которые громко говорят, чтобы ничего не сказать, и напоминают о себе своим отсутствием». Эти слова воспринимались как намек, что против Пета будут приняты меры. В каком тоне они были высказаны? Быть может, это было лишь предупреждение, чтобы другие не следовали дурному примеру? Отправят ли его в изгнание или вежливо предложат ему вскрыть себе вены? Окажутся ли замешанными в дело люди, осмеливающиеся до сих пор с ним обедать или его навещать? Все одобряли эти смелые догадки, но если бы их прижали к Стене, они ответили бы угодливо, что не усматривали здесь никакого намека, а просто восхищались изящной антитезой.
Обсуждались и кое-какие юридические вопросы, не вполне для меня ясные, о взаимоотношениях с государством уцелевшего со времен Республики Кассационного суда, где заседали присяжные представители среднего сословия: подчинен ли он юрисдикции городского претора, которому императоры поручали важные дела? Несколько лет назад Валерия Понтика обвинили, что он передавал дела претору с тем, чтобы они, по предварительному сговору, были проиграны и не попали к префекту, который, разумеется, действовал исключительно в интересах цезаря. Суд присяжных вызывал подозрения. На нынешней сессии Сената раздавались упреки «некоторым лицам, которые с неуместной поспешностьюобращаются к квестору», однако никто не понял, кого именно имели в виду. Сенатор, которого считали доброжелателем Пета и Пакония, поднялся и спросил, не является ли это клеветой на суд, действующий с полного согласия императора. Все решили, что он поступил опрометчиво и может навлечь на себя суровую кару. Другой сенатор, друживший, как было известно, с префектом Тигеллином, возражая ему, спросил, как может благонамеренный гражданин отвечать перед судом, представлявшим собою предосудительный пережиток времен буйного произвола, которому божественный цезарь положил предел, покончив с классовыми раздорами и установив в обществе порядок и мир; ныне всякий благонамеренный гражданин захочет предстать перед судом, которому непосредственно переданы полномочия милостивым цезарем, либо перед судом Сената под председательством самого цезаря. Продолжительные аплодисменты. Спор закончился, начали копаться в каких-то мелочах, значение которых от меня ускользало.
Афраний отошел в сторону и взял меня под руку. Я осторожно передал ему условную фразу. Он озабоченно нахмурился, потом поблагодарил меня и удалился со свойственным ему беспечным видом. Я уже слышал, почему он был недоволен Нероном. Тот написал шутливые стихи, в которых явно намекал на Афрания: в них высмеивались его изнеженность и огорчение по поводу кое-каких придворных назначений:
Я проснулся задолго до рассвета, унылый и расстроенный — на меня угнетающе действовало выпитое накануне вино, а еще больше — то, что выявилось благодаря вину. Мне хотелось поговорить с Луканом, но я знал, что это невозможно в столь ранний час. В саду резко прокричал павлин, недавно привезенный из одного поместья, где у Лукана было множество редкостных птиц. Сквозь полузатворенные ставни сочился тусклый свет, от которого было еще легко отгородиться. Рабы уже поднялись — было слышно, как они болтают, переставляют мебель, бегают. Дорожка, ведущая к их помещениям, проходила под моим окном. В противоположном крыле жили Лукан, Полла и ее старая тетка, редко появлявшаяся к столу, и до них не доносилась утренняя суета; порой я завидовал этому преимуществу, лежа в постели без сна. Сейчас я чувствовал себя не в своей тарелке, веки у меня опухли. Послышался звонок. Сигнал для рабов, разбитых на группы по десять человек, приниматься за уборку и чистку. Я сел на ложе, рассеянно оглядывая комод, стенной шкаф, ночной горшок и складной стул, составлявшие всю обстановку. Сейчас все эти предметы казались разрозненными и чужими, словно ждали, чтобы я уехал и освободил место для неизвестного мне человека. Черные и коричневые узоры на стене нагоняли тоску. Постояв на коврике, я босиком прошелся по красному мозаичному полу и выглянул в сад, где взад и вперед сновали слуги.
Раб приставил лесенку к стене и разговаривал с девушкой, загораживая дорогу, пока его не окрикнул надсмотрщик. Мне показалось, что я узнал Герму. Но, приглядевшись внимательнее, я увидел только розовый куст. Зевнув, я начал одеваться. Я долго раздумывал, следует ли мне сменить шерстяную рубаху, продравшуюся на боку. Затем я направился к комоду взять набедренную повязку и тунику с короткими рукавами. Все валилось из рук, и мне стоило немалых усилий поднять вещи с полу. Трудно было стаскивать через голову рубаху, завязывать повязку вокруг бедер, зашнуровывать сандалии. Все это надо было делать усердно и терпеливо, снова и снова. Я зевал во весь рот и досадовал на Феникса, все еще спавшего, но позвать его я был не в состоянии. Потом, когда он заглянул в дверь и с испугом увидел меня одетым, я резко спросил его, куда он запропастился, и отказался от завтрака.
Я направился в библиотеку за свитком. Рабы посыпали полы опилками и сметали их пальмовыми листьями и ветками тамариска, столкнувшись друг с другом, останавливались поболтать за колоннами, даже играли в кости. Один из них мочился на мраморную скамью и, заметив меня, в ужасе нырнул в кусты. Прежде чем они меня заметили, мне в сандалии набились опилки. Тут они упали передо мною на колени и стали умолять не выдавать их. Я пошел дальше раздраженный, меня беспокоили опилки, но я не стал переобуваться и вытряхивать их из сандалий. Какой смысл жить, если время уходит вот на такие мелочи? Ничего другого как будто не было. Сколько часов трачу я, да и любой другой человек, на всякие бессмысленные пустяки, а между тем жизнь проносится мимо, как видение. Пока не наступит день, когда придет всему конец и окажется, что ничего не сделано, только мириады вздорных мелочей. Вместе с тем я чувствовал, что, отказываясь вытряхнуть опилки из сандалий, делаю это кому-то в отместку, не то себе, не то Лукану, который — я был твердо убежден — никогда не отзывался хвалебно о моих стихах, не то всем на свете. Остановись я вытряхнуть опилки, от этого ничего бы не изменилось. Я все-таки сделал бы это в отместку Лукану, себе, кому угодно, потратив время на такое пустячное дело, которое вместе с другими подобными делами составляет содержание всей жизни. Сделай это или не сделай, не избавиться от дилеммы. Сделай или не сделай. Я наткнулся на раба, который, стоя на цыпочках, полировал карниз колонны, надсмотрщик расхаживал с бичом, пощелкивая им или стегая рабов по ягодицам.
— Эй ты, чисти столовое серебро. А ты что по сторонам зеваешь? Пошевеливайся, не то я тебя переведу в группу рассыльных! — В доме царил невероятный беспорядок.
В библиотеке ни души. На полке рядом с чернильницей и пером лежала рукопись с текстом малоизвестной речи, произнесенной во времена Республики, которую переписывал библиотекарь. В нишах стояли бюсты Энния и Вергилия, оба презрительно глядели на фреску, изображавшую Лукана, беседующего со своей не слишком привлекательной музой. Здесь царил крепкий запах кедрового масла, от которого у меня слезились глаза и трещала голова. Все же я не хотел уходить. В одном ящике я нашел элегии Проперция и развернул первый свиток, чтобы посмотреть на его портрет, помещенный в начале. Но гладкое чело и теплые карие глаза поэта не выдавали страданий и радостей, выраженных в его стихах, он взирал на своих потомков доверчиво, совсем не так, как смотрел в свое время на неверную Кинфию. Меня взволновало и показалось удивительным, что поэт мог так живо и четко изобразить беспорядок в спальне вольноотпущенницы с расхлябанной походкой, даже такие еле уловимые подробности, как складки и запахи ее сорочки, постаревшие линии шеи и неизменную округлость полных плеч, а вот я едва мог вспомнить, как выглядела спальня, которую только что покинул. Эти строки о неряшливой спальне распущенной женщины с синяками под похотливыми глазами казались мне интереснее, более значительными и вечными, чем мрамор и бронза, увековечившие образ Юпитера, Минервы и Юноны на Капитолийском холме. Я решил уничтожить свою поэму «О платане, посаженном Гаем Юлием Цезарем в Кордубе». Этим произведением я очень гордился, когда отправлялся в путь, но, к счастью, не показал его никому в Риме. Скучная, раболепная поэма — сейчас я прекрасно это сознавал, — лишенная как вызывающей язвительности «Фарсалии», так и сложного чувственного аромата артистически выраженных жалоб, написанных на туалетном столике Кинфии среди банок с румянами, белилами и салом, сохранившим отпечаток длинного тонкого пальца.
Подняв голову, я увидел, что вошла Герма. Она опустила глаза и вспыхнула, пролепетав, что пришла за свитком для своей госпожи. Я был уверен, что она явилась, чтобы побыть со мной. Уверен, что она стала доставать свиток с высокой полки книжного шкафа, стоящего в третьем ряду, лишь для того, чтобы я оценил ее гибкие, грациозные движения. Когда я предложил свою помощь, Герма растерянно поглядела в сторожу и глубоко вздохнула.
— О, благодарю, не надо. — Мне захотелось подойти к ней сзади и обнять ее, но я удержался, вспомнив о Цедиции.
— Твоя госпожа много читает?
Она трижды кивнула с серьезным видом, поджав губы. Я спросил, умеет ли она сама читать. Она кивнула один раз. В таком случае, сказал я, она должна читать со мной Катулла или Проперция. Она улыбнулась. Но когда я сделал вид, что хочу ее поймать, она отпрянула с приглушенным смешком и убежала. Мне понравилось, что так удачно закончилась эта что-то обещавшая встреча, которую мне не хотелось ни испортить, ни продлить.
Захватив свиток, я вернулся в свою комнату и с помощью Феникса облачился в тогу. Затем пересек атрий и очутился в толпе клиентов с давно примелькавшимися физиономиями, они подшучивали над грузным угрюмым привратником, обступив слугу, который сортировал посетителей, пропуская вперед тех, что побогаче, и оттесняя одетых в скромные тоги, явившихся за подачкой в шесть с четвертью сестерций и отправлявшихся отсюда в другие богатые дома или обратно в свои лавки. Я скромно пристал к почетным посетителям и с гордостью, к которой примешивалась досада, подумал о разнице между своим теперешним признанным положением и презрительным обращением, какое я встретил в день своего приезда.
Занавеси на двери раздвинулись, и через несколько мгновений к нам вышел Лукан. Он выглядел нездоровым, у него опухли глаза и лицо было все в пятнах, но на губах застыла любезная улыбка; он приветствовал всех по старшинству, и у него нашлось слово для квестора, для сына сенатора, для банкира. Затем мы прошли в комнату, где ожидали простолюдины. Разговоры тотчас же смолкли, и стало тихо. Лукан начал обходить просителей с бесстрастно-вежливым выражением.
— Мы давно тебя не видели, — сказал он человеку, который плаксиво жаловался, что вынужден был лежать из-за больной ноги.
— Я дал знать домоправителю, господин, я сказал ему, кто меня лечит, я чуть не умер.
Другой проситель протиснулся к Лукану и стал рассказывать про болезнь своей жены, у которой распухли колени, и про маленьких детей, оставшихся без ухода; третий объяснял, что ему пришлось заплатить за похороны отца в Вейах; еще кто-то просил оказать ему юридическую помощь. Лукан пощупал у кого-то тогу.
— Тонковата. Мой домоправитель выдаст тебе тогу потеплее из кладовой.
Затем Лукан удалился во внутренние покои, и толпа клиентов сомкнулась вокруг домоправителя, требуя от него помощи, какую им посулили слова, улыбки и взгляды Лукана: кто просил добавочной суммы денег, кто одежды, кто рекомендательного письма. Домоправитель бесцеремонно прогнал всех, кроме отдельных лиц, которым Лукан определенно что-нибудь обещал, от них нельзя было отделаться.
— Пошел прочь! — прикрикнул он на одного старика. — Ты даже не назвал его господином, ничего ты не получишь!
Старик застонал и стал слезно клясться, что он дважды отчетливо называл своего благодетеля господином. Он призывал окружающих в свидетели. Но никто из клиентов не взглянул на старика, и двое рабов живо вытолкали его наружу.
Домоправителя позвали, и я снова пошел к Лукану. Тот советовался с банкиром по поводу крупного займа, о котором просил сын сенатора. Не так давно я узнал, что он вел крупные операции по займам и закладам, хотя и в гораздо более скромных размерах, чем его отец и дядя. Мела освободил его от отцовской опеки, и он был совсем самостоятелен в финансовых делах, мне приходилось слышать, как он толкует о поместьях в Испании, о капиталовложениях в Сирии, о земельных участках в Этрурии и Африке, о недвижимом имуществе в Риме стоимостью в добрых пять миллионов. Крупные средства были вложены им в корабли и в товары. При всем том он задумал соорудить на свои средства крупную библиотеку в Кордубе и щедро помогал нуждающимся.
Я намекнул ему, что прошу уделить мне несколько минут для важного разговора. Умоляюще взглянув на меня, он обещал повидаться со мною попозже вечером или же утром на следующий день. В соседней комнате водяные часы издали свистящее бульканье, и он повел всех нас посмотреть на это устройство. Поплавки отмечали час, подбрасывая в воздух камушки и издавая свист. Эту штуку установили уже при мне механики из Александрии. Когда я собрался уходить, Лукан дал мне поручение к Афранию, предупредив, что тот выходит из Сената в шестом часу. Я должен был сказать: «Голубь прилетел с опозданием». Я не успел спросить, что означала эта условная фраза. Лукан торопился, он должен был присутствовать при вскрытии завещания умершего сенатора.
Я отправился через Аргилет, за мной плелся Феникс. Двух других своих рабов, доставивших мой багаж, я передал в распоряжение домоправителя на все время своего пребывания у Лукана. Для своих личных нужд я обходился одним Фениксом. По дороге я снова присматривался к цирюльникам, сапожникам, сукновалам, торговцам цветами, к девушкам, искусно вплетавшим бумажные нити в драгоценные шелковые ткани, привезенные из Китая. Атрект, стоявший у порога своей лавки, заметил меня и поклонился. Я купил у него недорогой, сильно испачканный список произведений Персия. «Перечту его повнимательнее, — подумал я, — во всяком случае, приятно иметь такую редкость». Миновав храм Януса с запертыми дверьми, я вышел на площадь Комиций. Здесь некогда гремели пламенные ораторы, и люди внимали им, зная, что от их решения зависит ход истории, судьба государства. Внезапно я ощутил бурную, разнообразную и могучую жизнь древней Республики и сравнил ее с духовным застоем и лукавством своих современников. Я понял, что имели в виду преторианцы. Теперь никто не смел говорить открыто. Мысли прокладывали себе извилистый путь под порогом сознания. Будучи осознаны, они метались и петляли в поисках надлежащей словесной формы. Этот процесс стал до того привычным, что мы даже перестали его замечать. Я вспомнил жалобы Марциала на отсутствие некоторых книг в публичных библиотеках. Они были втихомолку оттуда изъяты и уничтожены. «Нет надобности устраивать показные сожжения книг, как при Тиберии. У нас имеются более надежные способы контролировать умы».
Я осмотрелся вокруг и как бы впервые по-настоящему увидел Рим. Некогда должностные лица вели ожесточенные споры на рострах, открыто сталкивались интересы крупных землевладельцев и плебеев, люди голосовали в собраниях, которые впоследствии упразднил Тиберий. Книги Саллюстия, Ливия, речи Гракхов, Цицерона и многих других, Кальв и Целий Руф ожили для меня, обрели новую глубину и силу. Не только стилистические упражнения на заданные темы, как их изображали нам в школе, но выражение подлинных чувств людей, действовавших всерьез, боровшихся не на жизнь, а на смерть за содержание, форму и направление, какое должна была принять государственная жизнь. Впервые я осознал природу государственной власти, ее влияние на общество, которое имеет неотразимую силу, хотя бы граждане не отдавали себе в этом отчета. В самом деле, чем меньше они ощущают это влияние, тем могущественнее оно формирует их сознание. И я понял, как глубоко заблуждаются все известные мне философы, за исключением киников, которых я презирал, — утверждая, что представители государственной власти всегда разделяют интересы своих граждан и стоят выше и в стороне от их разногласий.
В глубине площади стояла Курия с беломраморным портиком. Я медленно подошел к зданию, словно это и в самом деле был священный храм, где обитала золотая Победа Рима. Статуи кружились и обступали меня, словно хотели вновь заключить в круг великолепных иллюзий, от которых я освобождался. Я разглядывал облицованный мрамором и местами оштукатуренный фасад, высокие бронзовые двери, тимпан, а над ним карниз из травертина. Возле алтаря Победы и окружающих его египетских трофеев восседали незримые сенаторы, и все еще царила атмосфера величия. Но теперь я знал, что подлинное величие было достоянием прошлого, а ныне оно стало декорацией, которой прикрывали раболепие и интриги. У меня был еще час времени, и я не захотел оставаться здесь.
Я спустился по лестнице и миновал место, где было сожжено тело Цезаря, затем святилище Сатурна и круглый храм Весты, где за решеткой ограды среди колонн мерцало пламя вечного огня и высокое дерево бросало тень на красную черепицу; базилику Юлия и храм Кастора, стоя у которого я несколько дней назад наблюдал, как скульпторы во дворе ваяли статуи гениев. Но вот я вступил в кварталы, где происходило энергичное строительство. Образцовая улица с регулярными портиками была почти закончена, хотя повсюду еще виднелись груды камня и кирпича, кучи бревен, и штукатуры трудились вовсю. Со временем весь Рим должен был уподобиться этой широкой парадной улице, хотя бы и не удалось повсюду возвести галереи по обеим сторонам улиц. Улица примыкала к террасе, которая являлась преддверием Золотого Дома, где предполагалось установить колоссальную статую Нерона. Нерон намеревался между холмами Палатином, Целием и Эквилином прорыть неглубокую широкую долину площадью около двухсот акров и разбить великолепный, искусно спланированный парк с рощами и лужайками, где бродили бы стада, дикие звери, где были бы уединенные уголки и большое озеро. В этом окружении предполагалось воздвигнуть императорскую виллу, украшенную драгоценными камнями, перламутром, слоновой костью, алебастром и мрамором всех сортов. Здесь и сейчас было весьма оживленно; взад и вперед сновали придворные, рабы, солдаты, разодетые бездельники с прилизанными волосами, пахнущими кассией, соглядатаи, сводники, чиновники.
Я вернулся к Курии и стал ждать. Наконец стали поодиночке появляться сенаторы, окруженные многочисленной свитой. Вскоре я увидел Афрания, который разглагольствовал довольно пронзительным голосом. Я поклонился. Он кивнул мне, и я присоединился к его клиентам. Сенаторы обсуждали злободневные политические новости, между прочим, толковали о людях, чьи имена красовались в «Ежедневных ведомостях», вывешенных у входа в императорскую канцелярию. Я уже заметил, что читавших «Ведомости» не слишком занимали опубликованные там новости. Обычно они все это уже знали. Преимущественно их интересовало, почему опубликовано то или иное сообщение, в каком оно дано освещении и в каких выражениях. По данной формулировке пытались определить, каково будет повышение или опала. Я слыхал, что недавно в «Ведомостях» было опубликовано известие о взыскании Мелей крупных сумм с его должников, что повело и банкротству нескольких финансистов, причастных к сбору налогов в Азии, и повлияло на политический климат целого ряда городов в Киликии.
Мне вспомнилось, что несколько лет назад Нерон предложил упразднить все подати и налоги; теперь это казалось мне рассчитанным политическим ходом. Сенаторы одобрили его побуждения, но в панике стали протестовать против меры, от которой жестоко пострадала бы торговли и разорились бы налоговые компании, неимоверно наживавшиеся в провинциях. Мы в Кордубе пришли было в восторг, хотя члены Совета, владевшие крупными поместьями, и ворчали, что отмена налогов повлечет за собой новые и еще более многочисленные конфискации. Разве не придется государству с отменой налогов для изыскании средств завладеть землями свободных поселян, а может быть, и мастерскими, Изготовляющими кирпич, цемент и гончарные изделия? Шепотом говорили, что логическим завершением подобной меры будет контроль государства над всем хозяйством. А это пугало даже владельцев небольших поместий и мастерских. Радовались только мошенники, надеявшиеся, что отмена налогов поведет и сдаче в аренду государственных мастерских компаниям оборотистых предпринимателей. Как бы то ни было, в Риме сенаторы быстро объединились против проекта.
Теперь меня поражало, что в иных вопросах император был бессилен; Нерон старался ввести закон, регулирующий подоходное обложение. Прежде оно составляло государственную тайну. Теперь ставки обложения были обнародованы, чтобы с ними мог познакомиться любой гражданин. Нерон потребовал также, чтобы сборщики податей не взыскивали недоимки более годичной давности, и жалобы на них рассматривались без промедления преторами в Риме и правителями провинций. Кроме того, он отменил некоторые обременительные налоги. Однако я знал, что сборщики продолжали их взимать за спиной императорских чиновников, а порой и в сговоре с ними. В то время все мы считали, что Нерон всецело занят заботами о благосостоянии своих подданных. Теперь я задавал себе вопрос: что побуждало его к этому? Не посоветовал ли ему Сенека? Но мне было известно, что Сенека вел крупные дела с Мелой, Луканом и другими членами их группы. Впрочем, у императора могли самостоятельно возникнуть либеральные идеи на основании каких-нибудь рассуждений Сенеки, к которым он прислушивался, когда был еще юн и упорно мечтал о царстве справедливости и о всеобщем благополучии.
Афраний с усмешкой вынул золотые карманные солнечные часы с драгоценными камнями, обозначавшими цифры, не с тем чтобы узнать время, но чтобы похвастаться перед присутствующими. Высокий сутулый сенатор жаловался, что жизнь в Городе расшатывает нервы. Скоро в Риме останутся только дворцы да трущобы, не будет места для людей среднего достатка и благоразумным людям придется селиться возле рощ Пинция или Дникула. Он предполагал в скором времени оставить дела и переехать в деревню. Афраний рассказывал о своем приятеле, который заплатил двадцать тысяч за глухого возницу, поскольку глухие не болтливы.
О подобных предметах говорили громко. Подойдя поближе к Афранию, я услышал уже другие речи, полные намеков. Тразея Пет вновь не явился на заседание, отказываясь присутствовать в Сенате, где никто не смеет высказать свое мнение. Один сенатор сообщил, что подголосок придворных упомянул о людях, «которые громко говорят, чтобы ничего не сказать, и напоминают о себе своим отсутствием». Эти слова воспринимались как намек, что против Пета будут приняты меры. В каком тоне они были высказаны? Быть может, это было лишь предупреждение, чтобы другие не следовали дурному примеру? Отправят ли его в изгнание или вежливо предложат ему вскрыть себе вены? Окажутся ли замешанными в дело люди, осмеливающиеся до сих пор с ним обедать или его навещать? Все одобряли эти смелые догадки, но если бы их прижали к Стене, они ответили бы угодливо, что не усматривали здесь никакого намека, а просто восхищались изящной антитезой.
Обсуждались и кое-какие юридические вопросы, не вполне для меня ясные, о взаимоотношениях с государством уцелевшего со времен Республики Кассационного суда, где заседали присяжные представители среднего сословия: подчинен ли он юрисдикции городского претора, которому императоры поручали важные дела? Несколько лет назад Валерия Понтика обвинили, что он передавал дела претору с тем, чтобы они, по предварительному сговору, были проиграны и не попали к префекту, который, разумеется, действовал исключительно в интересах цезаря. Суд присяжных вызывал подозрения. На нынешней сессии Сената раздавались упреки «некоторым лицам, которые с неуместной поспешностьюобращаются к квестору», однако никто не понял, кого именно имели в виду. Сенатор, которого считали доброжелателем Пета и Пакония, поднялся и спросил, не является ли это клеветой на суд, действующий с полного согласия императора. Все решили, что он поступил опрометчиво и может навлечь на себя суровую кару. Другой сенатор, друживший, как было известно, с префектом Тигеллином, возражая ему, спросил, как может благонамеренный гражданин отвечать перед судом, представлявшим собою предосудительный пережиток времен буйного произвола, которому божественный цезарь положил предел, покончив с классовыми раздорами и установив в обществе порядок и мир; ныне всякий благонамеренный гражданин захочет предстать перед судом, которому непосредственно переданы полномочия милостивым цезарем, либо перед судом Сената под председательством самого цезаря. Продолжительные аплодисменты. Спор закончился, начали копаться в каких-то мелочах, значение которых от меня ускользало.
Афраний отошел в сторону и взял меня под руку. Я осторожно передал ему условную фразу. Он озабоченно нахмурился, потом поблагодарил меня и удалился со свойственным ему беспечным видом. Я уже слышал, почему он был недоволен Нероном. Тот написал шутливые стихи, в которых явно намекал на Афрания: в них высмеивались его изнеженность и огорчение по поводу кое-каких придворных назначений:

 Флавий Сцевин провел несколько часов с гладу на глаз с Наталисом. Он возвратился домой с воспаленными глазами, нетвердой походкой. После ванны он несколько протрезвел и заявил, что намерен писать завещание. Жена пыталась отговорить его и уложить в постель. Но он настоял на том, чтобы созвали старших слуг. В присутствии их и клиентов, своих приближенных, он продиктовал завещание секретарю, дал подписать свидетелям и приложил печать. В этом завещании он отпускал на волю пятую часть рабов (больше не разрешал закон, а у него их было около пятисот); сделав несколько двусмысленных замечаний по поводу доли, с благодарностью и преданностью выделяемой императору, он завещал все остальное имущество жене, о которой сказал: «Лучшая из римских матрон. Надеюсь, остальные последуют ее примеру». Были розданы мелкие подарки друзьям и приверженцам. Рабы выли, клиенты униженно благодарили. Он крикнул, чтобы они замолчали, и велел принести из спальни кинжал с длинным, превосходно закаленным лезвием и покрытой резьбой рукоятью из слоновой кости. Попробовав острие, он нашел его тупым и передал вольноотпущеннику Милиху, приказав наточить.
После этого он возлег с женой к обеду. Некоторое время он молчал, слушая чтение стихов Луцилия и Лукреция. Потом помрачнел. Игра на лире его несколько воодушевила. Несмотря на возражения жёны, он тут же на месте освободил несколько рабов. Затем спросил Милиха, наточен ли кинжал.
— Однажды я заколол им вепря. Зверь рыл землю и портил хлеба в моем сабинском поместье. Убив его, я совершил акт милосердия и справедливости — таким должно быть всякое убийство.
Он уколол острием большой палец и казался взволнованным. Выпив немного вина, он приказал Милиху приготовить корпии и бинтов.
— Надо быть готовым к любым случайностям. Ныне и ежедневно. — Жене наконец удалось, уложить его в постель. — Изнасилован собственной женой! — завопил он. — Вот до чего довели римлян вольности! Пора нам всем взяться за ум и изучать философию.
Милих просидел некоторое время с кинжалом на коленях, потом спрятал его в нишу. К нему подошла, прихрамывая, его жена, приземистая, коренастая женщина.
— Только один вопрос… — Сперва он не хотел поднять глаза и сидел, зажав руки меж колен. Она взяла его за подбородок, приподняла ему голову. Он вглядывался в ее широкое, плоское лицо, мутные, грязно-серые глаза. На подбородке у нее дрожала волосатая родинка. — Кто первый сообщит новость?
Он посмотрел на нее глубоко запавшими глазами, словно пытаясь уловить в ее взгляде тень сомнения или колебания. Потом провел рукой по своему худому длинному лицу.
— Ты права. Но мне это не по душе.
— У тебя нет выбора: либо обвинять, либо быть обвиненным.
Он тяжело вздохнул, вздрогнув всем своим тощим телом.
— Я не хочу ни того, ни другого.
— Или — или.
— В таких делах, если вмешаешься, будешь нелюб обеим сторонам. Чего доброго, они станут меня пытать.
— Не станут, если ты опередишь. Как я тебе говорила. Иди первым.
Он все смотрел на нее. В ней было что-то неумолимое. Камень вот-вот упадет. Ее тело — тяжелый столб, не пройдешь сквозь него. Он заморгал, протянул руку и положил на ее твердую грудь.
— Все так. Но мне страшно. А что, если они мне не поверят?
— Они поверят нам. — Она веяла его руку в свои, отступила назад и подняла его на ноги. Он покачнулся и ухватился за нее. Она прижалась к нему своим крепким, массивным телом.
— Принеси кинжал.
Утро еще не занималось, когда он постучался у ворот Садов Сервилия. Рядом с ним стояла закутанная в плащ жена, положив свою грубую руку ему на плечо. После коротких переговоров раб-привратник повел его к вольноотпущеннику императора Эпафродиту, тот сидел, покачиваясь, полузакрыв глаза, его завитые волосы сбились на сторону, щека была запачкана золотой краской, разбавленное вино пролилось ему на колени. С минуту он слушал, барабаня пальцами по пустой чаше, отбивая ритм блуждавшей у него в голове мелодии. Он казался сонным, но вдруг встрепенулся и хлопнул рукой по лбу, чтобы убедиться, что больше не спит. Заморгал и окончательно проснулся.
— Да, тебя выслушает Божественный. Если ты лжешь, готовься к мучительной смерти.
Губы его искривились, он усмехнулся, поскреб щеку в том месте, где краска стягивала кожу, и взглянул на свои золоченые ногти.
— Он не лжет, — сказала жена. — Вот кинжал.
— Я не высказываю своего мнения, просто уведомляю тебя. Пойдем. Захвати эту штуку. Живо.
Нерон спал. Эпафродит был допущен в опочивальню, из прихожей внесли светильни, ибо в комнате было полутемно, горел лишь ночник у кровати; рабы сновали взад и вперед, перешептываясь. Эпафродит глубоко вздохнул и сжал руки.
— Что такое? — гневно пробормотал Нерон, его пухлые щеки казались огромными и раздутыми в колеблющемся свете, выпученные глаза блестели, круглые, как у рыбы, но вот они спрятались в складках желтого лица среди пятен румянца. — Пошел вон.
Он грузно повернулся, натянул на себя простыню и что-то проворчал. Вольноотпущенник не уходил и почтительно настаивал на своем. Толстое лицо снова выглянуло.
— Великий, ты должен проснуться.
— Пошел вон. Наплевать мне на вас.
Служанки разбудили Поппею. Она вошла в голубом покрывале, наспех заколотом под грудью. Ее маленькие золоченые сандалии стучали по полу, и на них сверкали рубины. Тонкие руки были обнажены.
— Что случилось? — обратилась она с оттенком презрения к Эпафродиту, и голос ее звучал молодо и повелительно, но порой как-то срывался. Она откинула назад маленькую головку, подвижную, как у птицы, но глаза смотрели устало и озабоченно и вокруг них разбегались морщинки.
— Пришел человек с сообщением, с этим нельзя медлить. Оно звучит убедительно и несет опасность. Но я не могу ручаться за его правдивость.
Нерон перевалился на другой бок и сел на ложе.
— Что вы меня мучаете? Ненавижу вас всех! — Его сиплый голос пресекся, и он закашлялся. Он протянул руку. Раб тотчас же вложил ему в руку чашу с вином. Он отпил из нее, тяжело перевел дыхание. Поппея дала знак Эпафродиту ввести доносчика и села на табурет в ногах кровати. Милих, которого стража грубо обыскала, вошел, согнувшись, низко кланяясь, глаза у него перекосились от страха и ужаса.
— Ну, в чем дело? — рявкнул Нерон, он сплюнул на пол и старался смотреть в одну точку, — Выкладывай, а не то я все кишки из тебя выпущу.
Милих подошел поближе, жена стояла позади него, крепко сжимая рукой ему плечо.
Флавий Сцевин провел несколько часов с гладу на глаз с Наталисом. Он возвратился домой с воспаленными глазами, нетвердой походкой. После ванны он несколько протрезвел и заявил, что намерен писать завещание. Жена пыталась отговорить его и уложить в постель. Но он настоял на том, чтобы созвали старших слуг. В присутствии их и клиентов, своих приближенных, он продиктовал завещание секретарю, дал подписать свидетелям и приложил печать. В этом завещании он отпускал на волю пятую часть рабов (больше не разрешал закон, а у него их было около пятисот); сделав несколько двусмысленных замечаний по поводу доли, с благодарностью и преданностью выделяемой императору, он завещал все остальное имущество жене, о которой сказал: «Лучшая из римских матрон. Надеюсь, остальные последуют ее примеру». Были розданы мелкие подарки друзьям и приверженцам. Рабы выли, клиенты униженно благодарили. Он крикнул, чтобы они замолчали, и велел принести из спальни кинжал с длинным, превосходно закаленным лезвием и покрытой резьбой рукоятью из слоновой кости. Попробовав острие, он нашел его тупым и передал вольноотпущеннику Милиху, приказав наточить.
После этого он возлег с женой к обеду. Некоторое время он молчал, слушая чтение стихов Луцилия и Лукреция. Потом помрачнел. Игра на лире его несколько воодушевила. Несмотря на возражения жёны, он тут же на месте освободил несколько рабов. Затем спросил Милиха, наточен ли кинжал.
— Однажды я заколол им вепря. Зверь рыл землю и портил хлеба в моем сабинском поместье. Убив его, я совершил акт милосердия и справедливости — таким должно быть всякое убийство.
Он уколол острием большой палец и казался взволнованным. Выпив немного вина, он приказал Милиху приготовить корпии и бинтов.
— Надо быть готовым к любым случайностям. Ныне и ежедневно. — Жене наконец удалось, уложить его в постель. — Изнасилован собственной женой! — завопил он. — Вот до чего довели римлян вольности! Пора нам всем взяться за ум и изучать философию.
Милих просидел некоторое время с кинжалом на коленях, потом спрятал его в нишу. К нему подошла, прихрамывая, его жена, приземистая, коренастая женщина.
— Только один вопрос… — Сперва он не хотел поднять глаза и сидел, зажав руки меж колен. Она взяла его за подбородок, приподняла ему голову. Он вглядывался в ее широкое, плоское лицо, мутные, грязно-серые глаза. На подбородке у нее дрожала волосатая родинка. — Кто первый сообщит новость?
Он посмотрел на нее глубоко запавшими глазами, словно пытаясь уловить в ее взгляде тень сомнения или колебания. Потом провел рукой по своему худому длинному лицу.
— Ты права. Но мне это не по душе.
— У тебя нет выбора: либо обвинять, либо быть обвиненным.
Он тяжело вздохнул, вздрогнув всем своим тощим телом.
— Я не хочу ни того, ни другого.
— Или — или.
— В таких делах, если вмешаешься, будешь нелюб обеим сторонам. Чего доброго, они станут меня пытать.
— Не станут, если ты опередишь. Как я тебе говорила. Иди первым.
Он все смотрел на нее. В ней было что-то неумолимое. Камень вот-вот упадет. Ее тело — тяжелый столб, не пройдешь сквозь него. Он заморгал, протянул руку и положил на ее твердую грудь.
— Все так. Но мне страшно. А что, если они мне не поверят?
— Они поверят нам. — Она веяла его руку в свои, отступила назад и подняла его на ноги. Он покачнулся и ухватился за нее. Она прижалась к нему своим крепким, массивным телом.
— Принеси кинжал.
Утро еще не занималось, когда он постучался у ворот Садов Сервилия. Рядом с ним стояла закутанная в плащ жена, положив свою грубую руку ему на плечо. После коротких переговоров раб-привратник повел его к вольноотпущеннику императора Эпафродиту, тот сидел, покачиваясь, полузакрыв глаза, его завитые волосы сбились на сторону, щека была запачкана золотой краской, разбавленное вино пролилось ему на колени. С минуту он слушал, барабаня пальцами по пустой чаше, отбивая ритм блуждавшей у него в голове мелодии. Он казался сонным, но вдруг встрепенулся и хлопнул рукой по лбу, чтобы убедиться, что больше не спит. Заморгал и окончательно проснулся.
— Да, тебя выслушает Божественный. Если ты лжешь, готовься к мучительной смерти.
Губы его искривились, он усмехнулся, поскреб щеку в том месте, где краска стягивала кожу, и взглянул на свои золоченые ногти.
— Он не лжет, — сказала жена. — Вот кинжал.
— Я не высказываю своего мнения, просто уведомляю тебя. Пойдем. Захвати эту штуку. Живо.
Нерон спал. Эпафродит был допущен в опочивальню, из прихожей внесли светильни, ибо в комнате было полутемно, горел лишь ночник у кровати; рабы сновали взад и вперед, перешептываясь. Эпафродит глубоко вздохнул и сжал руки.
— Что такое? — гневно пробормотал Нерон, его пухлые щеки казались огромными и раздутыми в колеблющемся свете, выпученные глаза блестели, круглые, как у рыбы, но вот они спрятались в складках желтого лица среди пятен румянца. — Пошел вон.
Он грузно повернулся, натянул на себя простыню и что-то проворчал. Вольноотпущенник не уходил и почтительно настаивал на своем. Толстое лицо снова выглянуло.
— Великий, ты должен проснуться.
— Пошел вон. Наплевать мне на вас.
Служанки разбудили Поппею. Она вошла в голубом покрывале, наспех заколотом под грудью. Ее маленькие золоченые сандалии стучали по полу, и на них сверкали рубины. Тонкие руки были обнажены.
— Что случилось? — обратилась она с оттенком презрения к Эпафродиту, и голос ее звучал молодо и повелительно, но порой как-то срывался. Она откинула назад маленькую головку, подвижную, как у птицы, но глаза смотрели устало и озабоченно и вокруг них разбегались морщинки.
— Пришел человек с сообщением, с этим нельзя медлить. Оно звучит убедительно и несет опасность. Но я не могу ручаться за его правдивость.
Нерон перевалился на другой бок и сел на ложе.
— Что вы меня мучаете? Ненавижу вас всех! — Его сиплый голос пресекся, и он закашлялся. Он протянул руку. Раб тотчас же вложил ему в руку чашу с вином. Он отпил из нее, тяжело перевел дыхание. Поппея дала знак Эпафродиту ввести доносчика и села на табурет в ногах кровати. Милих, которого стража грубо обыскала, вошел, согнувшись, низко кланяясь, глаза у него перекосились от страха и ужаса.
— Ну, в чем дело? — рявкнул Нерон, он сплюнул на пол и старался смотреть в одну точку, — Выкладывай, а не то я все кишки из тебя выпущу.
Милих подошел поближе, жена стояла позади него, крепко сжимая рукой ему плечо.

 Я опасался подвоха. Центурион подтолкнул меня дружелюбно и пренебрежительно, сказав, чтобы я поскорей убирался. Солдат провел меня к задней калитке, и не успел я проскочить, как он ее захлопнул. Весь сжавшись, я поспешно удалился. На улице уже не видно было легионеров. Но в Риме еще не восстановилась нормальная жизнь с ее деловым шумом. Мне чудилось, что прохожие показывают на меня пальцем, говорят о моем аресте, сторонятся меня. Однако никто обо мне не говорил, никто не обращал на меня внимания. Эти люди тоже чувствовали всю непрочность своей свободы, им мерещились тени, следующие за ними но пятам, тени людей, которые вот-вот схватят их и станут задавать вопросы, на которые нет ответа. Они чувствовали, что им вынесен смертный приговор и они лишь на время отпущены на поруки. Подобно им, я радовался, что меня толкают со всех сторон. Затерянный среди тысяч беззаботных людей, для которых я был лишь досадной преградой на пути, я радовался даже яркому свету, слепившему глаза. Грязный, впервые в жизни заросший щетиной, я слился с уличным потоком и был мучительно отторгнут от прошлого. Через некоторое время, осмелев, я стал вглядываться в лица людей. К моему огорчению, оказалось, что все они далеко не беззаботны, но замкнуты, суровы и чужды друг другу, как камешки, что швыряет на берег прибой. Мне как никогда захотелось уйти в себя. И вместе с тем меня подмывало совершить какой-нибудь замечательный поступок и дать выход обуревавшей меня безымянной радости. Как-нибудь выразить свою благодарность за чудесный дар жизни. И все же самые обыкновенные вещи казались сейчас странными и невозможными. Зайти в погребок и перекинуться словом-другим с соседом, помочиться в чан сукновала, спросить, сколько стоит банка горчицы или пучок лупина, поглазеть на заклинателя змей из племени марсов, размахивающего свитком с толкованиями снов. В этих повседневных поступках раскрывался весь смысл существования. Этих поступков я еще не смел совершить, опасаясь привлечь к себе внимание. По временам меня так одолевал страх, смешанный с восторгом, что я шел, пошатываясь как пьяный. Я знал, что стоит мне заговорить, как я стану запинаться или понесу всякий вздор.
Денег нет, идти некуда. Нечего и думать возвращаться в дом Лукана. Но все же я направлялся к нему, хотя и извилистым путем. Куда же еще? От легионеров я слышал о смерти Лукана. Конечно, теперь они перестали интересоваться его домом. Но если мне и не грозит опасность, какой прием окажет мне Полла? Погруженный в свои мысли, я ходил взад и вперед у парадного входа. Все как обычно, только странная тишина, не видно ни рабов, ни клиентов, двери закрыты. Они, несомненно, на запоре. Я удалился. Прямо на Форум. Зайти в храм Близнецов и принести обет? Но я повернул назад и на сей раз прошел к задней калитке. Постояв с минуту, я постучал. Я разглядывал царапины на стене, пытаясь уловить в них некий знакомый образ. Послышались шаги, и я испугался, что меня примут за какую-нибудь подозрительную личность, увидев мою разорванную одежду и неумытое лицо. Мне не отпирали. Я постучал громче. Снова и снова. Наконец скрипнул засов. Калитка слегка приотворилась.
— Впусти меня, — попросил я.
Раб узнал меня. Я проскользнул в сад. Он сообщил, что уже несколько дней, как ушли легионеры, что госпожа больна.
Я сказал, что хочу ее видеть. Он ушел. Я остался ждать в глубине сада. Носком сандалии я прочертил дорожку муравью, обремененному ношей. Наверняка она Захочет меня увидеть. Я вообразил картину встречи. Слезы и сетования. Потом успокоение, ласки. Как же иначе? Это в порядке вещей. У меня потеплело на душе, возродились надежды. В мирном солнечном свете цветы, безмолвная птица. Я помог еще одному муравью. Пролетевший мимо миртового куста воробей повернул ко мне голову, но не издал ни звука. Тут ко мне подошел домоправитель. Как всегда спокойный. Он сухо сообщил мне, что Полла по состоянию здоровья может уделить мне лишь несколько минут, и правел меня к ней. Она лежала на парчовом ложе, откинувшись на подушки, поблекшая, очень бледная, глаза ее стали огромными и были обведены синими кругами.
— Почему тебя отпустили? — спросила она слабым, мертвенным голосом. — Кого ты предал?
— Никого. Я слишком незначительная личность, чтобы меня убивать.
Она пристально посмотрела мне в лицо.
— В таком деле нет незначительных людей. — Лицо ее исказилось от боли. — Почему ты остался жив, когда он умер? Разве одно это не предательство?
Меня поразило, какую боль выражали ее маленькие сжатые руки. Но приступ скорби миновал. Она глядела на меня без слез, широко раскрытыми глазами, приоткрыв рот. И все же это была знакомая мне Полла, она интересовалась мной, и я еще мог привлечь ее к себе.
— Они допрашивали меня, и я рассказал им то немногое, что мне было известно. Какой смысл было отрицать то, что до меня признали куда более достойные люди? — Я почувствовал горечь в своем тоне и умолк, потом прибавил с печалью: — Он умер задолго до того, как велели говорить мне. Уверяю тебя, я для них не представлял интереса. Я слышал, как легионеры говорили о нем.
Теперь мне было стыдно, что ко мне отнеслись так снисходительно, так небрежно. На самом деле я отрицал, что мне было известно о заговоре, и сказал лишь одно: Лукан как-то упомянул, что ему может понадобиться отправить со мной в Бетику срочное послание. Казалось, Тигеллин лучше Лукана представлял себе всю незначительность моей роли. Он выслушал меня равнодушно. Мне не предъявили никаких обвинений, лишь подвергли допросу. Лукан уже умер, и, вероятно, они решили, что нет смысла заставлять меня повторять известные вещи. Внезапно мне пришло в голову: быть может, Тигеллин хотел проследить, не напишу ли я Гальбе и именитым людям Кордубы или не отправлюсь ли сразу туда сообщить им о катастрофе. Или Тигеллин был в хороших отношениях с Гальбой и не хотел направить суд по следу, который мог привести к тому. Меня путала и сбивала с толку мысль, что я всего лишь игрушка в его руках. Было нестерпимо думать, что за мной наблюдают и вот-вот снова меня схватят.
Мой голос дрогнул, словно я чувствовал свою вину, и лицо Поллы стало отчужденным. Все же я правильно поступил, скрыв от нее, что на допросе ничего не сказал о заговоре. Наш разговор могли подслушать, кому-нибудь поручили наблюдать за всем, что делалось в доме. Я даже опасался, что Полла может меня предать, если подвернется случай. Из желания отомстить за Лукана или спасая себя.
— Что бы там ни было, — медленно сказала она, глядя на меня с презрением и в гневе, что я намекнул на моральное падение Лукана во время допроса, — ты спасен. Хотя бы ценой лжи и предательства. Ты ответишь за это перед своей совестью, если только у тебя есть совесть.
— Я любил его, — проговорил я и впервые почувствовал, что он умер. Умер подлинной смертью, а не так, как побежденные во время игры дети, что вскакивают и вновь бросаются в бой. Мои глаза наполнились слезами. Я искренне горевал. Я испытывал к нему какую-то особенную любовь. Но скорбь моя была глубже этой непрочной любви. Я скорбел обо всем, что утратил с его смертью. О не-дописанных им поэмах и о тех, которые никогда не будут написаны. О своих собственных поэмах. С болью в сердце я думал о том, что он верил в поэзию и готов был умереть за нее, даже если в последнюю минуту и поддался малодушию. О благородстве, каким были проникнуты его сочинения. О всецело овладевшем им стремлении к высокой цели, о страстной, пламенной жажде братского общения, которую он порой обнаруживал. Все было растоптано железной пятой власти. Я скорбел и о том, что умерло во мне. Чего я еще не мог назвать. Скорбел о мире, осиротевшем с уходом моего друга. Я посмотрел на Поллу. Она, конечно, отзовется на мое горе и разделит его.
Глаза ее были сухи. Словно она ничего не переживала. Мне было досадно, что она не горюет об умершем поэте.
— Слова дешево стоят, — произнесла она. — Да и слезы. Мы плачем о себе. Я не плачу.
Она была одета небрежно, волосы были гладко зачесаны назад и скреплены узлом на затылке.
— Могу ли я чем-нибудь тебе помочь?
— Ничем.
Я почувствовал, что дело мое проиграно. Она сидела неподвижно, положив руки на колени. Мне захотелось броситься к ее ногам, но вместо этого я посмотрел на нее долгим взглядом, не вызвавшим никакого отклика. Я так надеялся убедить ее, что не купил освобождение ценой предательства. Но мне это не удалось. Оставаться дольше значило бы только вредить себе. Выйдя из комнаты, я подумал, что по крайней мере не разыграл дурака, понадеявшись, что она питает ко мне какие-то чувства, И еще понял, что ее скорбь неизмеримо глубже моей. По правде сказать, сейчас я ничего не чувствовал. Только смутное облегчение и сознание своей изворотливости.
Я пошел в свои прежние комнаты посмотреть, можно ли что-нибудь спасти. Там царил беспорядок, все было растоптано и поломано легионерами, да и после них слуги, несомненно, рылись в моем добре и растащили что могли. Мне особенно хотелось найти письмо, адресованное Юлию Присциану. Но оно исчезло. Очевидно, его передали Тигеллину. Уж не спасло ли оно мне жизнь? Мне удалось подобрать лишь несколько свитков, кое-что из нижнего белья, пару Носков из козьей шерсти и пучок тростниковых перьев. Я уложил все это в небольшой продавленный ящик.
Оглядывая свою разоренную комнату, я не спешил уходить, хотя меня здесь ничто не удерживало. Вошел раб с табличкой от Поллы. Она писала: «Поскольку с тобой случились неприятности в моем доме и ты, конечно, многое потерял, я дала указание своему казначею выплатить тебе двадцать тысяч сестерций. Полагаю, этой суммы тебе хватит на обратную дорогу в Испанию. Знаю, что он хотел бы, чтобы я так поступила. Прощай».
Мне пришло в голову, что она опасалась меня и решила мне заплатить, чтобы я убрался прочь. Потом я подумал, не смягчилась ли она и не следует ли мне попросить о вторичном свидании. Но сразу за посланцем пришел казначей. Хмуря мохнатые брови, он выплатил мне деньги — часть монетами, часть чеками. Я выдал ему расписку и на той же табличке приписал: «Благодарю тебя. Больше мне нечего сказать». Я с трудом удержался от соблазна написать ей еще о многом. Передав расписку казначею, я спрятал деньги вместе со свитками. Поразмыслив, каким путем мне выйти из дома, я направился к задней калитке. Проходя по саду, я увидел самодовольного красавца египтянина, который служил домоправителем у Поллы и был искусным юристом. В розовых кустах мелькнуло лицо Гермы. Она радостно улыбнулась и убежала.
В конце сада я остановился и оглянулся в последний раз. Я не испытывал никаких сожалений. Милей всего мне было оживленное лицо Гермы. Казалось, лишь воспоминание о ней как единственную ценность я уносил из этого дома, где пережил столько волнений и смертельных тревог. На душе было гораздо легче, чем я мог ожидать еще час назад.
Когда я вышел на улицу, меня окликнули. Я остановился, похолодев от страха. Сейчас меня арестуют или потребуют, чтобы я вернул деньги. Но вот я увидел ушастую лохматую голову Феникса. Радость нахлынула потоками света, звоном серебряных колокольцев. Феникс направлялся к дому Лукана справиться обо мне, как он это делал, оказывается, несколько раз в день. Я настоял, чтобы он зашел со мной в ближайшую таверну. Несмотря на его возражения, я усадил его на одну скамью с собой, и мы выпили за наше счастье. Я сообщил ему, что у меня есть деньги на обратный путь, но я еще не решил, что предпринять. Он советовал мне поскорее возвращаться домой. Но мое желание бежать из Рима уже несколько остыло. Как я ни жаждал уйти подальше от римских легионеров и стражников, я содрогался при мысли о том, что мне придется предстать перед отцом и семейным советом и поведать о своих ошибках и злоключениях. Ведь я не выполнил ни одного делового поручения. Вдобавок мне казалось, что за мной будут следить и мое возвращение вызовет аресты в Кордубе.
Феникс негодовал на двух других моих рабов, которые сбежали во время суматохи. Он предлагал мне подать городскому претору заявление о побеге. Однако я испытывал неприязнь к представителям власти и у меня не было желания разыскивать этих молодцов. Но к кому мне обратиться, если я еще задержусь в Риме? Все люди, с которыми я познакомился через Лукана, были замешаны в заговоре или же находились на подозрении у правительства. Я отгонял мысли о Цедиции. А что же Марциал? Мне захотелось с ним повидаться. Но тут же я подумал, что окажу ему плохую услугу, если устремлюсь к нему сразу после своего освобождения. С этой минуты, куда бы я ни пошел, мне все чудилось, что за мной следят. Раз или два мне показалось, что за мной идет человек, прилаживаясь к моему шагу, чтобы не потерять меня из виду. Затем мои подозрения рассеялись. Сидя в погребке, я внимательно осмотрел всех посетителей, чтобы в случае чего опознать лицо, которое следовало бы за мной.
Выйдя из таверны, мы направились в Субуру. Когда мы миновали храм Венеры и Рима, я послал вперед Феникса, поручив ему подыскать пристанище подешевле. Он должен был через полчаса встретиться со мной у башни Мамилия в долине между Эсквилином и Квириналом.
Теперь я мог наблюдать кипучую жизнь города, свободный от тревог. Меня радовала и забавляла всякая мелочь. Мальчишка, с серьезным видом удивший рыбу в сточной канаве; разносчики с кульками гороховой муки и копченой колбасой; уличные девки в темных тогах; старьевщики в сопровождении шустрых мальчишек, которые мигом подбирали все, что валялось на улице, и прятали в мешок; мясники, тащившие на лотках еще дымящуюся четверть бычьей туши, требуху, ярко-красные легкие; одноглазый сапожник, что стучал молотком, наклонив голову набок; харчевня, расположившаяся посреди забрызганной жиром улицы; гнусавый продавец засиженной мухами соленой рыбы и морских ежей; дородный торговец, стоящий среди колонн, на которых висели на цепочках фляги; лавочники, что подсчитывали выручку, щелкая счетами, и лукавые сводни с любовными напитками цвета меда. Все они были мне милы. По переулку, стуча палками и звеня колокольцами, неслись в дикой пляске растрепанные почитатели Беллоны[145]. Гигант-нумидиец с жезлом в руке расчищал дорогу для носилок своего хозяина.
Я остановился возле лавки цирюльника, у входа висела клетка, ворон в ней каркал: «Заходи». Я решил побриться и вошел. На лавках сидели трое бездельников. Один из них лениво настраивал лютню. Разговор шел о богатом вольноотпущеннике, который вложил деньги в строительство и благодаря этому получил римское гражданство.
— О да, он поистине наш спаситель, — сказал человек, сидевший рядом с музыкантом, он имел в виду Нерона, хотя и не называл его. — Он все время думает о нас.
— И впрямь, — подтвердил третий. — Вот мы погорели. И, как вы думаете, куда нас поместили? Во дворец Агриппы. Там поселили пятьдесят семей, еще сотни в садах и в термах. Потом нам дали полный набор домашней утвари. Привезли из Остии… В повозках, на ослах, на баржах, полным-полно!
— И цена на зерно понизилась на три сестерция, — заметил цирюльник.
Я сидел, ожидая, пока он кончит опрыскивать духами человека, занимавшего кресло. Бездельники толковали о жене торговца чесноком, жившего через улицу. Внезапно я почувствовал сильную усталость и стал бороться с овладевавшей мною сонливостью. Но вот я сообразил, что цирюльник обращается ко мне, порывисто вскочил, наткнулся на выходящего из комнаты человека и опустился в кресло.
— …так мы и не нашли мяча, — говорил кто-то. Цирюльник повязал мне широкую салфетку вокруг шеи и поднял подбородок. Я ощутил паническое отвращение к его рукам. Руки. Салфетка — жертвенная повязка. Однажды в Кордубе в последний момент вырвался бык, опрокинул и растоптал одного представителя власти, и, когда двое мужчин, повисших у него на рогах, валили быка на землю, другие двое тянули его за задние ноги, а он храпел и мычал, предвещая недоброе, кто-то рядом со мной сказал: «Я тоже не стану умирать без боя». Но у меня руки висели как плети, я ощутил только ужас.
— Могу дать полотняную или муслиновую салфетку — за добавочную плату, — сказал цирюльник. Маленький человек с редкими длинными намасленными волосами, зачесанными через лысину. Я поглядел на себя в зеркало, и меня поразило смотревшее на меня оттуда темное, осунувшееся лицо с бегающими глазами. А ведь когда-то я немало гордился своим лицом, правильными чертами, четким очерком подбородка, широким прямым лбом и серо-голубыми глазами. Когда-то. А теперь передо мной было олицетворение поражения, безликий образ с неопределенными, кое-как выведенными чертами, словно на детском рисунке, только беспокойные, бегающие глаза были живыми, но они были не мои. Не мои. Я старался вспомнить, чьи они.
Я попросил цирюльника сделать мне горячий, компресс. В углу помощник стриг юношу, по временам он отступал на шаг, щелкая железными ножницами, и убеждал клиента сделать сплошную завивку. Цирюльник кончил править бритву на оселке, который, как я сразу узнал, был сделан в Испании. Он ловко на него поплевал, смочил мне лицо, нацелил бритву, сделал несколько пробных движений и начал скрести мой щетинистый подбородок. Бритье для меня было, как всегда, болезненным, и трижды показалась кровь. Когда он кончил, у меня болели порезы, но я чувствовал облегчение. Помощник убедил клиента сделать сплошную завивку и грел щипцы на очаге с горящими углями. Попробовав железо пальцем, чтобы убедиться, что оно не перегрето, он стал наворачивать на них волосы юноши. Цирюльник проворно натирал мне щеки, кремом и прикладывал тонкие полоски полотна к порезам. Я терпеть не могу мушки, но у меня не хватало энергии от них отказаться. Все же мне удалось избавиться от кассии и киннамона, которыми он хотел умастить мне волосы. Тогда он предложил мне средство для удаления волос. Я решительно его отклонил.
— Мои лучшие клиенты ценят его, — обиженно сказал цирюльник. — Я нахожу, что это самое лучшее средство, оно приготовлено из сока плюща, ослиного жира и козьей желчи. Неплохое средство делают и на белом вине. Пожалуй, нельзя рекомендовать мазь из камеди и древесной смолы. Она воняет, господин. Оставляет следы и причиняет боль. Может быть, тебе слегка смазать подмышки мазью из плюща? Многие женщины и не посмотрят на мужчину с волосами под мышками. Мои лучшие клиенты бредят этой мазью! Моя собственная жена не пустит меня к себе в постель, если я не выведу волосы под мышками.
— Я не выношу бритья, — сказал музыкант, извлекая несколько нот из лютни. — У меня сразу воспаляется кожа. Поэтому я пользуюсь щипчиками. Правда, это долгое дело, приходится выдергивать волосок за волоском, зато хватает надолго.
В разговор вмешались остальные. Вошел еще посетитель и спросил, нельзя ли побрить его без очереди, ибо он торопится на обед, который дает их цех.
По дороге к Башне я наткнулся на Феникса, который уже бежал туда. Ему удалось подыскать по соседству две недорогие комнаты. Повсюду стояли разрушенные дома и возводились новые. Кирпич, битый камень, штукатурка, сломанные балки и кучи реек. Я обратил внимание на тонкость стропил. В Кордубе принято пользоваться более толстым лесом, хотя там и не строят, как в Риме, высоких доходных домов. Немудрено, что здесь они постоянно рушатся. В переулке стоял деревенский фургон, застигнутый рассветом, он должен был оставаться здесь до наступления темноты. Неподалеку виднелась лавка, где продавалась оленина, на вывеске я прочел строки из «Энеиды»:
Я опасался подвоха. Центурион подтолкнул меня дружелюбно и пренебрежительно, сказав, чтобы я поскорей убирался. Солдат провел меня к задней калитке, и не успел я проскочить, как он ее захлопнул. Весь сжавшись, я поспешно удалился. На улице уже не видно было легионеров. Но в Риме еще не восстановилась нормальная жизнь с ее деловым шумом. Мне чудилось, что прохожие показывают на меня пальцем, говорят о моем аресте, сторонятся меня. Однако никто обо мне не говорил, никто не обращал на меня внимания. Эти люди тоже чувствовали всю непрочность своей свободы, им мерещились тени, следующие за ними но пятам, тени людей, которые вот-вот схватят их и станут задавать вопросы, на которые нет ответа. Они чувствовали, что им вынесен смертный приговор и они лишь на время отпущены на поруки. Подобно им, я радовался, что меня толкают со всех сторон. Затерянный среди тысяч беззаботных людей, для которых я был лишь досадной преградой на пути, я радовался даже яркому свету, слепившему глаза. Грязный, впервые в жизни заросший щетиной, я слился с уличным потоком и был мучительно отторгнут от прошлого. Через некоторое время, осмелев, я стал вглядываться в лица людей. К моему огорчению, оказалось, что все они далеко не беззаботны, но замкнуты, суровы и чужды друг другу, как камешки, что швыряет на берег прибой. Мне как никогда захотелось уйти в себя. И вместе с тем меня подмывало совершить какой-нибудь замечательный поступок и дать выход обуревавшей меня безымянной радости. Как-нибудь выразить свою благодарность за чудесный дар жизни. И все же самые обыкновенные вещи казались сейчас странными и невозможными. Зайти в погребок и перекинуться словом-другим с соседом, помочиться в чан сукновала, спросить, сколько стоит банка горчицы или пучок лупина, поглазеть на заклинателя змей из племени марсов, размахивающего свитком с толкованиями снов. В этих повседневных поступках раскрывался весь смысл существования. Этих поступков я еще не смел совершить, опасаясь привлечь к себе внимание. По временам меня так одолевал страх, смешанный с восторгом, что я шел, пошатываясь как пьяный. Я знал, что стоит мне заговорить, как я стану запинаться или понесу всякий вздор.
Денег нет, идти некуда. Нечего и думать возвращаться в дом Лукана. Но все же я направлялся к нему, хотя и извилистым путем. Куда же еще? От легионеров я слышал о смерти Лукана. Конечно, теперь они перестали интересоваться его домом. Но если мне и не грозит опасность, какой прием окажет мне Полла? Погруженный в свои мысли, я ходил взад и вперед у парадного входа. Все как обычно, только странная тишина, не видно ни рабов, ни клиентов, двери закрыты. Они, несомненно, на запоре. Я удалился. Прямо на Форум. Зайти в храм Близнецов и принести обет? Но я повернул назад и на сей раз прошел к задней калитке. Постояв с минуту, я постучал. Я разглядывал царапины на стене, пытаясь уловить в них некий знакомый образ. Послышались шаги, и я испугался, что меня примут за какую-нибудь подозрительную личность, увидев мою разорванную одежду и неумытое лицо. Мне не отпирали. Я постучал громче. Снова и снова. Наконец скрипнул засов. Калитка слегка приотворилась.
— Впусти меня, — попросил я.
Раб узнал меня. Я проскользнул в сад. Он сообщил, что уже несколько дней, как ушли легионеры, что госпожа больна.
Я сказал, что хочу ее видеть. Он ушел. Я остался ждать в глубине сада. Носком сандалии я прочертил дорожку муравью, обремененному ношей. Наверняка она Захочет меня увидеть. Я вообразил картину встречи. Слезы и сетования. Потом успокоение, ласки. Как же иначе? Это в порядке вещей. У меня потеплело на душе, возродились надежды. В мирном солнечном свете цветы, безмолвная птица. Я помог еще одному муравью. Пролетевший мимо миртового куста воробей повернул ко мне голову, но не издал ни звука. Тут ко мне подошел домоправитель. Как всегда спокойный. Он сухо сообщил мне, что Полла по состоянию здоровья может уделить мне лишь несколько минут, и правел меня к ней. Она лежала на парчовом ложе, откинувшись на подушки, поблекшая, очень бледная, глаза ее стали огромными и были обведены синими кругами.
— Почему тебя отпустили? — спросила она слабым, мертвенным голосом. — Кого ты предал?
— Никого. Я слишком незначительная личность, чтобы меня убивать.
Она пристально посмотрела мне в лицо.
— В таком деле нет незначительных людей. — Лицо ее исказилось от боли. — Почему ты остался жив, когда он умер? Разве одно это не предательство?
Меня поразило, какую боль выражали ее маленькие сжатые руки. Но приступ скорби миновал. Она глядела на меня без слез, широко раскрытыми глазами, приоткрыв рот. И все же это была знакомая мне Полла, она интересовалась мной, и я еще мог привлечь ее к себе.
— Они допрашивали меня, и я рассказал им то немногое, что мне было известно. Какой смысл было отрицать то, что до меня признали куда более достойные люди? — Я почувствовал горечь в своем тоне и умолк, потом прибавил с печалью: — Он умер задолго до того, как велели говорить мне. Уверяю тебя, я для них не представлял интереса. Я слышал, как легионеры говорили о нем.
Теперь мне было стыдно, что ко мне отнеслись так снисходительно, так небрежно. На самом деле я отрицал, что мне было известно о заговоре, и сказал лишь одно: Лукан как-то упомянул, что ему может понадобиться отправить со мной в Бетику срочное послание. Казалось, Тигеллин лучше Лукана представлял себе всю незначительность моей роли. Он выслушал меня равнодушно. Мне не предъявили никаких обвинений, лишь подвергли допросу. Лукан уже умер, и, вероятно, они решили, что нет смысла заставлять меня повторять известные вещи. Внезапно мне пришло в голову: быть может, Тигеллин хотел проследить, не напишу ли я Гальбе и именитым людям Кордубы или не отправлюсь ли сразу туда сообщить им о катастрофе. Или Тигеллин был в хороших отношениях с Гальбой и не хотел направить суд по следу, который мог привести к тому. Меня путала и сбивала с толку мысль, что я всего лишь игрушка в его руках. Было нестерпимо думать, что за мной наблюдают и вот-вот снова меня схватят.
Мой голос дрогнул, словно я чувствовал свою вину, и лицо Поллы стало отчужденным. Все же я правильно поступил, скрыв от нее, что на допросе ничего не сказал о заговоре. Наш разговор могли подслушать, кому-нибудь поручили наблюдать за всем, что делалось в доме. Я даже опасался, что Полла может меня предать, если подвернется случай. Из желания отомстить за Лукана или спасая себя.
— Что бы там ни было, — медленно сказала она, глядя на меня с презрением и в гневе, что я намекнул на моральное падение Лукана во время допроса, — ты спасен. Хотя бы ценой лжи и предательства. Ты ответишь за это перед своей совестью, если только у тебя есть совесть.
— Я любил его, — проговорил я и впервые почувствовал, что он умер. Умер подлинной смертью, а не так, как побежденные во время игры дети, что вскакивают и вновь бросаются в бой. Мои глаза наполнились слезами. Я искренне горевал. Я испытывал к нему какую-то особенную любовь. Но скорбь моя была глубже этой непрочной любви. Я скорбел обо всем, что утратил с его смертью. О не-дописанных им поэмах и о тех, которые никогда не будут написаны. О своих собственных поэмах. С болью в сердце я думал о том, что он верил в поэзию и готов был умереть за нее, даже если в последнюю минуту и поддался малодушию. О благородстве, каким были проникнуты его сочинения. О всецело овладевшем им стремлении к высокой цели, о страстной, пламенной жажде братского общения, которую он порой обнаруживал. Все было растоптано железной пятой власти. Я скорбел и о том, что умерло во мне. Чего я еще не мог назвать. Скорбел о мире, осиротевшем с уходом моего друга. Я посмотрел на Поллу. Она, конечно, отзовется на мое горе и разделит его.
Глаза ее были сухи. Словно она ничего не переживала. Мне было досадно, что она не горюет об умершем поэте.
— Слова дешево стоят, — произнесла она. — Да и слезы. Мы плачем о себе. Я не плачу.
Она была одета небрежно, волосы были гладко зачесаны назад и скреплены узлом на затылке.
— Могу ли я чем-нибудь тебе помочь?
— Ничем.
Я почувствовал, что дело мое проиграно. Она сидела неподвижно, положив руки на колени. Мне захотелось броситься к ее ногам, но вместо этого я посмотрел на нее долгим взглядом, не вызвавшим никакого отклика. Я так надеялся убедить ее, что не купил освобождение ценой предательства. Но мне это не удалось. Оставаться дольше значило бы только вредить себе. Выйдя из комнаты, я подумал, что по крайней мере не разыграл дурака, понадеявшись, что она питает ко мне какие-то чувства, И еще понял, что ее скорбь неизмеримо глубже моей. По правде сказать, сейчас я ничего не чувствовал. Только смутное облегчение и сознание своей изворотливости.
Я пошел в свои прежние комнаты посмотреть, можно ли что-нибудь спасти. Там царил беспорядок, все было растоптано и поломано легионерами, да и после них слуги, несомненно, рылись в моем добре и растащили что могли. Мне особенно хотелось найти письмо, адресованное Юлию Присциану. Но оно исчезло. Очевидно, его передали Тигеллину. Уж не спасло ли оно мне жизнь? Мне удалось подобрать лишь несколько свитков, кое-что из нижнего белья, пару Носков из козьей шерсти и пучок тростниковых перьев. Я уложил все это в небольшой продавленный ящик.
Оглядывая свою разоренную комнату, я не спешил уходить, хотя меня здесь ничто не удерживало. Вошел раб с табличкой от Поллы. Она писала: «Поскольку с тобой случились неприятности в моем доме и ты, конечно, многое потерял, я дала указание своему казначею выплатить тебе двадцать тысяч сестерций. Полагаю, этой суммы тебе хватит на обратную дорогу в Испанию. Знаю, что он хотел бы, чтобы я так поступила. Прощай».
Мне пришло в голову, что она опасалась меня и решила мне заплатить, чтобы я убрался прочь. Потом я подумал, не смягчилась ли она и не следует ли мне попросить о вторичном свидании. Но сразу за посланцем пришел казначей. Хмуря мохнатые брови, он выплатил мне деньги — часть монетами, часть чеками. Я выдал ему расписку и на той же табличке приписал: «Благодарю тебя. Больше мне нечего сказать». Я с трудом удержался от соблазна написать ей еще о многом. Передав расписку казначею, я спрятал деньги вместе со свитками. Поразмыслив, каким путем мне выйти из дома, я направился к задней калитке. Проходя по саду, я увидел самодовольного красавца египтянина, который служил домоправителем у Поллы и был искусным юристом. В розовых кустах мелькнуло лицо Гермы. Она радостно улыбнулась и убежала.
В конце сада я остановился и оглянулся в последний раз. Я не испытывал никаких сожалений. Милей всего мне было оживленное лицо Гермы. Казалось, лишь воспоминание о ней как единственную ценность я уносил из этого дома, где пережил столько волнений и смертельных тревог. На душе было гораздо легче, чем я мог ожидать еще час назад.
Когда я вышел на улицу, меня окликнули. Я остановился, похолодев от страха. Сейчас меня арестуют или потребуют, чтобы я вернул деньги. Но вот я увидел ушастую лохматую голову Феникса. Радость нахлынула потоками света, звоном серебряных колокольцев. Феникс направлялся к дому Лукана справиться обо мне, как он это делал, оказывается, несколько раз в день. Я настоял, чтобы он зашел со мной в ближайшую таверну. Несмотря на его возражения, я усадил его на одну скамью с собой, и мы выпили за наше счастье. Я сообщил ему, что у меня есть деньги на обратный путь, но я еще не решил, что предпринять. Он советовал мне поскорее возвращаться домой. Но мое желание бежать из Рима уже несколько остыло. Как я ни жаждал уйти подальше от римских легионеров и стражников, я содрогался при мысли о том, что мне придется предстать перед отцом и семейным советом и поведать о своих ошибках и злоключениях. Ведь я не выполнил ни одного делового поручения. Вдобавок мне казалось, что за мной будут следить и мое возвращение вызовет аресты в Кордубе.
Феникс негодовал на двух других моих рабов, которые сбежали во время суматохи. Он предлагал мне подать городскому претору заявление о побеге. Однако я испытывал неприязнь к представителям власти и у меня не было желания разыскивать этих молодцов. Но к кому мне обратиться, если я еще задержусь в Риме? Все люди, с которыми я познакомился через Лукана, были замешаны в заговоре или же находились на подозрении у правительства. Я отгонял мысли о Цедиции. А что же Марциал? Мне захотелось с ним повидаться. Но тут же я подумал, что окажу ему плохую услугу, если устремлюсь к нему сразу после своего освобождения. С этой минуты, куда бы я ни пошел, мне все чудилось, что за мной следят. Раз или два мне показалось, что за мной идет человек, прилаживаясь к моему шагу, чтобы не потерять меня из виду. Затем мои подозрения рассеялись. Сидя в погребке, я внимательно осмотрел всех посетителей, чтобы в случае чего опознать лицо, которое следовало бы за мной.
Выйдя из таверны, мы направились в Субуру. Когда мы миновали храм Венеры и Рима, я послал вперед Феникса, поручив ему подыскать пристанище подешевле. Он должен был через полчаса встретиться со мной у башни Мамилия в долине между Эсквилином и Квириналом.
Теперь я мог наблюдать кипучую жизнь города, свободный от тревог. Меня радовала и забавляла всякая мелочь. Мальчишка, с серьезным видом удивший рыбу в сточной канаве; разносчики с кульками гороховой муки и копченой колбасой; уличные девки в темных тогах; старьевщики в сопровождении шустрых мальчишек, которые мигом подбирали все, что валялось на улице, и прятали в мешок; мясники, тащившие на лотках еще дымящуюся четверть бычьей туши, требуху, ярко-красные легкие; одноглазый сапожник, что стучал молотком, наклонив голову набок; харчевня, расположившаяся посреди забрызганной жиром улицы; гнусавый продавец засиженной мухами соленой рыбы и морских ежей; дородный торговец, стоящий среди колонн, на которых висели на цепочках фляги; лавочники, что подсчитывали выручку, щелкая счетами, и лукавые сводни с любовными напитками цвета меда. Все они были мне милы. По переулку, стуча палками и звеня колокольцами, неслись в дикой пляске растрепанные почитатели Беллоны[145]. Гигант-нумидиец с жезлом в руке расчищал дорогу для носилок своего хозяина.
Я остановился возле лавки цирюльника, у входа висела клетка, ворон в ней каркал: «Заходи». Я решил побриться и вошел. На лавках сидели трое бездельников. Один из них лениво настраивал лютню. Разговор шел о богатом вольноотпущеннике, который вложил деньги в строительство и благодаря этому получил римское гражданство.
— О да, он поистине наш спаситель, — сказал человек, сидевший рядом с музыкантом, он имел в виду Нерона, хотя и не называл его. — Он все время думает о нас.
— И впрямь, — подтвердил третий. — Вот мы погорели. И, как вы думаете, куда нас поместили? Во дворец Агриппы. Там поселили пятьдесят семей, еще сотни в садах и в термах. Потом нам дали полный набор домашней утвари. Привезли из Остии… В повозках, на ослах, на баржах, полным-полно!
— И цена на зерно понизилась на три сестерция, — заметил цирюльник.
Я сидел, ожидая, пока он кончит опрыскивать духами человека, занимавшего кресло. Бездельники толковали о жене торговца чесноком, жившего через улицу. Внезапно я почувствовал сильную усталость и стал бороться с овладевавшей мною сонливостью. Но вот я сообразил, что цирюльник обращается ко мне, порывисто вскочил, наткнулся на выходящего из комнаты человека и опустился в кресло.
— …так мы и не нашли мяча, — говорил кто-то. Цирюльник повязал мне широкую салфетку вокруг шеи и поднял подбородок. Я ощутил паническое отвращение к его рукам. Руки. Салфетка — жертвенная повязка. Однажды в Кордубе в последний момент вырвался бык, опрокинул и растоптал одного представителя власти, и, когда двое мужчин, повисших у него на рогах, валили быка на землю, другие двое тянули его за задние ноги, а он храпел и мычал, предвещая недоброе, кто-то рядом со мной сказал: «Я тоже не стану умирать без боя». Но у меня руки висели как плети, я ощутил только ужас.
— Могу дать полотняную или муслиновую салфетку — за добавочную плату, — сказал цирюльник. Маленький человек с редкими длинными намасленными волосами, зачесанными через лысину. Я поглядел на себя в зеркало, и меня поразило смотревшее на меня оттуда темное, осунувшееся лицо с бегающими глазами. А ведь когда-то я немало гордился своим лицом, правильными чертами, четким очерком подбородка, широким прямым лбом и серо-голубыми глазами. Когда-то. А теперь передо мной было олицетворение поражения, безликий образ с неопределенными, кое-как выведенными чертами, словно на детском рисунке, только беспокойные, бегающие глаза были живыми, но они были не мои. Не мои. Я старался вспомнить, чьи они.
Я попросил цирюльника сделать мне горячий, компресс. В углу помощник стриг юношу, по временам он отступал на шаг, щелкая железными ножницами, и убеждал клиента сделать сплошную завивку. Цирюльник кончил править бритву на оселке, который, как я сразу узнал, был сделан в Испании. Он ловко на него поплевал, смочил мне лицо, нацелил бритву, сделал несколько пробных движений и начал скрести мой щетинистый подбородок. Бритье для меня было, как всегда, болезненным, и трижды показалась кровь. Когда он кончил, у меня болели порезы, но я чувствовал облегчение. Помощник убедил клиента сделать сплошную завивку и грел щипцы на очаге с горящими углями. Попробовав железо пальцем, чтобы убедиться, что оно не перегрето, он стал наворачивать на них волосы юноши. Цирюльник проворно натирал мне щеки, кремом и прикладывал тонкие полоски полотна к порезам. Я терпеть не могу мушки, но у меня не хватало энергии от них отказаться. Все же мне удалось избавиться от кассии и киннамона, которыми он хотел умастить мне волосы. Тогда он предложил мне средство для удаления волос. Я решительно его отклонил.
— Мои лучшие клиенты ценят его, — обиженно сказал цирюльник. — Я нахожу, что это самое лучшее средство, оно приготовлено из сока плюща, ослиного жира и козьей желчи. Неплохое средство делают и на белом вине. Пожалуй, нельзя рекомендовать мазь из камеди и древесной смолы. Она воняет, господин. Оставляет следы и причиняет боль. Может быть, тебе слегка смазать подмышки мазью из плюща? Многие женщины и не посмотрят на мужчину с волосами под мышками. Мои лучшие клиенты бредят этой мазью! Моя собственная жена не пустит меня к себе в постель, если я не выведу волосы под мышками.
— Я не выношу бритья, — сказал музыкант, извлекая несколько нот из лютни. — У меня сразу воспаляется кожа. Поэтому я пользуюсь щипчиками. Правда, это долгое дело, приходится выдергивать волосок за волоском, зато хватает надолго.
В разговор вмешались остальные. Вошел еще посетитель и спросил, нельзя ли побрить его без очереди, ибо он торопится на обед, который дает их цех.
По дороге к Башне я наткнулся на Феникса, который уже бежал туда. Ему удалось подыскать по соседству две недорогие комнаты. Повсюду стояли разрушенные дома и возводились новые. Кирпич, битый камень, штукатурка, сломанные балки и кучи реек. Я обратил внимание на тонкость стропил. В Кордубе принято пользоваться более толстым лесом, хотя там и не строят, как в Риме, высоких доходных домов. Немудрено, что здесь они постоянно рушатся. В переулке стоял деревенский фургон, застигнутый рассветом, он должен был оставаться здесь до наступления темноты. Неподалеку виднелась лавка, где продавалась оленина, на вывеске я прочел строки из «Энеиды»: